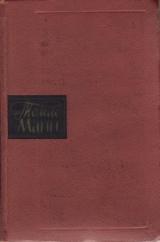
Текст книги "Королевское высочество"
Автор книги: Томас Манн
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 22 страниц)
Допустим, досада его извинительна, но его безумству оправдания нет, – а, к сожалению, после того, как директор остался глух к жалобам Юбербейна, он совершенно обезумел. Он потерял голову, утратил всякое чувство меры, он поднял на ноги всех, лишь бы не уступить класса этому пьянчужке, пивному бочонку, этому сапожнику, как он без стеснения обзывал вернувшегося из отпуска учителя, и, не найдя поддержки у коллег, – удивляться нечему, он сам всех оттолкнул от себя, – безумец дошел до того, что стал подстрекать к бунту вверенных ему учеников. Кого они желают иметь классным наставником на последнюю четверть, напрямик спросил он с кафедры, его или того? Захваченные его лихорадочным возбуждением, юноши закричали, что хотят его. Тогда пускай действуют, пускай все как один открыто заявят свою волю, сказал Юбербейн, бог ведает, что он в своем умоисступлении под этим подразумевал. Но когда после рождественских каникул прежний педагог вошел в класс – ученики стали безостановочно выкрикивать имя Юбербейна, и разразился скандал.
Впрочем, его постарались замять. Бунтовщики отделались очень легким наказанием, ибо, как только началось расследование, доктор Юбербейн сам признал факт подстрекательства. Но и на его поведение власти явно были склонны смотреть сквозь пальцы – Его ценили за усердие и незаурядные способности; напечатанные им научные работы, плоды ночных трудов, снискали ему известность, к нему благоволили в высших сферах, – кстати сказать, он не соприкасался непосредственно с этими сферами, а потому не успел озлобить их своим отечески покровительственным тоном; приходилось считаться и с тем, чго он в прошлом – воспитатель принца Клауса-Генриха, словом, его не отстранили попросту от должности, что было бы только справедливо. Дело попало на рассмотрение в главную инспекцию учебных заведений, там ему вынесли строгое порицание, после чего доктор Юбербейн, прекративший педагогическую деятельность, как только разразился скандал, получил временный отпуск. Однако люди осведомленные утверждали впоследствии, что ему грозил лишь перевод в другую гимназию, ибо в верхах только и желали поскорее предать эту историю забвению и ие препятствовать дальнейшей карьере доктора Юбербейна. Все могло еще наладиться.
Но, в противоположность начальству, коллеги заняли открыто враждебную позицию в отношении Юбербейна. «Учительское общество» срочно назначило суд чести с явным намерением дать удовлетворение своему высокочтимому сочлену, отвергнутому учениками, классному наставнику, иначе говоря, пивному бочонку. Юбербейн, живший затворником в своей меблированной комнате, получил письменное постановление, в котором говорилось следующее: своим нежеланием уступить коллеге, которого он замешал, должность классного наставника в предпоследнем классе, а в дальнейшем своими интригами против вышеназванного коллеги и наконец подстрекательством учеников к неповиновению, Юбербейн навлек на себя всеобщее порицание, ибо его поведение должно быть признано не только не товарищеским с узко профессиональной точки зрения, но и бесчестным с точки зрения общегражданской… Таков был приговор. А последствием его, как и ожидали, было заявление Юбербейна о выходе из «Учительского общества», хотя он и состоял там только номинально; на том, собственно, по мнению большинства, все могло бы и кончиться.
Но либо этот нелюдим не знал, как благосклонно продолжали к нему относиться в верхах, и смотрел на свое положение безнадежнее, чем оно было на самом деле; либо ему нестерпима была бездеятельность и преждевременная разлука с любимым классом; либо, наконец, его слишком больно уязвили слова о «бесчестности», а может быть, у него просто оказалось недостаточно душевных сил, чтобы перенести все эти потрясения, – так или иначе через месяц после нового года хозяева нашли его на потертом коврике у него в комнате, не зеленее обычного, но с пулей в сердце.
Вот как кончил жизнь Рауль Юбербейн;, вот на чем он споткнулся; вот что послужило причиной его гибели. Этого надо было ожидать! Таково было заключение почти всех разговоров о его плачевном конце. Этот беспокойный неуживчивый человек никогда не участвовал в застольной беседе, как друг среди друзей, высокомерно уклонялся от всякого сближения, с холодной рассудочностью целиком посвятил себя делу и полагал, что это дает ему право говорить со всеми на свете отечески поучительным тоном, – а теперь он лежит поверженный, постыдно капитулировав перед первой же неприятностью, первой неудачей на деловом поприще. Среди обывателей немногие жалели его и никто не оплакивал, вернее, оплакивал лишь один главный врач Доротеинской больницы, друг Юбербейна, человек родственный ему по духу, да еще, быть может, белокурая женщина, у которой он изредка играл в карты. Зато Клаус-Генрих неизменно с уважением и теплотой вспоминал своего несчастного учителя.
РОЗОВЫЙ КУСТ
И Шпельман начал финансировать государство; действия его были так просты, а размах так грандиозен, что малый ребенок мог бы их восчувствовать, – и в самом деле, сияющие от счастья отцы рассказывали об этом своим ребятишкам, подкидывая их на коленях.
Самуэль Шпельман кивнул, господа Флебс и Слипперс засуетились, и его властные приказы понеслись под волнами океана, к материку западного полушария. Он забрал треть своих вложений из сахарного треста, четверть из нефтяного треста, половину из стального треста, высвободившиеся средства он перевел в здешние банки, в один прием по номиналу приобрел у господина Криппенрейтера на триста пятьдесят миллионов нового трех с половиной процентного государственного займа. Вот что сделал Шпельман.
Кто по себе знает воздействие душевного состояния на организм человека, того не удивит, что доктор Криппенрейтер прямо расцвел и – в короткий срок сделался неузнаваем. Спина распрямилась, манеры стали независимыми, он не ходил, а парил как на крыльях, с лица сошла желтизна, на нем заиграл румянец, глаза заблестели, а пищеварение за несколько месяцев настолько наладилось, что министр, со слов близких к нему людей, мог безнаказанно лакомиться красной капустой и салатом из огурцов. Это хотя и отрадное, однако чисто индивидуальное следствие вмешательства Шпельмана в наши финансы, конечно, ничто по сравнению с тем, как его вмешательство сказалось на государственной и хозяйственной жизни нашей страны.
Часть займа пошла в фонд погашения, на уплату самых неотложных долгов. Впрочем, в этом даже не было необходимости, нам и так всячески шли навстречу и предоставляли кредит. Хотя в правительственных кругах вопрос решался келейно, но едва только наружу просочился слух, что Самуэль Шпельман если не официально, то на деле взял в свои руки государственные финансы, как горизонты перед нами прояснились и на смену бедам пришли радость и ликование. Держатели облигаций уже не сбывали их в панике, принятый внутри страны процент снизился, за нашими обязательствами теперь охотились как за выгодным помещением средств, и курс наших высокопроцентных займов, стремительно возрастая, не только вышел из плачевного состояния, но и перевалил за номинал. С народного хозяйства был снят гнет, десятилетиями тяготевший над ним кошмаром, и доктор Криппенрейтер с пафосом ратовал в ландтаге за радикальное облегчение налогового пресса, что и было постановлено единогласно, и, к восторгу всех поборников общественной пользы, допотопный налог на мясо приказал долго жить. Очень скоро прошло значительное повышение окладов чиновникам, содержания учителям и священнослужителям и всем лицам, занятым на государственных предприятиях. Нашлись средства и для того, чтобы пустить в ход заброшенные серебряные рудники, многие сотни рабочих получили кусок хлеба, и в процессе разработки неожиданно были обнаружены богатые рудою пласты. Деньги, деньги шли нам в руки, а с ними упорядочилось и хозяйство, начались новые посадки, лес не лишали естественных удобрений, владельцы скота оставляли себе часть цельного молока и пили его сами, а злопыхатели тщетно искали бы теперь по всей стране испитые лица. Народ на деле проявил свою признательность правящей династии, которой государство и граждане были обязаны столь сказочным благосостоянием. Господин фон Кнобельсдорф без большого труда убедил парламент увеличить цивильный лист. Постановление о продаже замков Монплезир и Отрада было отменено. Опытные мастера получили заказ сверху донизу оборудовать Старый замок паровым отоплением. Наши уполномоченные при Шпельмане господин фон Бюль и доктор Криппенрейтер были пожалованы Альбрехтовским крестом первой степени с бриллиантами, министру финансов было, кроме того, присвоено личное дворянство, а господин фон Кнобельсдорф получил почетный дар – портрет высоконареченных в натуральную величину, кисти маститого профессора фон Линдемана, вставленный в ценную раму.
После того как состоялось обручение, среди публики пошли фантастические слухи о размерах приданого, которое господин Шпельман дает за дочерью. Люди были опьянены, у них появилась неудержимая тяга к астрономическим цифрам. Но приданое не выходило из земных пределов, хотя от его величины поистине можно было возвеселиться. Оно составляло сто миллионов.
– Господи помилуй! – воскликнула Дитлинда цу Рид-Гогенрид, впервые услышав об этом. – Куда тут моему доброму Филиппу с его торфом…
Должно быть, такие мысли были у многих; но дочка Шпельмана делами благотворительности и милосердия смягчала невольное раздражение, которое поднималось в сердцах простых людей от такого несметного богатства; даже в самый день официального обручения она сделала вклад в пятьсот тысяч марок с тем, чтобы проценты с него ежегодно распределялись между четырьмя государственными округами для общественно полезных и человеколюбивых целей.
Клаусу-Генриху и Имме подавался один из шпельмановских оливковых автомобилей с кожаными сидениями кирпичного цвета, и они делали визиты членам Гримбургской фамилии. Великолепной машиной управлял молодой шофер, тот самый, у которого Имма находила сходство с Клаусом-Генрихом; но большого напряжения от него во время этих поездок не требовалось; наоборот, ему приходилось всячески умерять мощность мотора и непрерывно тормозить – такое повсюду бывало скопление публики, приветствующей молодую чету. Да, так как двое других виновников нашего благосостояния – великий герцог Альбрехт и Самуэль Шпельман – каждый на свои лад избегали общения с народом, – вся его любовь и признательность изливалась на высоконареченных; за шлифованными стеклами автомобиля взлетали в воздух картузы мальчишек, ликующие мужские и женские голоса пронзительно и гулко отдавались внутри, и Клаус-Генрих, приложив руку к каске, внушал Имме:
– Ты тоже должна кланяться в свое окно, иначе тебя сочтут гордячкой.
Ему так не терпелось быть ближе к ней что после разговора на придворном балу он стал говорить еп «ты», хотя она еще не сжилась с атмосферой пылких чувств и испуганно останавливала его, а как легко слетало у него с губ это словечко, казавшееся ему раньше таким фальшивым и неподобающим!
Они приехали к принцессе Катарине и были приняты сдержанно. Покойный великий герцог Иоганн – Альбрехт, ее брат, не допустил бы этого, сказала тетя племяннику. Но времена меняются, и она только молит бога, чтобы его нареченная освоилась с придворной жизнью. Они приехали к княгине цу Рид-Гогенрид, и здесь их приняли любовно. Родовая спесь Дитлинды успокоилась на том, что дочка Левиафана может стать принцессой великогерцогского дома и королевским высочеством, но принцессой, подобной ей, в которой течет кровь великих герцогов Гримбургских, не будет никогда; вообще же она была в восторге от того, что Клаус-Генрих в своих разведках откопал такую прелестную диковинку, и, будучи супругой торфяного князя Филиппа, лучше чем кто – либо могла оценить все выгоды такого брака, а потому от души предложила будущей золовке свою дружбу и сестринскую любовь. Поехали они и к принцу Ламберту в его виллу, и пока невеста-графиня силилась поддержать разговор с миловидной, но совершенно необразованной баронессой фон Рордорф, старый волокита замогильным голосом хвалил племянника за то, что он пренебрег предрассудками и своим браком дерзко бросает вызов и двору, и пресловутому высокому сану.
– Я и не думал бросать вызов своему высокому сану, дядя, и вовсе не гнался за одним только личным счастьем. Нет, я с чувством полной ответственности исходил из общих интересов, – довольно неучтиво возразил Клаус-Генрих; они вскоре распрощались и поехали за город во дворец Зегенхаус, где бедняжка Доротея, вдовствующая великая герцогиня, создала себе грустную пародию на придворный церемониал. Целуя юную невесту в лоб, она заплакала, сама не зная над чем.
Тем временем Самуэль Шпельман сидел в Дельфиненорте, разбираясь в чертежах, эскизах мебели, образчиках штофных обоев и рисунках для золотого обеденного сервиза. Он перестал играть на органе, забыл о камнях в почках, и даже румянец появился у него на щеках от непрерывных хлопот; хоть он весьма невысоко ставил «молодого человека» и не подавал надежды, что когда-либо покажется при дворе, но раз дочурка его собралась замуж, значит надо устроить ей свадьбу соответственно их материальным возможностям. Чертежи относились к новому дворцу Эрмитаж, так как холостяцкое жилище Клауса-Генриха решено было снести, а на его месте построить новый дворец, просторный и светлый, обставленный по вкусу Клауса-Генриха в смешанном ампирном и современном стиле, сочетающем холодноватую строгость с уютом и удобством. Однажды утром, выпив целебную воду в бювете, господин Шпельман самолично пожаловал в своем выгоревшем пальтишке в Эрмитаж, дабы выяснить, пригодится ли что-нибудь из мебели для обстановки нового дворца.
– Покажиге-ка, молодой принц, свое добро, – скрипучим голосом потребовал он, и Клаус-Генрих продемонстрировал ему спартанскую обстановку своих покоев, жесткие диванчики, прямоногие столы, белые лакированные консоли по углам.
– Хлам, – презрительно изрек господин Шпельман, – не подойдет. – Только три массивных кресла красного дерева с резными завитками на локотниках, из маленькой желтой гостиной, да желтая обивка с голубоватыми лирами снискали его одобрение. – Годятся для передней, – решил он, и Клаус-Генрих обрадовался, что эти три кресла составят вклад Гримбургов в убранство дворца; ему, естественно, было бы неприятно, если бы все шло исключительно от Шпельманов.
Не только дворец, но и заросший парк и цветник предстояло расчистить и заново распланировать, в частности для цветника было задумано особое украшение, которое Клаус-Генрих испросил в качестве свадебного подарка у брата, великого герцога. На большую среднюю клумбу перед въездом решено было перенести розовый куст из Старого замка, и тут, вне замшелых стен, открытый воздуху и солнцу, посаженный в самый тучный мергельный грунт, который будет специально для него заготовлен, он еще покажет, какие отныне способен давать розы, – или уж он настолько закоснел и зазнался, что не пожелает оправдать народную молву.
Когда миновали март и апрель, настал месяц май, а с ним высокоторжественный день бракосочетания Клауса-Генриха и Иммы. Он занялся, сияющий, благодатный, с позлащенными облачками средь ясной лазури, и, приветствуя его наступление, на башне ратуши загремел хорал. В поездах, пешком и в повозках стекались в столицу сельские жители, белокурый, коренастый, крепкий и косный народ с голубыми задумчивыми глазами, с широкими выступающими скулами, в красивой национальной одежде, – мужчины в красных куртках, в сапогах с отворотами и в широкополых черных бархатных шляпах, женщины в расшитых разноцветными шелками корсажах, в сборчатых коротких юбках и с огромным черным бантом на голове. Все они вместе с обитателями столицы толпились вдоль магистрали, соединяющей Курортный парк и Старый замок, которая была богато разукрашена ради торжественного въезда невесты, гирлянды тянулись между увитыми венками трибунами и выкрашенными белой краской, увенчанными цветами дощатыми обелисками. С самого утра на улицах замелькали знамена ремесленных цехов, стрелковых обществ и спортивных союзов. Пожарные в сверкающих касках были поставлены на ноги. Представители студенческих корпораций при полном параде разъезжали со своими флагами в открытых ландо, девушки в белом, составлявшие почетный эскорт невесты, держали в руках обвитые розами жезлы. Конторы и мастерские не работали. Школы были распущены. В церквах шло торжественное богослужение. Утренние выпуски «Курьера», а также «Правительственного вестника» наряду с прочувствованными передовицами помещали сообщение о широкой амнистии, согласно которой многим преступникам, приговоренным к лишению свободы, великий герцог даровал помилование или сократил срок заключения. Даже убийцу Гудехуса, который был при сужден к смертной казни, замененной пожизненной каторгой, отпустили на время с тем, чтобы после торжеств снова засадить в тюрьму.
В два часа в зале «Музея» был парадный обед для именитых горожан, с оркестром музыки и приветственными телеграммами. А в предместье происходило народное гулянье с пончиками и оладьями, с праздничным торгом и лотереей; для молодежи был устроен тир, бег в мешках и лазание на мачту за паточными пряниками. Но вот настал час, когда Имма Шпельман из Дельфиненорта направилась в Старый замок. Ехала она с большой помпой..
Флаги трепыхались под весенним ветром, от одного дощатого обелиска к другому были перекинуты широкие, толщиной с кулак гирлянды красных роз, на трибунах, на крышах и тротуарах чернели толпы народа, а между стоявшими цепью полицейскими, пожарными, представителями цехов и добровольных обществ, студентами и школьниками по усыпанной песком, празднично изукрашенной улице, под ликующие клики медленно подвигался поезд невесты. Впереди – двое пикеров в шляпах с галунами, при аксельбантах, предводительствуемые усатым шталмейстером в треуголке. Далее следовала запряженная четверкой карета, в которой вместе с дежурным камергером восседал один из чинов дворцового ведомства, в качестве великогерцогского комиссара отряженный за невестой. Во второй карете, тоже запряженной четверкой, ехала графиня Левенюль и при этом сердито косилась на двух сопутствующих ей придворных дам, явно подозревая их в безнравствен: пости. Далее гарцевало десять форейторов в желтых панталонах и синих фраках, которые трубили «Сплетем тебе венок из мирт». За ними шли двенадцать девиц в белом, усыпавших мостовую розовыми бутонами и веточками тиса. И наконец показалась влекомая шестериком карета невесты с большими зеркальными окнами в окружении пятидесяти представителей ремесленных цехов верхом на рослых конях. Выставив ноги в гамашах и натянув длинные вожжи, горделиво красовался на задрапированных белым бархатом козлах краснолицый кучер в шляпе с галунами; конюхи в ботфортах вели под уздцы попарно запряженных цугом белых лошадей, и два лакея в парадных ливреях стояли на запятках громыхающей кареты; глядя на их надменные физиономии, никто бы не поверил, сколь жуликоваты и пронырливы они в повседневной жизни. А в зеркальные стекла позолоченных оконных рам видна была Имма Шпельман в подвенечном уборе и рядом, приставленная к ней, престарелая статс-дама. Как снег под лучами солнца, сверкало на Имме платье из узорчатого шелка, а на коленях она держала букет белых цветов, присланный Клаусом-Генрихом за час до того. Ее экзотическое личико было цвета морских жемчужин, из-под фаты выбилась на лоб прямая прядка иссиня-черных волос, а черные, как уголь, огромные глаза красноречиво смотрели поверх обступавшей ее толпы. Но кто это беснуется, брызжет слюной и заливается возле подножки? Да это же Персеваль, пес из породы колли, – в таком невменяемом состоянии еще никто его не видал! Суматоха и движение разволновали его свыше меры, лишили всякого самообладания, окончательно вывели из себя. Он неистовствовал, выплясывал, изнемогал, охмелев от нервного возбуждения, извивался в слепой ярости, – а когда народ на трибунах, на панели, на крышах по обе стороны улицы узнал Персеваля, восторг достиг апогея.
Так ехала Имма Шпельман в Старый замок, и перезвон колоколов сливался с кликами толпы и бешеным лаем Персеваля. Шагом проследовал кортеж через Альбрехтсплац в ворота со львами; во дворе замка верховой эскорт из представителей цехов раздался на обе стороны и выстроился парадным строем, и под колоннадой обветшалого портала великий герцог Альбрехт в мундире гусарского полковника вместе с братом и прочими принцами встретил невесту, предложил ей руку и по серым каменным ступеням повел наверх, мимо почетного караула в парадные апартаменты, где собрался весь двор. Принцессы Гримбургского дома находились в Рыцарском зале, и там-то в кругу августейшего семейства господин фон Кнобельсдорф совершил обряд гражданского бракосочетания. Очевидцы рассказывали потом, что никогда морщинки в уголках его глаз не лучились так весело, как в тот миг, когда он, именем государства, сочетал браком Клауса-Генриха с Иммой Шпельман. Тотчас после этого Альбрехт II отдал приказ приступить к обряду церковного венчания.
Господин фон Бюль цу Бюль потрудился на славу, чтобы составить внушительное шествие – брачный кортеж, который проследовал по лестнице Генриха Великолепного и по крытому переходу во дворцовую церковь. Сгибаясь под бременем годов, но сохранив вкрадчивость манер и неизменный каштановый парик, по пояс увешанный орденами, обергоф – маршал молодецки выступал, вынося вперед высокий жезл, во главе камергеров, а те шествовали в шелковых чулках с отороченной плюмажем треуголкой под мышкой и ключом на талии, у заднего шва мундира. Далее следовала юная чета – окутанная ослепительно белым облаком невеста во всей своей экзотической прелести и наследник престола Клаус – Генрих в форме лейб-гренадерского полка с лимонно – желтой лентой через плечо. Шлейф Иммы Шпельман в полной растерянности держали четыре провинциалочки из земельной знати, за ними следовала графиня Левенюль, косясь по сторонам с недоверчивым видом, а господа фон Шуленбург-Трессен и фон Браунбарт-Шеллендорф шагали позади жениха. Оберегермейстер фон Штиглиц и страдающий подагрой генерал от театральных зрелищ предшествовали молодому монарху, который шел рядом с тетей Катариной, молча посасывая верхнюю губу, а за ними следовали министр двора фон Кнобельсдорф, адъютанты, княжеская чета цу Рид-Гогенрид и прочие члены правящей династии. Замыкали процессию снова камергеры.
В дворцовой церкви, декорированной растениями и коврами, шествия дожидались приглашенные. То были дипломаты с супругами, придворная и земельная знать, высшее столичное офицерство, министры, среди которых бросалось в глаза сияющее лицо господина фон Криппенрейтера, кавалеры Гримбургского грифа первой степени, председатели обеих палат ландтага и другие сановные особы. А так как обергофмаршальская часть разослала приглашения лицам из всех классов общества, то на церковных скамьях, радуясь в сердце своем, сидели также представители торгового сословия, крестьяне и скромные ремесленники. Впереди, у алтаря, разместились полукругом в красных бархатных креслах родственники жениха. Чистые и нежные голоса соборного хора возносились к сводам, а затем под торжественный гул органа вся община запела хвалебный псалом. Но вот в наступившей тишине раздался громкий благозвучный голос президента Консистории доктора Визлиценуса, который во всей своей седовласой красе, с выпуклой звездой на шелку рясы стоял перед высоконареченными и произносил искусно составленную проповедь. Он разработал ее, так сказать, на музыкальный лад, а за лейтмотив взял тот стих псалма, что гласит: «И жив будет и дастся ему от злата аравийска». Слушая его, все всплакнули от умиления.
Затем доктор Визлиценус совершил обряд венчания, и в тот миг, когда нареченные обменивались кольцами, затрубили фанфары и над городом и окрестностями прогремел первый пушечный выстрел, а всего с вала «Цитадели» их было произведено войсками тридцать шесть. Вслед за тем и пожарная команда начала пальбу из старых заржавленных пушек, но между отдельными залпами возникали длинные паузы, что послужило для обывателей неисчерпаемым источником шуток.
После благословения процессия в том же порядке возвратилась в Рыцарский зал, где все здравствующие представители рода Гримбургов принесли поздравления новобрачным. Затем состоялся торжественный прием, – Клаус-Генрих с Иммой Шпельман под руку проходили по навощенному паркету парадных апартаментов, где собрались все придворные чипы, и разговаривали с господами и дамами на положенной дистанции, милостиво улыбаясь им, Имма, выпятив губы, крутила головкой, когда заговаривала с кем-нибудь и выслушивала немногословный ответ почтительно изогнувшегося царедворца. По окончании приема в Мраморном зале был сервирован великогерцогский стол, а в зале Двенадцати месяцев – обергофмаршальский стол, и кушанья подавались самые изысканные из уважения к привычкам супруги Клауса-Генриха. Пришедший и чувство Персеваль тоже при сем присутствовал и получил свою долю жаркого. А после ужина студенты и жители столицы чествовали молодую чету по всем правилам – серенадой и факельным шествием. На площади плясали огни и стоял невообразимый шум.
Лакеи отдернули драпри на одном из окон Серебряного зала, распахнули створки, приходящиеся почти вровень с землей, и Клаус-Генрих с Иммой подошли к открытому окну, ибо ночь была теплая, весенняя. Возле них в чинной позе, с достойным видом восседал пес Персеваль и тоже смотрел вниз.
Все столичные оркестры играли на ярко иллюминованной, полной народу площади, и факелы шествующих мимо замка студентов озаряли поднятые лица дымно багровым светом. Раздался взрыв ликования, когда новобрачные показались у окна. Они кланялись и благодарили. А потом постояли еще немного, глядя на толпу и показывая себя ей. И народу было видно, как они шевелят губами, разговаривая между собой. Вот что они говорили:
– Прислушайся, Имма, как они благодарны нам за то, что мы не забыли об их нуждах и тяготах. Сколько же их собралось! И все стоят и приветствуют нас. Конечно, много среди них негодных людей, многие рады надуть ближнего, и для них великое благо быть поднятыми над повседневностью с ее прозой. А если вдобавок они видят, что мы не забываем об их нуждах и тяготах, благодарность их не знает границ.
– Но до чего же мы с вами, принц, глупы и беспомощны, одни-одинешеньки на высотах человечества, как, говорят, выражался доктор Юбербейн. Ведь мы ровно ничего не знаем о жизни!
– Ровно ничего, крошка Имма? А что же тогда внушило тебе доверие ко мне и меня принудило всерьез заняться вопросами общественного блага? Разве тот, кто узнал любовь, ничего не знает о жизни? Пускай же впредь делом нашей жизни будет то и другое вместе – высокий удел и любовь – нелегкое, суровое счастье.








