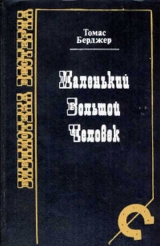
Текст книги "Маленький Большой человек"
Автор книги: Томас Бергер (Бри(е)джер)
Жанры:
Про индейцев
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 40 страниц)
В сухую летнюю пору Роузбад – речушка так себе, не речушка, а ручеек – местами всего-то три-четыре фута от берега до берега да столько же дюймов до дна, но попадаются в ней и ямы, и вымоины, и затоки с настоящими рыбными угодьями, где можно не только утонуть, но и, значит, наловить себе на ужин. Именно у такой затоки вечером первого дня Кастер и дал добро на бивак. Узрев возможность слегка поразвлечься, а также разнообразить походный рацион, что большей частью состоял из солонины и сухарей, бойцы устремились к затоке на рыбалку. Сказать, что рыбалка была их любимым из безусловно здоровых видов досуга, никак не скажешь, но охоту Кастер запретил, поскольку выстрел холмистых равнинах разносится так далеко, что переполошит и глухого, пусть даже он дрыхнет без задних ног под тремя одеялами за много-много миль от стрелка, вот по такому случаю у Лавендера разом объявился чуть не целый полк единомышленников. Окружённый вниманием, Лавендер, однако, не обрадовался, а почувствовал себя крайне неуютно: ему, ценившему одиночество как одну из самых притягательных сторон рыбалки, присутствие посторонних пришлось не по вкусу – он взял и забросил удочку. В кусты. Что ж, с каждым шагом нашего приближения к Лакотам он всё больше и больше отдаляется от окружающих, одиночество становилось его второй натурой, и даже ночи он ухитрялся коротать наедине с собой. Палаток, ввиду скоротечности кампании, мы не брали – солдаты ночевали под открытым небом (благо позволяла погода), а для удобства деликатных мест в земле выдалбливались ямки; так вот Лавендер и здесь оставался Лавендером: каждый раз он сооружал подобие индейского шалаша – набрасывал одеяло на куст или на вбитые в землю скрещенные колья и так скрывался от постороннего взгляда. В условиях той же хорошей погоды его ухищрения смотрелись довольно забавно и даже были бы смешны, когда б это не означало, что в кругу своего одиночества Лавендер не желал видеть даже меня, того, кто считался или, по крайней мере, числился его единственным другом.
В тот вечер, бесцельно блуждая по лагерю, почти впотьмах я налетел на какой-то кустарник, чертыхнулся и прямо перед собой увидел нечто тёмное и страшное – вроде присевшего на корточки гризли. От неожиданности я слегка опешил – чуть обратно в кусты не полез, но вовремя опомнился и сообразил: какие тут гризли, когда их здесь отродясь не бывало? Присмотрелся – действительно, никакой это не гризли, а самый обычный индейский шалаш. «Постой-постой, – подумал я себе, – а не здесь ли скрывается мой близкий друг Лавендер?» Подхожу поближе – шалаш как шалаш, да только не совсем: полог вверху не задернут – в крыше, выходит, Дыра, и сквозь эту дыру вьется к небу сизоватый дымок. «Ага, – думаю, – тут он, стало быть, и есть; но крыша, крыша-то уж точно поехала – это ж надо додуматься в шалаше готовить солонину; угорит ведь псих, как пить дать угорит!» Но прежде, чем броситься его спасать, я догадался потянуть носом и уловил запах, что никак не соответствовал паленой свинине, зато по всем статьям напоминал курительный табак. «Так вот чем он здесь занимается!» – сообразил я и уж совсем было собрался шугануть его шутки ради, да жалко стало и я передумал. Вместо этого я отошёл на два шага назад и тихо окликнул его по имени: «Лавендер!» Одеяло медленно разъехалось, в образовавшуюся щель хлынул мутный сумеречный свет и наконец показалась его тёмная физиономия, усыпанная крупными бисеринами пота – всё-таки жарковато ему приходилось в своей берлоге!
В руках у него длинная индейская трубка с черенком эдак фута на два – на три и каменная чаша; глаза не мигая глядят на меня, а сам он – истукан истуканом: не шелохнётся и ни гу-гу.
Зная Лавендера, я мог бы и не обращать внимания на видимое отсутствие гостеприимства: в конце концов, ему было гораздо хуже, чем мне: оба мы прожили достаточно долго у индейцев, оба были им чем-то обязаны, оба против своей воли возвращались к ним с войсками; но я пролез в армию исключительно в силу своей хитрости, не был вписан ни в какие реестры и жил, что называется, сам по себе: хочу служу, хочу – нет; Лавендер же – проходил по всем бумажкам, за службу получал жратву и деньги и, хочешь – не хочешь, а должен был их отрабатывать. Так что, как бы он ни пекся об этих индейских традициях, как бы свято их ни блюл, а суть вещей от этого не менялась: он был наемником и вместе с бледнолицыми шёл громить своих краснокожих собратьев! Так, во всяком случае мне представлялось в ту пору, когда и сам я был никем иным как соучастником готовящихся кровавых злодеяний.
…Ох, немало ж воды утекло с тех пор! Не скажу, что поумнел, но что изменился – это факт! Вот и прошлое – окинешь взглядом, а в нем – какой-то непонятный Джек Крэбб с какими-то странными амбициями, речами, поступками; иногда просто диву даешься: неужели это я? И вот этот самый Джек Крэбб непонятно с какой стати, но знаете ли, кичится перед Лавендером: то ли, значит, высотой своих помыслов, то ли мнимой своей независимостью, то ли – что совсем уж смешно! – принадлежностью к племени Кастера, Боттса, Большого Улисса, то бишь людей, что этого Лавендера и поят, и кормят, и одевают, и ещё деньги дают, чтобы, значит, шёл убивать своих бывших друзей, или соплеменников, или кто они ему там. Ох, запутался ты, Джек, запутался, и даже не понял, что несмотря на всю мелочь различий, оба вы одного поля ягоды, одного пера птицы, одной недоли дети; – вам и держаться вместе! Покричать, что ли? Да разве до себя докричишься?.. «Эй, Джек!» – неужто услышит? Кажись, услышал…
…Его безразличие к моей персоне меня не то что задевает, но как-то, знаете ли, коробит – в конце концов я, может, единственная для него родственная душа и уж как-нибудь да заслужил более душевного к себе расположения! В общем, обиделся я и даже повернулся уходить, бросив ему напоследок: «Не думал я, что ты такой занятой, – иначе б и не приходил!» – когда взгляд его несколько поосмыслился, и он прошлепал одними губами: «Входи и садись».
Так я и сделал, и вскоре мы передавали друг другу трубку, погрузившись в раздумия о нашем, значит, неприкаянном житье.
– Пожалуй, что деваться некуда, – подвел я некоторый итог своим раздумиям после пятой затяжки.
– Пожалуй, что так… – после длительной паузы согласился Лавендер.
Я выдохнул облако пахучего дыма – смесь была ещё та, настоящее индейское зелье, небось доставал где-то; да хоть у тех же ри…
– Слышь, Лавендер, – спросил я, – а ты ведь мне так и не сказал, чего тебя в армию понесло, в твои-то годы…
– Да вот… на родину потянуло – родные места поглядеть… Помирать скоро буду.
Я ещё подумал-подумал и понял, что он имеет в виду, и оценил его простую искренность. Ну вот, казалось бы, чего там в этих его родных местах: кактусы да полынь; чапараль да мискит; ну, тополя кое-где; бузина всякая, а больше и нет ничего – холмы да овраги; а вот поди ж ты – не может без них человек, не может – и всё тут! Говорят, рыба такая есть: всю жизнь ходит себе, ищет где кормёжки больше, а как помирать, так не куда-нибудь, а в родную речку, вот оно как бывает…
– Лавендер, а, Лавендер! А ты встречал кого-нибудь из этой своей родни, ну, что потомки того, знаменитого, который путешествовал с Кларком и Льюисом?
– Нет, – вздохнул Лавендер, – никого. Ни одного человека, о ком можно было бы сказать с уверенностью – да, это он. Правда, среди Лакотов попадаются смуглые, очень смуглые лица, но откуда они взялись, как их разберешь! Да и не в этом дело. Я ведь толком-то даже и не искал а как попал в племя, так, как бы это сказать… в нём и нашёл всю родню, какая мне была нужна. Да ты ведь и сам знаешь: чужаков они – кто любит, кто не любит, но нет в их сердцах ненависти, ненависть они берегут для врага.
Лавендер откинул одеяло пошире. Презрев дым и чад от нашей трубки, в шалаше радостно завыли комары. Похоже было на то, что сидя на ветках, они всю жизнь только и дожидались, пока мы появимся у них под кустом, чтоб утолить их сосущую жажду до следующей великой оказии. Пыхнув трубкой ещё два раза я ощутил зуд во всех сколько-нибудь уязвимых участках тела.
– Да-а, грызутся, – хлопнув себя по лбу, отметил я. – Вот и эти… такие же.
Говоря об «этих», я имел в виду уже не комаров. Но Лавендер понял меня с полуслова.
– Да-а, – кивнул он, – ты бы слышал, как они честят Кастера – слова такие, будто он всем и каждому самый что ни на есть кровный враг! Ну, разве вождь и племя не одно и то же? И разве во главе племени может стоять кровный враг? Джек, они его ненавидят, ненавидят и презирают одновременно, и не только его одного. Здесь каждый ненавидит каждого и все презирают всех, и все… с этим смирились. Возьми вот Рино: ну, какой мужчина потерпит, чтоб ему безнаказанно дали пощечину? А в Линкольне, в офицерском клубе, капитан Бентин отвесил ему такую оплеуху, что весь клуб вздрогнул – и ничего… А Бентин? Письмо в газеты написал – про Уошито, очень плохое письмо, очень Кастера обидел. Кастер хотел его плеткой отстегать, а капитан – за пистолет: «Попробуй!» – говорит. Но Кастер уже передумал и пробовать не стал.
Лавендер осуждающе покачал головой – то ли в адрес Кастера, то ли в адрес Бентина.
– Я тебе про Бентина вот что скажу, – добавил он спустя затяжку, – ты-то, может, и не знаешь, но сам он из южан, а как началась война, он – единственный из всей семьи! – переметнулся к янки, под полосатый флаг, и тогда старый Бентин горько пожалел о том, что породил такое чудовище – предателя, и проклял его, и попросил у небес, чтобы младшего Бентина убили в первом же бою! Но в первом же бою Бентина не убили, а как подвернулась возможность, он сам попросил какого-то большого генерала, и старого Бентина упекли в федеральную тюрьму – до самого конца войны! Вот ведь как – родного отца! – в тюрьму засадил…
– А моего отца убили Шайены, – зачем-то признался я. – Его убили, а меня вот – вырастили и воспитали, как родного сына…
– А я своего даже ни разу и не видел, – сказал Лавендер. – Хозяин продал его, когда меня ещё и на свете не было…
– …А я… – и тут, повинуясь какому-то безотчетному чувству, я рассказал ему всю свою жизнь: про Олгу и Гэса; про Солнечный Свет и Утреннюю Звезду; про Бешеного Билла и Амелию; про то, как оно вышло у меня в Денвере, и про то, что случилось на Уошито.
– Да-а-а, – сочувственно вздохнул Лавендер после того, как я умолк, – никогда бы не подумал, что быть белым, оказывается, тоже непросто.
– А это смотря какой белый! – ограничил я сферу его сочувствия. – Ты вон погляди на Кастера – ему родных разыскивать не надо, он их всех за собой в поход тащит!
– Что ж, можно сказать и так, – опять же вздохнул Лавендер, но вздох у него при этом какой-то такой двусмысленный…
– А тебе что, его жалко, что ли? – спрашиваю я напрямик.
Лавендер начинает выбивать трубку, потом ещё долго ковыряет золу и, наконец, снова вздыхает: «Да, жалко – не жалко, а ничего плохого он мне не сделал. Он, понимаешь ли, всегда относился ко мне как к ЧЕЛОВЕКУ. А что до тебя, Джек, то ты не забывай, пожалуйста, что он ведь солдат…»
– …А солдаты убивают, – продолжил я за него.
– …И умирают… – продолжил он за меня. – И если дойдет до смерти, то уж кто-кто, а Кастер сумеет умереть достойно.
С этими словами он спрятал трубку в кожаную суму (тоже индейское наследство) и поставил в нашем разговоре точку: «Джек, а ты… эта… завещание мне написать не сможешь?»
* * *
Не в силах отказать другу в его просьбе, я побрел по вечернему биваку в поисках карандаша и бумаги, но отыскать их в нашем полку, даром что командир такой писатель, было не легче, чем отыскать иголку в стоге сена. Огней в лагере не разжигали по той же причине по какой Кастер запретил охоту: огонь в ночной степи, как вы понимаете, виден каждому – даже спящему под тремя одеялами слепому; и вот я бродил в потемках, натыкаясь то на солдатские ноги, то на солдатские котелки, но грамотей мне попался лишь один. Этот деликатный образованный человек, не задавая лишних вопросов, позаимствовал мне карандашный огрызок, но вот с бумагой-то даже у него было худо. У него, собственно, вообще была только одна бумага, и ту он бережно хранил у своего сердца, потому как то было письмо его жены, и дать его мне он никак не мог. Я совсем было расстроился, но на фоне ночного неба увидел три тёмные фигуры, в которых опознал офицеров: лейтенантов Уоллеса, Макинтоша и Годфри – у кого ещё можно было выклянчить бумагу, как не у них! У них и бумага была подходящая – бланки приказов, – как раз то, что нужно и для завещания, оно ведь тоже по-своему приказ, только для душеприказчиков.
Позже я выяснил у того же Боттса, что в тот вечер у офицеров было совещание с Кастером – вещь настолько необычная, что под её воздействием в офицерские головы сразу полезли дурные мысли, а начиная с ночи офицеры уже разбились на два лагеря: на тех, кого мучит бессонница, и на тех, кому снятся кошмары. Боттс мне потом признавался, что на его памяти это было первое совещание, на котором Кастеру понадобился совет, поскольку Кастер, если с кем-то и советовался, то исключительно с самим собой. Неудивительно, что когда я повстречал эту троицу, они показались мне какими-то не такими: было бы посветлее, я бы сказал, что на них просто лица нет! Не зная сути дела (а я узнал её лишь на следующий день), можно было вообразить, будто они вдрызг проигрались в карты или, что того хуже, посажены на хлеб и воду за злоупотребление спиртным. Оказывается, это они шли с совещания. На совещании Кастер никого не распекал, не чихвостил и даже слова дурного не сказал, наоборот – он спокойно объяснил, что отказался от пушек, дабы не задерживать продвижение колонны, а кавалеристы полковника Гиббона могли стать помехой в моральном смысле, разбив полк на своих и чужих… после чего потрепался об особенностях данной компании в отличие от всех предыдущих и, наконец, испросил мнения и совета офицеров. Вот это их и доконало. От Кастера можно было ожидать чего угодно: он мог приказывать, требовать, настаивать, кинуться с плеткой на Бентина – но просить совета?! «Просит совета – ишь ты! – недоумевал Боттс. – С чего это вдруг?» После разговора с Боттсом мне стали понятны туманные опасения лейтенантов, пока я следовал за ними, не решаясь обратиться насчёт бумаги.
– Годфри, – ни с того ни с сего, как мне показалось, вдруг говорит Уоллес, – я начинаю думать, что в глаза Кастеру уже заглянула смерть.
– С чего вы это взяли, лейтенант? – очень вежливо (понятно, что под впечатлением от совещания) спрашивает Годфри.
– Да ведь, чёрт побери, никогда раньше он так не говорил!
Макинтош переводит взгляд с одного на другого и молчит.
Его мнение показалось мне наиболее значительным: в его жилах текла индейская кровь (мать была из восточных Ирокезов), и слов на ветер он зря не бросал.
Пройдет совсем немного времени, и эта троица распадется: в живых останутся двое, а третий… с третьего индейцы снимут скальп. Так вот, этим третьим как раз и будет лейтенант Макинтош.
Ну а я, видя занятость офицеров своими мыслями, так и не решился обратиться к ним со своим пустяком. Определив, что так или иначе нахожусь на офицерской тропе, я решил подождать кого-нибудь менее занятого.
Именно таким человеком и оказался капитан Кио со своими огромными чёрными усами и маленьким клинышком бородки под нижней губой.
Кио был ирландцем и в своё время служил не где-нибудь, а в папской гвардии в самом Ватикане, откуда, видимо, и вынес главные свои жизненные убеждения.
– О чём речь! – не колеблясь ответил он на мою просьбу. – Разыщи Финнегана, пусть выдаст из моего письменного набора.
Финнеган, по утверждению Боттса, числясь у Кио денщиком, в действительности состоял при нем чем-то вроде опекунского совета или ангела-хранителя казны. Основанием для такого утверждения служили недавние события в Линкольне, когда Финнеган внезапно наложил свою лапу на все капитанские денежки, чем, однако и спас как их, так и самого капитана – последний уже был готов допиться до окончательного посинения.
Поблагодарив капитана за отзывчивость, я уже повернулся уходить, но тот остановил меня странным вопросом:
– А ты-ы… уж не завещание ли собрался писать?
– А как вы догадались? – спросил я, потрясенный такой его проницательностью.
Капитан от души рассмеялся, в чем, услышав его смех, я поначалу узрел даже какое-то издевательство над общепринятым трепетным отношением ко всему, что окружает наш переход в иной мир, но поразмыслив, я в дальнейшем пришёл к тому выводу, что по всей вероятности, столкнулся сейчас с так называемым знаменитым «ирландским юмором», вся соль которого, может, в том и состоит, чтобы вот так – от души! – посмеяться, когда хочется плакать.
– А я уже написал, – отсмеявшись, признался Кеог. – ещё вчера. Правда, это было уже после того, как Том Кастер с Колхауном ободрали меня в карты. Так что завещать мне было особенно нечего.
– Тогда зачем же вы написали? – чувствуя, что попал в какую-то завещательную эпидемию, спросил я.
Ясный взор Кио пронзил меня сквозь вечернюю мглу.
– А затем, ЧТОБЫ БЫЛО, пропади оно пропадом! С тем я и поплелся искать Финнегана. Насчёт бумаги он был неприжимистым, и я взял бумагу, и вернулся к Лавендеру, и мы с ним состряпали наши завещания: Лавендер все завещал мне, а я, значит, ему, но затем встал вопрос с распорядителем нашей последней воли.
– Давай вот что, – предложил Лавендер, – свернем-ка мы… эта… нашу последнюю волю в трубочку, сунем в гильзу и дадим на сохранение Кровавому Тесаку.
– Почему Тесаку? – не понял я. – Он, что, не такой, как все?
– Тесак из племени ри, а все Ри – трусы, – с надменной лакотской гордостью пояснил Лавендер. – Вот увидишь, он сбежит с первым же выстрелом. И будет бежать и бежать – до тех пор, пока его не остановит Миссури.
По поводу этого заявления Лавендера я могу добавить лишь то, что монополией на истину, видимо, не обладает ни одна из живущих на земле рас: никуда Кровавый Тесак не сбежал, а уже в долине был убит выстрелом в голову, и его мозги забрызгали весь мундир майору Рино. Но к нашему завещанию это уже не относится, поскольку ни малейшего касательства к нему никакого Кровавого Тесака я не допустил – я его просто сжег. Жить с бумагой о своей смерти показалось мне дурным знаком. Правильно ведь говорил капитан Кио – ПРОПАДИ ОНО ПРОПАДОМ: но я-то его послушал, а он себя нет. Оттого, может, оно так и вышло, что я вот до сих пор жив, а Кио…
* * *
На другой день мы отмахали что-то около тридцати миль вверх по Роузбад и на исходе пятой мили наткнулись на тот индейский след, что разыскали разведчики Рино. Я все ещё тащился с обозом; а мулы, они мулы и есть, куда им за лошадьми? Так что колонна уходила все дальше и дальше, и когда я добрался до индейского следа, то обнаружил, что по нему уже здорово потопталась наша конница: кругом, где надо и не надо, виднелись отпечатки кавалерийских подков. И всё же по ширине полосы, что составляла порядка трёхсот ярдов, я сумел прикинуть приблизительную численность прошедших здесь людей. И если я был прав (а я думаю, что я был прав) то прошло их здесь никак не меньше тысяч, эдак, четырех, а то и пяти. В этой своей оценке я укрепился ещё больше после того, как повидал места ночных стоянок, что время от времени попадались на протяжении нашего пути, – шли-то мы, пусть и с обозными неприятностями, но куда шибче индейцев, и расстояния меж биваками у нас были не в пример длиньше ихнего; так вот, кольцевых отметин, означавших типи, насчитал я никак не меньше тыщи, а уж дырок от всякого дреколья, где стояли шалаши, так и вовсе было без счёту.
Естественно, что полноценных воинов среди всей этой публики была от силы половина, да и то – вряд ли; скажем так – треть с хвостиком; но имея дело с индейцами, всегда надо учитывать, что любой индейский мальчишка старше двенадцати уже умеет обращаться с оружием, а уж украситься «белым» скальпом – то его самая наизаветная мечта.
Побрезговав пушками и кавалеристами полковника Гиббона, Кастер, однако же, не отказался от услуг его разведчиков – индейцев из племени Ворон, чьи родные места сейчас, значит, и топтали наши кони. А в наши союзники Вороны угодили по тем же соображениям, что и Ри: их и так было по пальцам пересчитать, а заклятые соседи, те и вовсе довели их чуть не до полного исчезновения из природы. Но исчезать им, ясное дело, не хотелось, и от такой жизни глядели они на Кастера как на своего лучшего друга, защитника и спасителя. Надо полагать, что при жизненной важности для них этого похода они «вычитали» след самым добросовестным образом и, как есть, все доложили Кастеру. Какое отношение имел ко всему этому я? Да в общем-то никакого. После того, как Кастер отверг мои разведческие услуги, нарываться на его грубость вторично я уже не собирался. Не собирался, не собирался, но пришлось. А виной тому был приобозный лейтенант, что околачивался при нас в должности начальника походного охранения.
Работенка у него была – не бей лежачего, и от безделья он таки сильно изнывал. Ну, охраняешь, так охраняй себе, чего других понукать-то? Ну да к тому часу он уже притерпелся к нашей маневренности и давно уж не брызгал слюной, когда мы в очередной раз принимались перевьючивать нашу животину; а та, кстати сказать, так и норовила избавиться от лишнего груза, причем, особенно от ящиков с патронами, и тут уж наши мулы проявляли такую завидную прыть, что и лошадям не снилась – выскальзывали из поклажи, как мылом намыленные! И вот в один из таких разов, когда лейтенант стало быть, подустал орать, как недорезанный, и уже совершенно успокоился, я и обратил его внимание на несоответствие нашего и индейского следов, каковое, значит, и наблюдалось не в нашу пользу. «Большая деревня!» – указал я ему на ширину индейского следа.
На что лейтенант ухмыляется, как будто перед ним зеленый новобранец, и, ухмыляясь, допускает, что, действительно, имело место несколько сот голов противника.
Я подумал, что ослышался. И спрашиваю, а что, мол, по этому поводу доносят наши друзья-разведчики.
И что отвечает мне этот индюк? А индюк мне отвечает: какой, мол, прок в их донесениях, когда эти Вороны, хоть и славные ребята, а к настоящей войне несподручные, и потому глазомер у них сильно преувеличен.
– Когда б ты послужил на фронтире с мое, – отвечает он, – ты б уже усвоил, что при их глазомере нужно всё в аккурат делить на три.
…Я уже рассказывал вам о том, как небезразличны мне были индейские беды, и как распереживался я из-за солдат, когда они встретились со своим скелетом, но есть же в конце концов и такое близкое каждому человеку понятие, как собственная шкура! И вот, чем ближе мы подбираемся к индейцам, тем ближе и дороже становится мне она. И тут я чувствую, что в её интересах немедленно покинуть этот черепаший обоз и, даже не плюнув на этого индюка с куриными мозгами, я с места срываю скакуна в карьер.
Я был уже далеко, когда до меня донеслось его напутственное слово. Ну, что сказать? Оно характеризовало лейтенанта как человека очень неразборчивого в средствах выражения. Единственное, что я сумел разобрать, это то, что не видать мне, такому-растакому, жалованья, как своих ушей. Но я и не рассчитывал. Я уносился все дальше и дальше и даже не обернулся дать ему прощальный совет: протереть глазомер и прочистить мозги – ибо, когда б я и впрямь решил дезертировать, то уж, наверное, скакал бы в обратную сторону, а я скакал к голове колонны по тому самому индейскому следу, что мнился ему втрое уже того, что было на самом деле…
Впрочем, сказав, что я уносился, я имел в виду скорее состояние моего духа, нежели состояние пони – лошадку Кровавый Тесак мне продал совсем никудышнюю: пони был по-индейски, не подкован, копыта стерлись, и бедняга даже не знал на какую ногу хромать; так что хромал он на все четыре, а земля, как назло, сухая и грубая, потому как ежели где раньше и росла какая трава, то всю её обожрали непомерные табуны Лакотов. По такому случаю скакать мне довелось не час и не два, и потому вообразите моё внутреннее негодование, когда Кастера в колонне не оказалось! Не было его и в авангарде. А был он ещё в полутора-двух милях впереди. Тут я и вспомнил об этой сумасбродной генеральской привычке разъезжать впереди войск. Привычка эта заводила его весьма далеко: иногда к разведчикам, а иногда и того Дальше – к чёрту на рога. Ходили подозрения, что он тайком охотился. Может, и охотился. Но только не в эту кампанию. Нынче ж ему было и вовсе не до охоты – когда я подъезжал, Кастер был окружён… индейцами.
Окружение происходило на невысоком пригорке всего в трёх четвертях мили от меня. Помощи было ждать неоткуда. Я зажмурился и, не взирая на численное превосходство противника, коршуном бросился на него Подъехав поближе, я обнаружил, однако, что индейцы вроде как и не спешат снимать с генерала скальп а наоборот – беседуют с ним очень даже мирно; присматриваюсь – тьфу ты! – да ведь это ж не те индейцы от которых надо спасать Кастера, – будет такая нужда, они его и сами спасут! Одним словом, Кастер находится в окружении Ворон. Был здесь и Тот-Кто-Бежит-От-Белого, и Лицо Вполовину Жёлтое, и Тот-Кто-Держит-Путь, и совсем ещё молодой Кучерявый. Был с ними и толмач, бело-индейская помесь по имени Митч Боуэр. В общем, пока я их рассматривал, Кастер от меня улизнул, а как и когда – я и сообразить не успел. Зато вся эта компания встретила меня на пригорке, и не могу сказать, что очень дружелюбно.
По своей памяти я тоже не испытывал к ним дружеских чувств. А в этой толпе, вдобавок, находился Тот-Кто-Бежит-От-Белого, который в пору моей вражды с Воронами уже был взрослым воином; и вот я чувствую, что я у него вроде бельма в глазу: как оно выскочило, он толком не поймет, но то, что есть – прекрасно понимает. Мысленно он уже подставляет меня в различные картины своего прошлого, и ввиду их небогатого разнообразия, есть серьезная опасность, что вспомнит.
Честное слово, я испытал огромное облегчение, когда из-за холма, направляясь к нам, показался старший белый разведчик по имени Чарли Рейнольдс, эдакий приземистый малый с покатыми плечами. Он был действительно одним из лучших белых разведчиков фронтира, совсем не чета некоторым длинноволосым, вроде того же Буффало, Билла Коуди да и некоторых других, что больше славились умением пускать пыль в глаза, нежели ходить по следу. Единственный недостаток Чарли состоял, видимо, в том, что беседовать с ним было одно сплошное удовольствие, но только для тех, кому не нужен… собеседник. Своё участие в разговоре он ухитрялся низвести до такой степени односложности, после которой надобность в словах вскорости должна была отпасть вовсе. Неудивительно, что его прозвали «Одинокий Чарли» – это прозвище вы, конечно, слыхали; и слыхали гораздо чаще, чем его полное настоящее имя – Чарли Рейнольдс.
__ Чарли! – говорю я ему. Он тут же втыкает глаза в землю – такой, значит, своеобразный у него был способ общения. – Чарли! Ты сказал генералу, сколько здесь прошло индейцев?
– Гм, – произносит он в ответ, что судя по интонации, скорее всего означает «да».
– Это я к тому, – говорю я, – что некоторые офицеры заблуждаются насчёт того, что их можно по пальцам пересчитать.
Он пожимает плечами и что-то сосредоточенно высматривает на земле – судя, опять же, по его виду, то, должно быть, следы какой-то букашки или козявки, что незадолго до нас пробегала здесь по своим делам; лошадь его при этом не шелохнется – обученная.
Тут к нам подъезжает Митч Боуэр с таким, знаете ли, ко мне заявлением, какое из уст белого человека обычно воспринимается как признак недостаточной культуры; но в устах индейца – неужто опознал меня этот чёртов Тот-Кто-Бежит-От-Белого?! – в устах индейца здесь звучит уже нехорошая угроза; а при индейском уважении к слову отнестись к ней надлежит со всей серьезностью.
Впрочем, даже в худшем случае в заложниках у меня остаётся всё тот же Чарли, ибо заодно им придётся кончать и его – не может же он остаться безучастным к такому гнусному преступлению на «расовой почве»! Но Рейнольдс даже не подозревает о своей миротворческой миссии и продолжает изучать муравьиный след, вто время, как подъезжает к нам этот самый Митч Боуэр и говорит, обращаясь ко мне:
– Что тебе нужно?
– Сберечь скальп, – честно отвечаю я.
– Это будет трудно, – поразмыслив над моими словами, отвечает мне Митч Боуэр. – Это будет большой бой. Очень большой!
Засим он поворачивает коня и возвращается к своим Воронам – у меня отлегло от сердца: видать, он и впрямь ещё не набрался культуры, но это не опасно.
На протяжении нашего разговора Чарли бросил один взгляд на Митча, затем вновь уставился в землю.
– Чарли! – говорю я ему, – слишком много выходит на нас одних! А ведь он ждать не будет – ни Терри, ни Гиббона…
– Э-а… – согласился Чарли.
– Но, черт возьми! Хоть ты-то можешь ему объяснить? Ведь если он кого и послушает, то уж, наверное тебя!
– Нет, – отвечает он. И трогает лошадь с тем, чтобы удалиться. Я замечаю, что его правая рука на перевязи.
– Что, рана? – спрашиваю.
– Ногтоеда, – говорит он.
– Стрелять-то можешь?
– Э-а-а, – отвечает он и, вкрай изможденный длительной беседой, съезжает с глаз долой.
– …Рейнольдс? Да это заяц каких мало! – со свойственной ему прямотой сказал мне тем же вечером Боттс. – Косоглазие у него – на предмет, как бы смыться. Он ещё у Терри отпрашивался. Мочи, говорит, нет. Чую, говорит, могилой пахнет. Кажется, это была его самая длинная речь за все последние годы. А может – и за всю жизнь.
– Боттс! – взмолился я. – Ну, отчего так больно плохо ты обо всех думаешь? От этого я, может, и сам сижу вот, а на душе кошки скребут: а что, мол, думает обо мне мой приятель Боттс?
– Джек, – хлопает он меня по плечу, – а чего о тебе думать? О тебе и думать нечего! Слишком, понимаешь, тебя мало, чтобы много о тебе думать. Но все, что есть, все оно белого цвета – белого, как пить дать, и от этого ты никуда не денешься.
Деваться мне и вправду некуда, ибо сидим мы с Боттсом в зарослях чапараля, и затащил он меня сюда именно затем, чтобы напиться. Некоторых, знаете, хлебом не корми, а только дай им благодарного собеседника, на которого можно излить помои своего мнения об окружающих. Оно, казалось бы, и проще вылить их, так сказать, непосредственно; да вот – то ли застенчивость мешает, то ли воспитание, то ли, опять же… сухость во рту. А попробуй-ка промочить горло, а потом подойти к тому же Кастеру – да он и слушать не станет! «Да вы пьяны!» – скажет и, что обидно, будет прав. А как, спрашивается, подпоить его, чтобы прямо сказать ему, какое же он… Независимо от того, что… он не пьёт? И вот, по такой безысходности сижу я и выслушиваю Боттса, и мы потягиваем из наших фляг, а фляги у нас большие, полуведерные, и морды у нас – красные, даже во тьме видно; и в глазах стоит призрак самой что ни на есть белой горячки. Во мне уже и возмущение подымается, где-то под кадыком булькает, того и гляди – наружу выплеснется, а и сил на то, чтобы тихо-мирно отползти в сторону, тоже никаких нет. И вот с той мыслью, чтобы, значит, не допустить позора, я и проваливаюсь в темноту. До такого жалкого состояния я не допивался с тех пор, как по южным равнинам разыскивал Олгу и Гэса.








