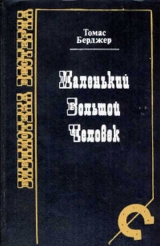
Текст книги "Маленький Большой человек"
Автор книги: Томас Бергер (Бри(е)джер)
Жанры:
Про индейцев
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 40 страниц)
– Постой, – говорит он. – Мне надо взять свой священный узел. – Это было нечто бесформенное, но большое и завернутое в рваные шкуры. Содержимое его являлось тайной, но мне как-то случилось украдкой заглянуть в такой узел одного умершего Шайена, прежде чем того уложили вместе с этим свертком на погребальный помост; и что в нем оказалось, как не пучок перьев, совиная лапка, костяная свистулька, сухая бизонья лепешка и тому подобный хлам! Но он, безусловно, верил, что вся его сила в этом ненужном хламе, и кто я был такой, чтобы разубеждать его? То же самое и со Старой Шкурой: его узел я нашёл в куче явно ненужной, полуистлевшей рухляди позади его ложа.
А потом все повторилось сначала:
– Постой! – говорит эта мумия. – Мой боевой головной убор из перьев!
Сколько знаю его, ни разу не видел, чтобы он надевал эту штуковину, ведь я уже говорил, что вожди Шайенов, как правило, не любят кичиться, обычно это самые простые и скромные из всех людей, что приходилось видеть. И свой убор он хранил в круглой сумке из сыромятной кожи, висевшей на жерди типи.
– Хочешь на него взглянуть? – спрашивает. – Он очень красивый. Для меня это память о моей боевой юности. – И он – так и есть – давай развязывать сумку.
– Как-нибудь в другой раз, дедушка, – говорю я, вешая её за кожаный шнурок себе на плечо.
Примерно в это время множество карабинов начинает поливать свинцом наше типи; гул стоял такой, что казалось, мы находились в улье. Но, думаете, мы тут и ушли? Как бы не так. Старая Шкура сначала должен был захватить свой священный лук и колчан со стрелами, потом особое одеяло, и, понятно, рог для пороха и мешочек для дроби, а также трубку и кисет для табака. Я едва переставляю ноги под тяжестью всего этого барахла, а кавалерия Соединенных Штатов уже пыхтит и храпит у самого входа в наш типи.
Тогда я принимаюсь вовсю ругаться по-английски и вопить истошно по-шайенски, а сам тем временем силюсь подтолкнуть его к той прорези, которую сделал, но что толку: его не сдвинуть с места, стоит как вкопанный и надевает на себя остальные свои сокровища: браслеты, ожерелье из чьих-то когтей, нагрудные украшения из крошечных косточек и все такое прочее.
А солдаты уже со стороны входа поджигают типи!
Теперь я больше не боялся быть убитым, более того, я жаждал смерти, уж лучше смерть, чем томительное ожидание. Я даже зарыдал, а, может, то было не рыдание, а смех. Но в любом случае то была истерика.
– Идем, мой сын, – говорит тут он. – Мы не можем оставаться в этом типи весь день. Солдаты вот-вот его сожгут.
Так вот, в конце концов, это он меня выводит наружу потому что мои ноги стали словно ватными. Теперь, разумеется, даже кавалеристы поняли, что нападать надо не только через вход. Так что были они уже и сзади. И мы шагнули прямо на трёх всадников – те выстрелили в упор, и настолько близко, что я и сам не знаю, почему от этой вспышки у нас не загорелись волосы.
Единственно, о чём могу определённо заявить – они промазали, и хотя оглушительный гром все ещё стоял у меня в ушах, я услыхал слова Старой Шкуры:
– Не обращай, сынок, на них внимания. Я только что увидел, что сегодня не наш день умирать.
Если у вас есть хоть капля здравого смысла, вы едва ли поверите дальнейшему рассказу о том, как мы добрались до реки. Да я и сам не верю. Но тогда вам придется найти этому какое-то другое объяснение, потому что вот он я сегодня, стою перед вами и, значит, должен был уцелеть во время сражения при Уошито в тысяча восемьсот шестьдесят восьмом году…
Тут Старая Шкура отдает мне свою пищаль, а сам двумя руками поднимает этот свой священный узел и начинает петь. И тогда я увидел, что взгляды этих солдат обращены не на нас, хотя мы прямо у них перед глазами, а они все палят в ту дырку, через которую мы вышли. И я услышал, как один сказал:
– Ребята, мы всех их, кажется, перестреляли. Давайте заглянем в середину.
Но другой посчитал иначе, мол, следует дать ещё пару залпов, так что они продолжали поливать свинцом опустевший типи. А вождь и ухом не повел., знай, шествует себе неторопливо к реке, безучастный ко всему, и распевает, высоко держа над головой священный узел. Теперь уже везде в селении были солдаты, большинство спешились, хотя кое-кто ещё сидел верхом, но нам было всё равно – что конные, что пешие. Мы проходим у них под самым носом, а они нас не видят и не слышат, хотя голос вождя звучал зычно, меняясь от густого баса до писклявого фальцета, да и выглядели мы диковинно, даже для стойбища Шайенов. Старая Шкура – за поводыря, его незрячие глаза закрыты, а потом плетусь я, рожа в чёрных подтеках, рыжие лохмы, обряжен в ноговицы и одеяло, и тащу на себе весь этот хлам, да ещё два незаряженных ружья.
Теперь мы вышли в тыл цепи стрелков: те вели огонь по индейцам, оборонявшим берег, причём боевые действия к этому моменту сместились ниже по течению реки от того места, где я наблюдал их раньше, так как Шайены шаг за шагом отступали вдоль берега. Большинство женщин и детей уже скрылись из вида, хотя то тут, то там ещё беспорядочно тянулись отставшие, бредя в ледяной воде Уошито.
Ладно, до сих пор брел он напролом – и я так и не пойму, почему нас не увидели и не убили; может, весь фокус в необычайной дерзости, и это благодаря ей солдаты не замечали нас. Но вот попрет ли он подобным образом через цепь стрелков, под перекрестный огонь?
Ведь он такой, что запросто сможет. И он-таки потащился. И мы прошли, целые и невредимые, под посвист пуль над ухом, словно этот свист всего лишь сопровождал его пение. Но при этом произошло вот что: индейцы перестали стрелять и не стреляли до тех пор, пока мы не оказались на берегу.
Но ведь солдаты ТОЖЕ НЕ СТРЕЛЯЛИ! Честное слово, я чуть не рехнулся от всего этого… А ещё благодаря тому шоку, который испытал, неожиданно очутившись в обжигающе студеной воде – ощущение такое, словно живьём содрали кожу от щиколоток до пупка.
Так вот, когда мы со Старой Шкурой вошли в воду, индейцы направили нас вниз по течению следом за женщинами и детьми. Кто-то, помню, посоветовал:
– Когда дойдете до большой излучины, выйдите из реки, потому что там у обоих берегов с головой.
Кажется, меня приняли за персонального поводыря и няньку при вожде, который из-за своей слепоты нуждается в опеке. Шёл я неохотно. Солнечный Свет с Утренней Звездой все еще, насколько я знал, прятались под шкурами в нашем типи. Но чем, спрашивается, я мог им помочь? Теперь солдаты уже полностью овладели селением и сгоняли в кучу женщин и детей, которые не могли бежать и не могли оказать сопротивление. Скоро, конечно, найдут моих жену и сына и присоединят к пленникам, и все чего я сумею добриться, предприняв сейчас попытку их освободить, так это только, что меня самого казнят, как изменника, если не убьют прежде, без того, чтоб вдаваться в выяснение личности.
Вот и побрел я с вождём по реке, и теперь не он меня вел, а я его, потому что едва он ступил в воду, как его магия перестала действовать и он вновь превратился в слепого и дряхлого старика, что в его положении теперь, когда основные опасности остались позади, вполне в порядке вещей. Но в момент опасности он показал себя в высшей степени молодцом. Под защитой берега мы неплохо продвинулись, хотя уж очень скоро в этой ледяной стихии тело мое окостенело.
Мы прошли где-то три четверти мили, когда поравнялись с группой женщин и детей – маленькие дети, многим из которых вода была по самое горло, не могли ведь быстро идти. Тогда я выбросил хлам Старой Шкуры в том числе и оба наши ружья, и, подхватив одного такого мальчугана, посадил его себе на плечи. Таким образом мы прошли ещё с порядочную милю и оказались у подковообразной излучины. Тут все вышли из воды, чтобы обойти глубокое место, срезав язычок суши, а дальше вновь войти в реку.
В промокшей насквозь одежде было нестерпимо холодно. Мальчугана я опустил на землю, и он присоединился к своей матери и другим её детям, но отошли мы совсем недалеко, когда эта женщина села и принялась разрывать своё платье на узкие полоски и перевязывать ноги своим ребятишкам, которые ещё немного и их, по-моему, поотмораживали бы, хотя никто из этой малышни не проронил ни звука жалобы.
Как раз в это время нам в тыл заехал кавалерийский отряд. Впоследствии я узнал, что это был разъезд под командованием майора Джоэла Эллиота, который Кастер послал рассеять крупное скопление Шайенов на южном берегу, ниже по течению реки от нашего стойбища.
Охраняли нас трое вооружённых воинов и один из них по имени Камешек остановился и выстрелом из старого ружья застрелил лошадь под каким-то кавалеристом, а в следующее мгновение от ответных выстрелов сам рухнул замертво на землю.
Тут женщины с детьми поспешно бросились назад в реку, и должен признаться, что я последовал вместе с ними. Был, правда, момент – это когда Камешек упал, а я подумал, что должен побежать и подобрать его ружьё и выполнять роль, подобающую мужчине, но двое других воинов меня опередили.
Так вот, когда уже почти все женщины и дети были в воде, за излучиной, а я со Старой Шкурой как раз спускался обрывистым берегом, сверху кто-то закричал:
– Можете возвращаться! Мы их окружили!
Так что я давай подталкивать Старую Шкуру опять наверх, и он, как мне показалось, сейчас шёл куда охотнее, чем когда спускались вниз.
И, передавая мне свой священный узел, говорит довольно-таки бодро:
– Дай мне мое ружьё. Я сам хочу убить несколько солдат, прежде чем молодые воины их всех истребят.
Я его оставил вон там, – говорю я и пользуюсь этой возможностью, чтобы ускользнуть от вождя. Теперь вокруг много женщин и ему помогут; к тому же с юга сюда скачет большой отряд Шайенов, а ещё один тем временем вклинился между рекой и горсткой кавалеристов, и теснит их в заросли высокой сухой травы на склоне, ведущем к обрыву.
А тот кавалерист, под которым Камешек завалил лошадь, оторвался от своих, чтоб захватить в плен женщину, которая перевязывала детям ноги. Она же нарочно медлила, пока его со всех сторон не обступили. И тут я стал свидетелем, как на него стремительно набросилась толпа и подмяла под себя, а когда рассеялась, то он уже лежал, раздетый догола и весь в крови, на утоптанном вокруг снегу.
Разъезд майора Эллиота спешился и отпустил лошадей, которые пугливо припустили вдоль по долине, а сами солдаты залегли в высокой траве – трава их полностью скрывала, и, если бы не дымок от карабинов, ни за что нельзя было бы догадаться, что там кто-то есть. Стреляли солдаты по-прежнему не переставая, но огонь велся в панике, поспешно и не прицельно – так что большая часть выстрелов приходилась прямо в хмурое зимнее небо; и когда индейцы это увидели, они не стали подкрадываться ползком, а как были верхом, так и ворвались в самую гущу цепи и принялись резать солдат, как цыплят, а женщины и дети сбежались на это поглазеть. Бой этот длился, наверно, минут двадцать, и в его конце если и можно было что-то разглядеть, то лишь только согнутые спины Шайенов, склонившихся снять скальпы или безжалостно зарезать.
Не знаю, приходилось ли вам видеть кровавую баню зимой. Зрелище это неприглядно в любое время года, но зимой особенно: на холоде кровь очень скоро стынет и тело коченеет до того быстро, что если чуть помешкаешь, то, чтобы снять с трупа рубашку, придется ломать конечности.
Сказал я об этом совсем не для того, чтобы над вами поизгаляться, а только для того, чтоб вам стало ясно, что мною двигало, когда я поспешил в заросли травы: мне позарез был нужен мундир. Ведь индейцев было до полусотни и на всех нас приходилось добычи всего пятнадцать трупов. Но мне немного повезло: я натолкнулся на Младшего Медведя – он стоял на коленях и орудовал ножом. Теперь я понял, что это он в числе двух-трёх смельчаков первым бросился на солдат. На голове у него красовался большой боевой убор, который я поначалу не признал. Левый рукав его рубахи был залит кровью, и её капли стекали с бахромы рубахи на нос и губы трупа, с которого он снимал скальп. Ещё он крепко покрылся испариной, потому как нож у него, по-моему, был тупым, а этой левой руке недоставало силы, чтобы, когда кожа была подрезана, отделить скальп.
Однако настроен он был вполне миролюбиво. И заметив возле себя мои ноговицы, не поднимая головы, попросил:
– Потяни, пока я режу.
Я так и сделал: стал на колени и ухватил клок светлорусых мягких волос мёртвого парня. Был он, пожалуй, довольно-таки молод. Рот у него перекосило, будто в немом крике. Но я на него старался не смотреть, ведь он вполне мог оказаться кем-то из знакомых, к тому же в том, что я делал, не было места ничему личному. Вот, наконец-то, скальп отделился, и я был благодарен Младшему Медведю, что он сразу у меня его забрал.
– Я видел, как ты самым первым бросился добывать скальп, – говорю я. – Это было смело.
Медведь вытер пот со лба, вымазав его при этом кровью, тяжело вздохнул и пожал плечами, однако, видать, был доволен. Потом протянул мне нож и сказал точно таким же тоном, каким вы, небось, пригласили бы гостя за праздничным столом отведать жареной индейки:
– Давай, возьми себе что-нибудь. Вон на левой руке у него красивое кольцо.
– Хорошо, – говорю я, – я бы взял себе рубаху и штаны.
Младший Медведь на это отвечает жестом, который означает что-то вроде «Милости просим – фирма угощает», и я снимаю с солдата мундир и сапоги, а после неподалёку нахожу и его шляпу. Все это собираю в узел и беру под мышку, а Младший Медведь возвращается к работе. Теперь солдат лежит в одном шерстяном исподнем. Сам того не ведая, он сделал мне огромное одолжение, и я подумал, что надо бы его отблагодарить, хотя, конечно, об этом он так никогда и не узнает.
Вот и говорю Младшему Медведю:
– Ты бы лучше перевязал руку, пока не истек кровью.
Он посмотрел на руку, словно только сейчас заметил рану, пощупал мускулы и поморщился от боли.
– Идем, – говорю я. – Где твой пони?
Оглянувшись, я совсем неподалёку увидел его лошадь, которую терпеливо держала за уздечку, конечно же, никто иная как Олга. И тут же рядом с нею был малыш Гэс, который наблюдал за тем, как остальные индейцы разживаются окровавленными трофеями. В руке у Гэса был крошечный деревянный ножик, и он размахивал им, подражая процедуре снятия скальпа. Мне показалось, он был не прочь попробовать снять настоящий скальп, но Олга другой рукой держала его и не отпускала от себя ни на шаг, и это свидетельствует в её пользу.
Медведь ещё с минуту чего-то там такое делал, а что – конечно, я не смотрел. Потом он поднялся.
– Ладно, – говорит, – я пошёл, а ты можешь забирать всё остальное. Спасибо, что помог.
И протягивает мне свою руку, я пожимаю её – и она остаётся у меня в руках, потому что это вовсе не его рука, а правая рука убитого солдата, которую он отрезал и засунул в свой рукав, вытащив перед этим свою собственную.
– Ха-ха-ха, – засмеялся он. – Отличная шутка! Когда он подошёл к Олге со скальпом в руке, волоча за собой это исподнее, как кожу содранную со всего человека, он всё ещё смеялся.
Теперь мне предстояло надеть этот мундир – дело непростое и деликатное, потому что едва он окажется у меня на плечах, как я стану для индейцев чужаком, ну а пробраться в селение одетым как-то иначе – не выйдет. Конечно, я хотел сделать это, чтобы найти Солнечный Свет с ребёнком. Теперь, наверное, их уже взяли в плен, а в синем мундире я, пожалуй, сумею пробраться к ним и в суматохе сражения мы сможем удрать в горы. Ведь вряд ли у кого вызовет подозрение солдат, конвоирующий индианку с ребёнком за спиной.
Закончив кровавую резню в густых высоких травах, Шайены вновь двинулись в низовья. Среди них я увидел слепого Старую Шкуру. Его вела какая-то женщина, хотя нет, не женщина – это был Лошадка, который как-никак, а его родной сын. Все было так, как и должно быть. Я выполнил свой долг, и мне надо было позаботиться о своей собственной семье.
Постепенно стрельба затихла. Лишь изредка то здесь, то там доносились одиночные выстрелы, а дым, поднимающийся над стойбищем, теперь стал чёрным – горели типи. Люди из нашего стойбища направлялись теперь в другие селения, ниже нас по Уошито. В то, что солдаты станут преследовать противника, я не верил: было уже пополудни и к тому же на обрывистом дальнем берегу я заметил отряд верховых индейцев, которые, по-моему, как раз и подошли из низовых стойбищ, чтобы противостоять продвижению солдат. В этой долине было полторы тысячи типи, из которых лишь немногим более пятидесяти находились в стойбище Черного Котла и Старой Шкуры. Но беда в том, что все эти селения растянулись вдоль реки более чем на десять миль, и одно от другого располагалось поодаль. Мне кажется, что как раз на берегах Уошито индейцы и получили урок того, как надо располагать свои селения, потому что через восемь лет на Литтл-Биг-Хорн они уже не оставили промежутка между кругами типи, в которые смог бы протиснуться Кастер.
Джордж Армстронг Кастер… До сих пор я никогда в жизни не слыхал этого имени, хотя понимаю, что имя он себе сделал во время войны с мятежниками. А вот кое-что новенькое и для вас: индейцы почти никогда не знают, кто на них нападал до самого конца сражения, а иногда и после. Вот смотрите, что до сих пор случилось со мной в этот день: вблизи я видел только двух солдат: один из них – это тот кавалерист, что стрелял в типи Старой Шкуры, а другой – жертва Младшего Медведя. Известно, что напали на рассвете. Напали белые, в синих мундирах. А кто командует этими синими мундирами, никто не знал, да и знать не хотел. Впоследствии, когда соберётся ещё один совет, чтоб подписать мирный договор, то на нём, по-видимому, будет присутствовать и солдатский вождь, который скажет во вступительном обращении к Шайенам:
– Вы помните, как я разбил вас на Уошито? Тогда-то индейцы впервые и узнают, кто с ними тогда сражался. И в дальнейшем станут называть этого человека не его белым именем, а по каким-нибудь особенностям его внешнего вида на этом совете, как впоследствии генерал Крук стал Трёхзвёздным Вождём, генерал Майлз – Медвежьим Мундиром, а генерал Терри как-то был наречён Тот-Другой, видать, у индейцев кончились имена.
А когда Шайены и их союзники познакомились с Кастером, то прозвали его Длинноволосым, но я уверен, что девяносто девять процентов из них навряд ли узнали бы его в парадной форме, гарцующим во главе войск; и даже вожди, с которыми он совещался, не признали б его, если бы он подстригся. И такой момент ещё наступит…
Теперь же я плелся в хвосте своих индейских товарищей, отступающих вниз по Уошито. О Кастере я никогда не слыхал, но по медной бляхе на полевой шляпе мёртвого кавалериста узнал, что был он из роты Джи 7-го Кавалерийского полка. И тут я подумал, а что если вдруг столкнусь я с другими парнями из этой же роты? Так что я немедля отцепил эту бляху и выбросил куда подальше. Потом на её месте пропорол ножом дырку – будто эту бляху сбила пуля.
Но в форму я ещё не стал облачаться, хотя индейцы, раздевшие трупы солдат, сразу понацепляли на себя награбленное: вот промелькнул индейский воин в сержантском кителе, вон там виднеется малыш, обряженный, как в платьице, в серую фланелевую форменную рубаху, а вот какая-то женщина надела поверх платья солдатское исподнее…
Наконец, дошли мы до холма, и я присел, делая вид, что завязываю на мокасинах шнурки, и сидел до тех пор, пока последний Шайен не скрылся из виду. Потом лёг брюхом на снег и через заросли кустистой травы отполз в сторону ярдов на двести, после чего поднялся на ноги, осмотрелся вокруг и выбрал путь, как лучше незамеченным спуститься к речке. Выбравшись на берег, в очередной раз бросился в ледяную воду и, надо сказать, в этом месте вода доходила мне до самого горла. Главное было – не замочить мундир, и когда я перешёл вброд речку, он был сухим, так что я был готов немедленно в него переоблачиться хотя бы ради одного тепла – набрякшие кожаные ноговицы буквально смерзлись и задубели, так что идти в них было просто невмоготу.
Не забыл я и стереть с лица черную краску, ну, а если где немного её и осталось, то смотреться будет она вполне естественно как пороховая гарь. Несложно догадаться, что мундир и сапоги оказались мне велики. Тогда в армии уже стали носить и брюки, и рубаху свободными, но вот кавалерийский френч кроили в обтяжку. Так что мне просто ничего другого не оставалось делать, как, несмотря на лютый холод, расстегнуть этот френч и хоть как-то немного скрыть свой мешковатый вид. Сапожищи болтались – ногам было где разгуляться внутри обувки, а что до шляпы, то она всё равно сползала даже после того, как я напихал в неё всякой там травы.
Тем не менее я решил идти и высунул голову из кустов, которые использовал как раздевалку. И неожиданно для себя вижу, что пялюсь прямо на Шайена, шагах в двадцати от меня. Я и глазом моргнуть не успел, как он пустил в меня стрелу. И, казалось, летит она по воздуху так медленно-медленно, и вся сложность заключалась только в том, что и я тоже от неё увёртывался медленно-медленно, как будто окунулся в бочонок патоки. А железному наконечнику треугольной формы, с краями острыми, как бритва, видать, очень полюбился мой нос, потому как куда бы я этот нос не поворачивал, наконечник гонялся за ним. Хочу сказать, что так почудилось. Мерещилось как будто я кувыркаюсь, кувыркаюсь, а стрела словно приручена и повторяет каждый виток и поворот всего в каких-то долях дюйма от моего носяры. На самом деле произошло все это в какие-то мгновения – стрела пропала, Шайен упал на землю мёртвый, а в поле зрения возник кавалерист – капрал с дымящимся ружьём.
– Мать честная! – сказал он, – ну, и место же ты выбрал, чтоб наложить кучу!
Вот оказывается, чем – он подумал – я занимался тут, в кустах. И что мне оставалось делать, как не осклабиться в улыбке?
– Забирайся, – сказал он и показал на круп своей лошади. – Ну, как, не больно?
Тут краем глаза я заметил, что стрела застряла в полях шляпы, причём, настолько близко к правому виску, насколько это вообще возможно, чтобы при этом не поцарапать кожу. Но если посмотреть со стороны капрала – перо сначала, потом наконечник, – то, наверное, казалось, что стрела эта пронзила мне башку. Я отбрасываю стрелу в сторону, запрыгиваю на лошадь позади него и мы возвращаемся в селение.
И вот мы уже едем нижним краем стойбища тип и, и капрал этот пускает лошадь рысью навстречу небольшой группе людей в синих мундирах. Мы соскакиваем с лошади и капрал козыряет какому-то человеку.
– Сэр, – докладывает он, – мною произведена разведка ме…
– Минутку, – перебивает его этот офицер и поворачивается ко мне. А я стою себе немного в стороне и пытаюсь сообразить, где это я, потому что солдаты так и шныряют туда-сюда, туда-сюда; типи обыскивают, грабят, сгоняют в кучу шайенских женщин и детей, в один табун сводят захваченных индейских пони…
Я едва узнаю место, где прожил не одну неделю.
– Солдат! – рявкает этот офицер. – Извольте подойти ко мне!
Я подхожу, потому как вижу, что это он обращается ко мне. Внешность у него приятная, он высок ростом, хорошо сложен и, как припоминаю, на воротничке его форменной рубашки вышито по две звезды с каждой стороны. А ещё у него пшеничные усы и длинные светлые волосы, вьющиеся, доходящие до плеч.
Его голубые глаза смотрят холодно и колюче, а брови до того бесцветные, что замечаешь их только потому, что они кустисты. И голосом «как терка» он приказывает:
– Застегните ваш китель!
Я немедленно приступаю к выполнению приказа. А он говорит:
– Считайте себя под арестом! Доложить о себе начальнику сержантского караула!
Тут капрал, подобравший меня, ещё раз решил оказать мне поддержку.
– С вашего позволения, господин генерал, – говорит он, – этого солдата я нашёл в кустах, и чтобы его спасти пришлось убить индейца. В голову ему угодила стрела и, по-моему, бедняга просто малость спятил.
Намекать дальше мне не надо было, я наклонил голову набок, немного выпучил глаза и вывалил язык.
Лицо генерала исказила раздраженная гримаса:
– Ладно, уберите его отсюда. Тут в конце концов боевой штаб, а не психиатрическая лечебница.
– Господин генерал! – обратился ещё раз мой благодетель. – Разрешите доложить о результатах разведки…
– И не подумаю! – отрезал тот. – Большой ценности они представлять собой не могут, если вы вместо того, чтобы наблюдать за перемещениями противника, занимались спасением придурков.
Он резко обернулся к нам спиной и сообщил своей свите:
– Итак, я принял решение – пустить захваченных индейских пони в расход. Перестрелять всех до единого!
Среди офицеров один был такой крепко сбитый, отеческого вида, у него ещё из-под шляпы выглядывала седина. Я видел, что он смотрит на меня и глаза у него смеются, словно он меня раскусил. Но теперь, после этих слов генерала, он встревожился и пустился возражать.
– В табуне восемь сотен лошадей, – говорит он. – Может, не надо расходовать патроны почем зря.
– Я уже принял решение пе-ре-стре-лять, – говорит генерал, – и не нуждаюсь, Бентин, в ваших соображениях на этот счёт.
Бентин долго-долго смотрит на генерала с нескрываемым презрением, а потом этим своим доброжелательным тоном говорит капралу, который вместе со мной все ещё стоит неподалёку от него:
– Соберите-ка лучше, голубчик, команду, человек пятнадцать, – и ступайте, предайте казни всех наших четвероногих пленников. Ну, а если выйдут патроны – сходите к утесам, позаимствуйте у Шайенов.
Капрал отдает ему честь, я тоже, и, клянусь, он подмигивает мне. Генерал, однако, ничего этого не видит – он энергично вышагивает вперёд-назад в элегантных сапожках, отдавая приказы солдатам и офицерам, один из которых, видать, был капельмейстером оркестра, потому что вскоре этот самый оркестр заиграл.
Когда мы уже отошли на некоторое расстояние, капрал мне и говорит:
– Думал, у тебя хватит ума не попадаться Крепкому Заду Кастеру с расстегнутым кителем. Редкий сукин сын, верно? Чёрт побери, если б какой-нибудь Шайен всадил бы пулю в его медный лоб, то я бы ему приплатил!
На что я ему говорю:
– А вот Бентин – человек, вроде, неплохой.
– Неплохой?! – воскликнул капрал, прямо-таки взрываясь в ответ на мою сдержанную похвалу. – Да парни из его роты тебя убили бы на месте, если б ты не признал, что он самый лучший офицер, что когда-либо служил в американской, чёрт её дери, кавалерии!
– Именно это я и хотел сказать, – говорю я.
А на самом же деле я в это время стремился улучить мгновение, чтобы драпануть от него и попасть туда, куда сгоняли пленных.
– Видал, как он посмотрел на Кастера? Ни в грош его не ставит, определённо скажу тебе. Конечно, против субординации не попрёшь, но ведь и оставить это просто так – тоже нельзя, и полковник не оставит. Он сейчас и правда серьёзно беспокоится за майора Эллиота. А Крепкий Зад на его поиски разъезд не пошлет, нет не пошлёт. Так что, вот это я на самом деле там и делал, когда с тобой столкнулся. Ты, кстати, случайно, не видел никого из его ребят?
– Нет, не видел, – говорю.
Вот тогда-то я и понял, что это Шайены в густой траве на том берегу скорей всего уничтожили команду Эллиота. Шайен мудро я поступил, выбросив эту бляху со шляпы к чертям собачьим…
– Бентин с Эллиотом вместе в войну служили, – объяснил капрал. – Ну, да ладно, придется теперь заняться лошадьми. А тебе лучше, если сможешь, найти свой карабин. И моли ещё Бога, что Кастер не заметил, то ты его потерял. А то как цыпленка распластает тебя на снегу и всыпет горячих.
– Да, я оставил его у одного салаги, – говорю я, потому что обучился военному жаргону, когда оказался среди солдат после сражения у Соломоновой протоки. – Пойду принесу…
– Лады! Тогда давай – одна нога здесь, другая там – бего-о-ом марш! И намотай себе на ус, я на тебя глаз положил, – говорит он, обращаясь теперь со мной, как сержант с новобранцем. Вот как оно среди белых – всё зависит от чина, а я-то было совсем забыл, как быстро могут меняться взаимоотношения.
Вскоре, как только между нами оказалось несколько человек и лошадей, я повернул к загородке с пленными: в центре селения поставили несколько типи и согнали туда женщин и детей. Приблизившись, я услышал скорбную песню-плач Шайенов. Понятно, что типи эти охранялись солдатами, вот и принялся я обмозговывать, как бы мне туда проникнуть. Потому как при этом вовсе не собирался рассказывать, зачем я это делаю.
Кроме того, мне совсем не улыбалось, чтоб меня захомутал ещё кто-нибудь и дал бы ещё какое-то особое задание. Мое недавнее нелегкое положение белого среди индейцев буквально ничто по сравнению с моим нынешним положением. Я и так едва волочил ноги в огромных сапожищах, шляпа держалась у меня на одних ушах, а френч сидел на мне, как на корове седло…
Но тут я вспомнил, как смело и дерзко Старая Шкура шагал под перекрестным огнем, кстати, это был единственный случай, когда его магия сработала против белых. А все потому, что он сохранял этот свой кураж, да еще, по-моему, ему помогла слепота, ведь никакие ужасы его не отвлекали. Ну, я-то глаза закрывать не стал, однако заставил себя собраться, надулся, чтобы хоть как-то заполнить собой мундир и лихо, твёрдым шагом подошёл к сержанту, стоявшему на входе в один из этих типи. – Генерал Кастер прислал меня допросить пленных, – доложил я.
– Хорошо, – отвечает он и делает шаг в сторону, но затем, не успел я ещё войти в типи, хвать меня за локоть и тычется усами в ухо. – Послушай, – говорит он, – будь другом, замолви меня словечко перед какой-нибудь юной скво. За мной не пропадёт. Наверно, тебе это раз плюнуть, уж коль ты говоришь по-индейски. Передай ей, пусть как стемнеет, подойдёт к выходу и свистнет, а я ей дам подарок. Он похлопывает меня по плечу, и я вхожу в середину. В типи натолкали шайенских женщин и детей – не отдохнуть, было до того тесно, что никто не мог сесть. Так что все стояли, плотно завернувшись в одеяла и уставившись на меня. Довольно многие жёны распустили волосы, чтобы в горе рвать на себе волосы; многие в знак аура сильно порасцарапывали себе щёки, исполосовав их длинными бороздами ссадин. И их стенания, их то повышающиеся, то понижающиеся завывания песен смерти не стихли при моем появлении. Но когда малые дети увидели мой мундир, они пообхватывали ноги своих матерей и попрятали свои смуглые головки в одеяла.
Особенно истошно выла одна старуха: пока ей хватало дыхания, она вопила пронзительным визгливым голосом, потом широко открывала рот и на вдохе подвывала другим тоном, а когда в её легкие набирался воздух, возвращалась к настоящему рыданию. Через минуту-другую – все это время я молчал – она внезапно перестала причитать и говорит мне:








