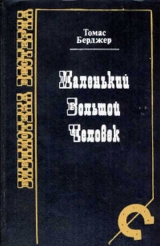
Текст книги "Маленький Большой человек"
Автор книги: Томас Бергер (Бри(е)джер)
Жанры:
Про индейцев
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 40 страниц)
И теперь я открою вам совершенно дикую, невероятную, нелепую, но единственно истинную причину того, чему суждено было случиться в канун великой годовщины. Причина эта называется Кастер… А вернее, – его голова. А ещё вернее – причёска… Да-да, я не смеюсь. И пусть всякие там писаки твердят чего угодно, не верьте им: всё – ерунда! А мне врать незачем. То было второе озарение, посетившее меня после беседы с Тесаком. И тогда я совершил, может, и не героический, Но кажется главный поступок в своей жизни. И не побоюсь сказать, что именно он, этот мой поступок, повлиял на исход того поистине великого события…
Поступок тот не был делом ни рук моих, ни ног моих, ни ножа, ни револьвера, ни ружья, ни даже слова – то был Поступок Мысли. И состоял он в том, что я отказался от своей давно лелеемой мечты – убить Кастера. Я взвесил всю известную мне диспозицию. И решил, что сделать это сейчас – означало бы совершить самое гнусное предательство по отношению к тем, ради кого я и должен был это сделать.
Едва спустившись с трапа «Дальнего Запада», я сразу же уловил витавший в воздухе дух недовольства: солдаты – те открыто костили Кастера за его злокозненный приказ, из-за которого солдатская жизнь, и без того безрадостная, превратилась в сущий «сухой» кошмар, и что их особенно угнетало, так это недосягаемая близость полковой казны. «Это что ж получается? – рассуждали самые ретивые, – выходит, если тебя укусит змея или, что ещё хуже, выпотрошит лазутчик, то это что ж – забесплатно?!» «Слыхали, – многозначительно шептали другие, – тут бочки сгружают, а жалованья – шиш тебе! Эдак краснорожие нас нарочно заморят – от жажды подохнем тут все!» «Да-а, а в Бисмарке мы бы славно покутили!» – подливая масла в огонь заключали третьи…
Оставив Кровавого Тесака, я двинулся обратно в лагерь, размышляя о превратностях человеческой натуры, как тут на берегу, чуть выше того места, где Паудер впадает в Йеллоустоун, я вдруг заметил какую-то подозрительную тёмную личность, застывшую в рыболовной позе. Более того, эта личность кажется мне отдаленно знакомой, а присмотревшись повнимательнее я с удивлением констатирую, что личность эта есть никто иной, как…
– Привет, Лавендер, вот так встреча, вот так сюрприз! – говорю этой тёмной личности, испытывая равное изумление как от факта её присутствия в лагере, так и от того, что сумел узнать её после стольких лет в таком неожиданном месте.
Лавендер испуганно озирается и замирает в недоумении. Что ж, его можно понять: я-то узнал его сразу – как увидел – так и узнал, потому как на Дальнем Западе едва ли другая, столь же тёмная личность с таким же оливковым цветом лица, полными губами и приплюснутым носом, да к тому же ещё в неизменной шляпе-канотье с орлиным пером; а ему на то же дело требуется гораздо больше усилий – у него от таких, как я, давно в глазах рябит.
Он долго щурится, хмурит лоб, склоняет голову то на левое плечо, то на правое и, наконец, разводит руками, ссылаясь на ослабление памяти.
– Да Джек я, Джек Крэбб! – кричу я ему в лицо. – Ну, Миссури, пастер Пендрейк, ну?
– Ну-ка, ну-ка, – начинает интересоваться он, снимает шляпу, встает, затем охает и заливается счастливым смехом. Смеясь, он толкает меня в грудь, я – его, и вот мы уже барахтаемся как два медвежонка, пытаясь задушить друг друга в объятиях. Не знаю уж почему, но радости от этой встречи у меня больше, чем от всех остальных встреч со всеми моими родственниками и с теми, кто называл себя таковыми.
– Слушай, Лавендер, каким ветром тебя сюда занесло? – наконец спохватился я, терзаемый любопытством. – Неужто пастору прискучило перековывать мечи на орала и он решил наоборот? И заделался полковым капелланом? Или того похлеще – личным исповедником у Кастера? Слу-у-у-шай, а может он совсем пошёл в артиллеристы, и теперь у него своя большая-большая пушка?
Лавендер замахал руками.
– Боже мой, какая пушка?
– Погоди-погоди, – не унимался я, – сейчас угадаю! Ну, конечно же! Никакой пушки у него нет, а есть большая-большая сабля и нож, которым он ковыряет в носу и снимает индейские скальпы.
– Какие скальпы? Какие орала? Побойся Бога, Джек! – всерьёз ужаснулся Лавендер. – Орала на мечи – скажешь тоже! Да пастор скорее бы удавился, чем вообразил себе такое непотребство!
…«Пастырь-пастырь, на носу пластырь, а в руке псалтырь, а на лбу волдырь!» – вспомнилась мне детская дразнилочка – в разных вариациях она как раз гуляла среди миссурийской детворы в пору моей безгрешной юности; куплетов в ней была целая уйма, и далеко не все из них были такими уж безобидными; попадались среди них и такие, что имели рифму «кочерга» – «рога», но это к слову… А Лавендер… Лавендер – он все тот же. И пусть ему уже за сорок, на тёмном, цвета черного дерева лице до сих пор ни единой морщинки; та же улыбка, та же наивность в глазах, ну, разве что кучерявую голову уже прихватил иней.
На нём куртка из оленьей шкуры, штаны с бахромой и пояс, расшитый бисером; причём, если не ошибаюсь, в манере Лакотов.
– Не-ет, – покачал головой Лавендер, – в армию пастор не пошёл бы ни за какие коврижки! Преподобный Пендрейк со скальпом… Ты, наверное, смеешься, Джек?
«Гляди-ка, а не зря он пошатался по «белому» свету – догадлив стал, дальше некуда!» – подумал я и признался:
– Да смеюсь я, смеюсь…
– Грешно смеяться над мёртвыми! – огорошил меня Лавендер, всем своим видом отображая кладбищенскую скорбь.
– Преподобного Пендрейка больше нет с нами, – торжественно и печально объявил он, так, будто Преподобный Пендрейк скончался только сейчас, сию минуту, пока мы тут точили лясы и, между прочим, как раз ожидали его кончины.
– И как же это он, а? – зачем-то спросил я, как будто это имело хоть какое-то значение.
– Преподобный Пендрейк, – с глубоким прискорбием возвестил Лавендер, – ушёл от нас, подавился… облопался, то есть.
– Как облопался? – в свою очередь ужаснулся я столь неестественной по моим понятиям смерти.
Но Лавендер, как человек более попривыкший к таким смертям, только пожал плечами:
– Облопался, как есть облопался: откушал один из тех знатных обедов, что сварганила Люси; прилёг, по обыкновению, вздремнуть, а покуда дремал, обед проснулся и потихоньку вспять, и прямо в эту, как её – трах… трах… как же она по-врачебному называется? – ну да, трахею! По нашему – не в то горло, ну, не в пастора корм. И вот он то ли хрюкнул, то ли всхлипнул; поерзал – а никто ничего понять не может – вот и всё, так и почил в бозе наш Преподобный Пендрейк…
– Выходит, облопался… – промямлил я, будучи настолько потрясен этим способом ухода в другой мир, что даже не смог выразить приличествующее случаю сожаление.
– Облопался, ну и облопался, и что? – не понял моего смущения Лавендер. – Смерть как смерть, не хуже…
В эту минуту, прервав его на полуслове, дернулась леска, и Лавендер подхватил удочку; он выждал, пока рыба склюет наживку, и ловко выдернил из-под воды пухлого желтоватого окунька с вытаращенными от изумления глазами.
– Вот так-то, – философски изрек он (то есть, не окунь, а Лавендер), – все мы смертны, все мы не вечны, но если благоволение Господне и впрямь распространяется на слуг его, то смерть у пастора была что надо, лучшей и пожелать невозможно: набил брюхо – и на боковую, только и делов-то, что не проснулся… По моему разумению, он сам себе выбрал смерть по душе, а Господь лишь поглядел на него и согласился! Что ж там было на обед, дай Бог памяти… ну да: в тот день как раз Люси запекла поросёнка в яблочном соусе – знатный был поросенок; что-что, а куховарить Люси была большая мастерица…
Внутри у меня что-то шевельнулось, сердце екнуло – и я испытал нечто среднее между сердечным приступом и желудочной коликой. «А миссис Пендрейк, – спросил я, затаив дыхание, совсем как после удара под дых, – она-то как? Что с ней? Где она? Замуж не вышла?»
– «Миссис? – Лавендер подумал и нанизал на крючок нового червячка. – Зачем же замуж? Замуж миссис не вышла. А чуть не в тот же день захлопнула в доме ставни, заложила дверь, и не то что замуж – на похороны не вышла! В церковь приехал новый священник, вот, ну, и поселить его собирались в том же доме, – да куда там, не тут то было. Уговорить бедную вдову покинуть насиженное гнездышко так никому и не удалось: ни всем миром, ни каждому отдельно. Так что, насколько я знаю, живет она там и поныне, а духовный пастырь – что ж, он обосновался в другом месте».
…Да-а-а, всю жизнь нас преследуют романтические идеи юности. Вот и за мной, куда б не забросила меня судьба, неусыпно охотился светлый образ миссис Пендрейк. Иногда закроешь глаза и представляешь себе: вот ты, значит, входишь в дом, а на пороге Она, миссис Пендрейк – в чём-то таком, простом и домашнем, и вот она протягивает к тебе руки…
– …И никого из прихожан, хоть они и белые, даже на порог не пустила… – некстати донесся до меня голос Лавендера.
Вот так всегда: не успеешь размечтаться, как на тебе – вечно найдется какой-то нелепый Лавендер со своим языком: бу-бу, бу-бу – все мечты распугает! А ещё рыболов называется… Нет уж, как хотите, а настоящая, возвышенная любовь (про которую в книжках пишут) в нашем низменном мире как бы даже и не жилец – ей, бедной, только и остаётся, что вот, как миссис Пендрейк, забаррикадироваться в доме, а посторонних и на порог не пускать, – ничего, пускай не лезут, хоть и белые, хоть и чёрные! Она, может, от всех и отгородилась только потому, что меня ждёт; может, ей всю жизнь только меня и не хватало: ступаю на порог, а она… ну, об этом я уже мечтал. Возвышенная любовь, она и есть удел мечтателей, а я, как вы понимаете, мечтатель. Оно бы, конечно, и здорово махнуть рукой на всякую мелочную дребедень, прыгнуть в седло и в дорогу – навстречу большой мечте; но как подумаешь, что тебе уже тридцать шесть, и полжизни за плечами, а ещё долги надо раздать, и… вместо дребедени махнешь на большую мечту; не про нас он, этот пирог! С годами, знаете, даже в любви из радикала становишься консерватором.
На том я и успокоился. И вместо умозрительного созерцания миссис Пендрейк со всеми её мыслимыми и немыслимыми прелестями, я малодушно погрузился в созерцание реки Йеллоустоун с её плавным течением и бликами на воде. Невольно пришлось обратить внимание и на удочку, а с нее и на Лавендера: оказывается, все это время он продолжал шлепать губами и что-то рассказывать, ни дать ни взять, как та рыба.
– …При доме я пробыл ещё с год. Но со смертью Пендреика дом потерял хозяина, а без хозяина и дом – не дом. И тогда я стал думать. И думал-думал… Джек! – тут Лавендер хлопнул ладонью по земле. – Джек, так ведь это ж ты и был! Ну да! Это ж мы с тобой и говорили – ну, помнишь? – про индейцев и про то, как ты у них жил… Точно-точно, я хорошо помню, то есть, не тебя, а наш разговор (аи да Лавендер, аи да уважил!), ну, так вот, я и подумал: чего я делаю в этом женском доме, доме, где нет хозяина, я, свободный человек, которому давным-давно честный Эйб дал свободу? «Да пропади они пропадом!» – сказал я себе, взял сухарей и подался на Запад. Видимо, позвал меня голос родной крови, да я тебе рассказывал про моего родича, что ходил с капитаном Льюисом и капитаном Кларком…
Действительно, историю про Кларка и Льюиса (а в изложении Лавендера она выглядела историей этого раба, кажется, Йорка, у которого эти двое были вроде мальчиков на побегушках) я слышал неоднократно, и похоже, был обречен слушать ещё не раз – Лавендер собирался идти с нами до самого победного конца, пока, правда, неизвестно, чьего… Не преминул он рассказать её и сейчас – видно, для него она и впрямь была чем-то вроде отправной станции; но дилижанс его рассказа тянулся до того медленно, что я чуть было не заснул, и даже наверное заснул бы, если бы, закрывая глаза, тут же не натыкался на укоризненный взгляд Пендреика. А закрыть глаза на Пендреика всякий раз означало проснуться. Так всю дорогу меня и бросало то в жар, то в холод, пока на очередной станции не зазвонил колокольчик.
– …И пристал я к племени Лакотов, где вождём был старый и мудрый индеец по имени Сидящий Бык.
– Чего-чего? – подскочил я, окончательно проснувшись, – не может быть!
Гляжу – а Лавендер медленно наливается краской, багровеет и прямо, значит, на глазах из чернокожего превращается в краснокожего. Тут-то я и понимаю: «Может! ещё как может! Вот как он сказал – так, значит, оно и было! Хау».
Вот как ты опростоволосился, Джек, – перо в шляпе-то приметил, а то, что оно орлиное, внимания не обратил; думал – оно для красоты, а оно – вот оно что… Лавендер под ним орёл-орлом – зыркает сверху вниз, глаз острый, пронзительный, в горле клекот, но наружу ни звука – ждёт. И ведь прав шельмец: то, что можно сказать черному бою, никогда и ни при каких обстоятельствах не моги говорить свободному жителю прерий, тем более такому стервятнику – да за подобное оскорбление он тебе все глаза повыклюет! Я, как вы знаете, индейцев на своем веку повидал немало, и давно уже заметил такую их общую особенность: слово индейца – это как бы часть его самого, и выразить недоверие к его слову всё равно, что сказать, что он – не он.
Так что хочешь-не хочешь, а надо идти на попятную, благо, для меня слова весят куда меньше и гордость не такая раздутая.
– Ты, Лавендер, меня не так понял, – отступил я на шаг, успокаивая его жестом открытой ладони. – Я нисколько не сомневался в правдивости твоих слов: ты сказал – и для меня этого достаточно. И если я говорю, что чего-то не может быть, то это не потому, что быть этого не может, а потому что изумлен тем, что оно случилось. Подумать только, мой старый друг Лавендер встречался с самим Сидящим Быком! Это ведь против него мы идем сражаться? Да?
– Это правда, – важно кивает Лавендер, и я понимаю, что прощён. Что ж, пребывание у Лакотов даром для него не прошло: он перестал быть чёрным служкой белого человека и с гордостью истинного краснокожего больше не позволял ставить свои слова под сомнение. Одно жаль – в сравнении с другими краснокожими язык у него трудился что та ветряная мельница, но возможно, это было следствием его долгого молчания. – Пожив у Лакотов, я взял себе в жёны хорошую женщину, – тем временем продолжал он, и голос его потеплел – она была из племени хункпапа и была мне хорошей женой. И жили мы с ней в нашем типи очень хорошо. И прожили так несколько лет… – Лавендер мотнул головой, как бы отгоняя воспоминания; и пух его орлиного пера дрогнул, затрепетал, как ресницы, когда пытаются задержать слезу, – Они очень хорошие люди, Джек! А Сидящий Бык, он настоящий вождь, он, если хочешь знать, это гений. Когда он хочет увидеть, что происходит на земле, он просто закрывает глаза и… видит!
– Да, – соглашаюсь я.
– Это правда, – кивнул он.
Нос Лавендера, и так не маленький, теперь стал ещё больше, ноздри раздулись и на закрылках заиграли солнечные зайчики:
– Вот ты вспомнил Преподобного Пендрейка, Джек; ты сам его вспомнил, да? А ты не думал, что всю жизнь он как бы скрывался за теми высокими словами, что сам же проповедовал и нёс другим людям как слово Божье? Нет, я не против этих высоких слов – это и в самом деле очень хорошие слова, и даже, наверное, священные слова… Но, как бы это сказать? Слова для пастора были одно, а сам он – совсем другое; слова жили отдельно, а пастор отдельно. Как так получается, Джек?.. Нет, иногда он, конечно, поступал по Слову Божию; вот и меня выкупил у старого хозяина и дал свободу ещё до того, как честный Эйб написал свой Билль о правах, но, Джек, всякий раз, как он поступал сообразно Слову, это было настолько непохоже на пастора, что, казалось, будто это не он, а неизвестно кто, дурак какой-то! Джек, может, я существо и неблагодарное, но знаешь, мне до сих пор почему-то кажется, что пастор, он как бы и был, и… его как бы и не было, ты меня понимаешь, Джек?
– Понимаю, – кивнул я. – Мне тоже так казалось ещё тогда, когда я у них жил.
– Но почему, Джек, почему? – от волнения Лавендер даже сорвал с себя роскошную шляпу и швырнул её наземь. – Ну, пусть я тёмный и неграмотный, но ты-то, ты ведь белый, и читать можешь и писать, ну, скажи мне: почему, почему он всех обманывал?
– Он не обманывал, Лавендер. Он просто говорил о том, как ДОЛЖНО БЫТЬ, а ДОЛЖНО БЫТЬ и ЕСТЬ – это не одно и то же.
– Это правда… – подумав, согласился Лавендер. – А у индейцев было как раз наоборот: как есть, так есть; и потому мне было с ними легко и просто. И не хотелось уходить. Но я ушёл, Джек, и ты ушёл, а почему?
– Да потому, что мы родились не в дикости, а в ци-ви-ли-за-ции.
– Ну и что? – не понял он.
– А то, что когда знаешь, что мир за стойбищем не кончается, то уже никакие слова не помогают – просто берешь и уходишь. Хорошо тем, кто родился в вигваме, ездил у мамки на спине, а потом пересел на лошадь и никогда не изобретал колеса, – им и цивилизация не нужна, и все слова на месте…
– Да-а, если уж ты вышел из цивилизации, – сказал Лавендер, – и попал к дикарям, то поначалу и впрямь все хорошо, но потом поживешь-поживешь, и начинает тянуть обратно, так и тянет узнать, а что же там, дома. Вот и возвращаешься, а хорошо это или плохо, – кто его знает, – возвращаешься и все…
Он смотал удочки, прихватил улов: окунька, несколько краппи и другую рыбью мелочь, и, не оглянувшись, направился к палатке на краю лагеря.
– Эй, Лавендер, – крикнул я ему вслед. – Но если ты вернулся домой, чего ж ты опять попёрся в прерию?!
– Во всяком случае, – ответил он, – не для того, чтобы сражаться против Лакотов. Я нанялся толмачом. Знаешь, а вдруг и они – увидят эту армаду, возьмут, да и вернутся в лоно этих, как их… агентств?
– Ты что, и вправду так думаешь?
– Нет, – признался он, – не думаю. Но если в меня начнут стрелять, – то делать нечего, начну стрелять и я…
* * *
На следующий день я повстречался с Кастером. А на встречу меня толкнули длительные ночные раздумья относительно моего официального статуса. С одной стороны, я нисколько не сомневался, что в лагере подобных размеров, где и без меня хватало всякой разношерстной публики, я могу довольно долго оставаться эдакой «тёмной лошадкой», которую, поскольку она уже тут, все видят и признают за свою, не задаваясь вопросом, откуда она взялась и что, собственно, она тут делает. Но при таком всеобщем отношении, даже не слишком мозоля глаза, я, тем не менее, должен был тешить себя надеждой, что истинная цель моего пребывания в лагере, будучи известна мне одному, не станет известна окружающим в результате ненароком брошенного слова, намека или жеста, что, однако, было вполне возможно уже по той простой причине, что находясь во вражеском стане, я вынужден был постоянно скрывать свою сущность под личиной показного единодушия с врагом, а это, согласитесь, куда как нелегко. Я опасался, что моя истинная сущность как сторонника индейцев обнаружится у первого же костра, где идут разговоры о том, как славный Седьмой кавалерийский полк наголову разобьет Сидящего Быка, что хороший индеец – мёртвый индеец и все в том же духе. В порыве патриотизма солдаты могли и забыть, что Кастер – свинья-свиньёй, и дать в морду каждому, кто усомнился бы в его полководческих дарованиях.
Проблема состояла ещё и в том, что мои намерения до конца пока не были ясны и мне самому. Местоположение индейцев до сих пор не было известно; майор Рино и его отряд как раз с той целью и находились в разведке, предположительно, в долине реки Тонг, чтобы, значит, всё это разузнать и доложить. Планы в моей голове клубились самые смутные, например, такой: улучить момент, когда войска будут в непосредственной близости от уже разведанной индейской деревни, быстренько смыться и предупредить своих друзей о нашествии Кастера, но увы, даже при самом благоприятном стечении предыдущих обстоятельств, не было никакой гарантии, что меня не хлопнут перед самой встречей.
Самое лучшее в данный момент было бы наняться разведчиком, но получение этой должности как раз и было сопряжено с Кастером. И пусть командующим считался генерал Терри, всеми делами, похоже, заправлял наш уошитский герой.
С теми мыслями я и направился в палатку Сына Утренней Звезды, пройдя мимо денщика (не того, что был на Уошито, а нового) – и, оказавшись внутри, сразу увидал походный столик. За ним восседал сам генерал, как обычно, в писательских трудах. Странно, что писательский талант Кастера так и не был отмечен мемуаристами – генерал писал каждый день: писал приказы, письма жене, и даже целые статьи для журнала «Гэлакси» – так сказать, вести с поля боя. Последним делом он сейчас и занимался.
После стрижки генерал выглядел совсем другим человеком, он, пожалуй, похудел и даже поусох, отчего, наверное, и производил сильно ослабленное впечатление на того же Кровавого Тесака. И вот что бросилось мне в глаза ещё до того, как он поднял голову и заговорил: снаружи было ещё светло, но на столе горела свеча (как я понимаю, в качестве дополнительного освещения); и пока он, склонившись над бумагами, писал, предметом моего пристального изучения стала, значит, его генеральская макушка; пламя свечи колебалось, в какое-то мгновение мне вдруг почудилось, что на генеральской макушке зашевелились волосы (у меня, надо сказать, тоже), но затем блеснуло что-то вроде зайчика, и тут меня осенило: генеральскую макушку украшала едва заметная плешь.
КАСТЕР ЛЫСЕЛ! Я даже почувствовал вдруг к нему какую-то чисто человеческую жалость, проходившую, однако, по мере того, как я стоял перед ним, не будучи удостоен его генеральского внимания. Наконец, он поставил точку в своих записях, подождал пока они просохнут, отложил перо и холодно посмотрел на меня.
– Слушаю вас, – сказал он хорошо знакомым мне резким голосом.
– Генерал, – я изо всех сил пытался скрыть вновь поднимающееся отвращение к этому человеку, – я хотел узнать, не нужен ли вам проводник или тот же толмач. Там, знаете, вместе с Лакотами есть ещё и Шайены, а я как раз-то жил среди…
– Нет, – сказал он, снова принимаясь за перо, и кликнул денщика, – проводите этого человека!
В палатку шмыгнул солдатик и замер в почтительной позе, приглашая меня, стало быть, выйти вон, но я, конечно, разозлился – и ни с места. Тогда он ухватил меня за руку, ну, чтоб ускорить мой уход, но я отклонил его помощь, а руку вырвал:
– Ещё раз тронешь – кишки выпущу! – предупредил я его строго и решительно. Кастер вторично оторвался от бумаг и разразился сухим, кашляющим смехом.
– А ты, парень с перцем, как я погляжу! – заметил он, прокашлявшись. – Что ж, это мне нравится! Ладно, – он махнул денщику выйти, и когда тот вылетел, озираясь на меня как ошпаренный, Кастер откинулся назад на своем походном стульчике и уронил с улыбкой кажущегося превосходства: – И чем же ты можешь быть мне полезен?
Меня все ещё душила злость; но, понимая всю важность этого разговора, я повел долгий рассказ о своей жизни у Шайенов, опуская всякие опасные детали, связанные с Уошито.
– А-а, Шайены, – кивнул он, не выслушав меня до конца, – с Шайенами я расправился давным-давно, так что со своими услугами, мой дорогой друг, опоздал ты лет эдак на восемь. Шайены, повторяю, это не Лакоты. Шайенов я разбил в шестьдесят восьмом, прямо на Индейской Территории. Отстал ты, мой друг, от жизни, очень отстал!
Всё это он рассказал мне с прежней усмешкой, и эта усмешка выводила меня из себя больше, чем сами слова, но при всем при том я понимал, что если дать волю своим помыслам, то помыслы толкнут меня на убийство. И я вздохнул, и сказал так спокойно, как только мог:
– Севернее Платта достаточно много Шайенов, чтоб учинить вам большие неприятности, генерал, особенно, если они выступят вместе с Лакотами.
– А-а… – протянул он, – это не беда. Даже если жалкая кучка этих бродяг и пробилась на север к Лакотам, то вместе с Лакотами я побью заодно и их, причём, для этого мне понадобится всего лишь один, уверяю вас, только один эскадрон моего Седьмого полка, если наши высокопоставленные предатели ещё не снабдили их «Винчестерами» последнего образца – в каковом случае мне понадобится не один, а два, да-да, всего лишь два эскадрона. По мне, так лучше бы они воевали с агентствами – эти мерзавцы, с одной стороны, наживаются на ежегодной дани с индейцев, а с другой – позволяют грабить их.
Похоже, этот предмет его сильно волновал, потому как он нахмурил тяжелые брови, а нос хищно заострился.
– Мерзко то, что они потворствуют зверствам против своих же земляков. Чиновник «Агентства Красного Облака» так варварски обдирал аборигенов, что ему угрожали убийством, когда он попытался поднять американский флаг над своей конторой.
Тут он осекся, как бы осознав, что разговаривать на таких высоких нотах с кем попало ему не к лицу.
– Впрочем, для тебя это китайская грамота, – спохватился он. – Извини, но нанять тебя проводником при всём моём желании никак не могу. Но огорчаться не стоит, помни, ты оказываешь неоценимую услугу своей армии уже тем, что выполняешь свой долг, долг пастуха, или погонщика, или гуртовщика – не знаю уж, чем ты сейчас занимаешься. Не всем выпадает скакать впереди колонны, но для конечного успеха ноги важны не менее, чем глаза.
Промолвив эту возвышенную речь, Кастер отпустил меня мановением руки. И тут я не выдержал. Ещё нe понимая, что делаю, я открыл рот и сказал ему все, что накипело на сердце.
– АХ ТЫ Ж, УБЛЮДОК, – сказал я, – ЖАЛЬ, НЕ ЗАРЕЗАЛ Я ТЕБЯ, КОГДА МОГ!
Так я ему сказал, сказал, как выдохнул, и только после этого перепугался, но не потому, что так уж смертельно боялся за свою шкуру; нет, я испугался потому, что понял: теперь мне не предупредить моих индейских друзей, теперь это сделать некому. Слова ещё звучали в моем мозгу, когда Кастер сказал:
– Ну, что ж, спасибо, что вызвался добровольцем. Мне по душе твоя готовность. Можно не беспокоиться об исходе войны, если даже штатские рвутся быть в первых рядах.
Он снова взял перо, а я покинул его палатку. Кастер не расслышал реплики, брошенной ему прямо в лицо!
Его мысли были заняты отсутствием снаряжения, поэтому он не обращал внимания на происходившее вокруг. Это единственное возможное объяснение.
Думаю, поэтому ни в одном из списков участников битвы на Литл Бигхорн нет моего имени. Кастер думал, что я – пастух, а пастухи и погонщики – что проводники или переводчики. Всё потому, что меня всё время видели рядом с Лавендером…
Мы стояли лагерем на реке Паудер. Там же Седьмой конный отряд оставил все лишнее, сабли тоже были сложены и оставлены. Так что изображения последнего боя, где Кастер якобы размахивает саблей, а индейцы падают вокруг – враки. Черт знает откуда – из форта Линкольна – заявился знаменитый полковой оркестр, так замучивший меня в Уошито, но в атаках не участвовал, так как оркестровые лошади были нужны солдатам. Чуть позже остальные перебрались на 40 миль вверх по Йеллоустоун, к устью реки Тонг. Я прикупил себе индейского пони, мягкое седло и недоуздок из сыромятной кожи у Кровавого Тесака – у него как раз было несколько лишних животных. Насколько я помню, обошлось все это в 2 или 3 фляги маркитанского виски. Сделка неплохая, да ведь и пони был не первой молодости, кожа да кости, к тому же на нем было несколько ран от седла, которые я лечил старым шайенским средством – мазью из пареных листьев табака, горькой травы, животного жира и соли.
Последнее моё воспоминание об этой стоянке – оркестр на отвесном берегу Паудер, играющий походный марш… Конечно же, то был «Гарри Оуэн», и конечно, он навел меня на воспоминания восьмилетней давности. Я ещё не догадывался, что вместе с затихающими вдали звуками труб меркла знаменитая кастерова удача. Мой пони трусил в хвосте колонны, рядом с вьючными мулами, заменившими в походе фургоны, а далеко впереди вилась голубая колонна.








