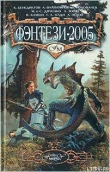Текст книги "Дом Для Демиурга. Том первый"
Автор книги: Татьяна Апраксина
Соавторы: Анна Оуэн
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 48 страниц)
После лавки он еще долго гулял по Нижнему городу и смотрел на выступления жогларов, с улыбкой вспоминая вопрос герцога. Едва ли его приняли бы даже в самую захудалую труппу, которая валяла дурака, изображая то бродячего кота, норовящего слямзить обед у нищего, то монаха, подглядывающего за прачкой. Другие жоглары, те, что владели многими музыкальными инструментами и пели о подвигах героев, на площадях не выступали.
Потом он пошел наобум, сворачивая, куда глаза глядят, разглядывая людей и прислушиваясь к обрывкам разговоров.
– … мой-то каждый вечер приползает на рогах!
– Да точно говорю вам, хлеб подорожает!
– …всех, всех, до единого, и детей…
– …как солдаты прошли, ровно перед днем Святого…
– Пауку-то что?
Саннио оглянулся, но тот, кто произнес последнюю фразу, уже свернул в проулок.
В дом госпожи Алларэ он вернулся, как и велел герцог, трезвым и уже в ночи. Он сразу понял, что в доме недавно были другие люди, не меньше пяти человек. Двое из благородных господ, они пользовались духами, за остальных Саннио поручиться не мог, но все они приехали верхом. Твердая утоптанная земля во дворе была изрыта копытами, и ее еще не успели выровнять. На выскобленном полу залы остались песок и грязь.
Герцога в доме не было. Суа передал, что утром Гоэллон будет ждать в торговом порту. Саннио пожал плечами и отправился спать. Вещи его уже были сложены, после целого дня на ногах гадать, куда подевался господин и кто собирался в доме госпожи Алларэ уже не хотелось, и секретарь уснул сладким сном. Всю ночь под окнами шумело море, но Саннио начинал привыкать к монотонному плеску и шелесту.
Мио еще не доводилось бывать в особняке Агайронов, и оказалось, что она немногое потеряла. Здесь все выглядело так, как она и ожидала. Три цвета в отделке – синее, серебро и белое, цвета графа и его супруги, старомодная тяжелая мебель. Дом чем-то неуловимо напоминал дом Руи, но если у Гоэллона все было подчинено удобству, здесь – обычаю. Неудобные стулья с прямыми высокими спинками, которые никто не догадался прикрыть подушками или хотя бы накидками, громоздкие пузатые шкафы и комоды, сквозняки, совершенно неприличные для столичного особняка. Мио могла поклясться, что и на лепнине вокруг уродливых карнизов не сыщется ни пылинки; дом был вылизан начисто, но уютным не становился. Скорее уж, чистота навевала тоску и уныние. Все лежало на местах, – на тех самых местах, наверное, что и при деде нынешнего графа; все казалось незыблемым и лишенным элегантности.
Таким же непоколебимо твердым, как мореное дерево, казался и сам граф. Высокий, прямой как палка, в старомодном длиннополом кафтане – разумеется, темно-синем. На груди две цепи: золотая, министерская, и серебряная, родовая. Мио полагала отвратительным смешивать два этих металла в одном туалете, но первый министр граф Агайрон, даже обедая дома, не мог отойти от обычая, который понуждал его носить две цепи. Впрочем, о понуждении речи не шло: Агайрону просто и в голову не приходило, что так поступать не стоит.
Граф был еще не стар, выглядел моложе своих сорока пяти, но казался старообразным. Сухие манеры и ворчливый скрипучий голос более подошли бы человеку на два десятка лет старше. При этом, на вкус Мио, он был красив, – густые черные волосы, правильные черты лица, пронзительный взгляд умных серых глаз, – но настолько не изящен, не гибок и уныл, что заставлял думать о сушеной рыбе, вяленом мясе и сухарях. Понятно было, в кого уродилась дочь.
Помимо герцогини, графа и его дочери за столом сидели две невозможные клуши неопределенного возраста. Какая из них страшнее другой, Мио гадала до самого конца обеда, – та, что с бородавками на носу, или та, у которой нос стремится навстречу подбородку? Одеты страхолюдины тоже были во что-то невообразимое. Герцогине не нравились агайрские наряды: цикласы она почитала лучшей одеждой для женщин в положении – они надежно лишали фигуру привлекательности. Но даже этот уродливый балахон можно было хотя бы подобрать по размеру или перехватить под грудью поясом…
К счастью, на Анне было платье, похожее на то, в котором она приходила в гости, но не голубое, а белое, и девица Агайрон в нем казалась девочкой лет пятнадцати, а не девушкой, которую вот-вот можно будет записывать в перезрелые старые девы. Белые цветы в черных волосах, изящно наложенные румяна – явно те, что подарила Мио, – бледный розовый перламутр на губах. Анна сейчас выглядела не хуже, чем в тот день, когда явилась в гости к герцогине, и Мио искренне радовалась успехам графской дочки. Ее искренне оскорбляло все некрасивое, несовершенное и лишенное элегантности, так что она больше любовалась Анной, чем графом и его приживалками.
Тем не менее, правила хорошего тона требовали поддерживать беседу не только с дочерью хозяина (кстати, ни румяна, ни помада не сделали Анну остроумной собеседницей), а также с главой дома, и в первую очередь с ним. Мио старалась, как могла; самый ярый ее ненавистник не смог бы обвинить герцогиню Алларэ в нехватке расположения, обаяния и такта – но это обед не спасало. При виде "деревянного графа", мучительно пытавшегося подобрать тему для беседы или последовать той, что предлагала Мио, герцогине хотелось не то заплакать, не то запустить в него тарелкой.
Граф Агайрон вовсе не был глуп и нелюбезен. Недаром его считали одним из лучших умов королевства, а Руи почитал опасным соперником и уважал, хоть и недолюбливал, первого министра. Однако ж, казалось, что он добрых два десятка лет не разговаривал с женщинами, кроме дочери и прислуги, а потому забыл, как это делается. Мио могла поддержать любую "мужскую" беседу, но заговорить с гостьей о лошадях или торговых делах графу в голову не приходило; и напрасно – в то время, как братец развлекался, именно герцогиня решала большинство дел, связанных с Алларэ, и решала успешно.
– Как здоровье Его Величества? – забросила очередную сеть в воду Мио. – Я слышала, что недавно он перенес простуду.
– В данный момент король чувствует себя отменно. Небольшое недомогание прошло без вреда.
– Здоровье короля! – Мио пригубила вино. Вот с вином в этом доме все было в порядке, виноградники Агайрэ были хороши.
– Здоровье короля! – откликнулись все хором.
– А как поживают наследники? Ваши племянники показались мне многообещающими молодыми людьми, особенно… старший. – Мио хотела сказать прямо противоположное, но тут же вспомнила, что министр недолюбливает младшего из братьев. – Говорят, он пишет прекрасные эпиграммы? Вы уже пали жертвой его остроумия?
– Не довелось, – ответил граф.
– Ах, как жаль: вы могли бы прочесть нам сочинение его высочества… Флэль Кертор так хвалил поэтическое дарование принца! Я заинтригована. Еще юноша очень хорош собой. Да, воистину говорят, что королевская кровь – золотая кровь. В младшем она тоже проявляется? – Мио подбавила в голос малую толику скепсиса.
– Я не сказал бы, – пожал плечами Агайрон. – Нельзя не отметить, что принц Элграс больше похож на отца, но внешнее сходство еще не делает короля. Будущего короля, конечно, да продлятся дни Его Величества Ивеллиона так долго, как возможно!
– Жаль, что принц еще слишком молод, чтобы нас посещать. Мы с братом были бы безмерно польщены такой честью… – мечтательно произнесла Мио и стрельнула глазами в сторону графа. – И было бы очень печально, если бы принц унаследовал от дядюшки нежелание пребывать в нашем доме…
– Что вы, герцогиня! – На откровенный упрек Агайрон наконец-то отреагировал. – О каком нежелании идет речь? Я… государственные дела… но я непременно и с удовольствием нанесу вам визит.
– Обещаете, граф?
– О да, разумеется!
Граф поцеловал ей руку, неожиданно показав, что не так уж он и неловок. Мио с удивлением посмотрела на его затылок. Первый министр короля не мог быть столь робок и косноязычен, как за обедом, а прикосновение губ продлилось чуть дольше, чем это было принято, – на одно, но важное мгновение, отделяющее вежливость от более интимного чувства. И этот тоже решил вступить в ряды ее поклонников? Это было бы… интересно. Благо, граф не юноша, который будет петь под балконом, вызывая желание швырнуть в него ночным горшком, или ломиться в окно и обещать покончить жизнь самоубийством при помощи тупого ножа для бумаг.
К тому же первый министр короля может рассказать много интересного. Если в своей гостиной, в присутствии дочери и страхолюдин он и держится чопорно, то кто знает, не сбросит ли он наедине – скажем, в будуаре Мио, – свою маску? Если нет – так всегда можно сделать шаг назад, свести дело к заверениям в вечной дружбе и глубокой симпатии.
– А что ныне слышно с севера? – спросила герцогиня. – Генерал Меррес одерживает победу за победой? Война – такое нелегкое дело…
– Донесения, которые отправляет королю генерал, обнадеживают, – сказал граф, лицом показывая все, что думает и о генерале, и о тоне донесений. Только лицом – но, оказывается, мраморная маска порой могла быть очень выразительна. Вот, значит, что занимает сейчас все мысли Агайрона. Отлично… – Думаю, к весне все будет улажено.
"Ни репья паршивого ты так не думаешь, голубчик, но делаешь хорошую мину при плохой игре. Неужели не ты заварил всю эту бойню? Удивительное дело, не сам же король до этого додумался. И не Агайрон, и не Руи – вот как интересно!".
– Очень на это надеюсь, граф. Алларэ уже наводнено беженцами, что же будет к зиме и зимой – я боюсь себе представить. В Убли каждый день прибывают корабли с новыми и новыми беженцами, бедняжки, у них нет ни имущества, ни крова. Я велела кормить их бесплатно, но, граф, это так обременительно! Нам с Реми очень жаль всех этих бедных несчастных простолюдинов, но жалость порой разорительна…
– Добрые дела нам зачтутся на пути в царство вечного блаженства и покоя, – голосом проповедника сообщил Агайрон.
– Несомненно, граф, несомненно, – сделала постное лицо Мио. – Но, знаете ли, помимо посмертного воздаяния хотелось бы рассчитывать на что-то при жизни.
– Я мог бы поговорить с королем о возмещении расходов, – подавая герцогине собственноручно наполненный бокал, сказал Агайрон. – Если, любезная герцогиня, положение действительно опасное для процветания Алларэ.
– Полное разорение нам, конечно, не грозит, но запасы зерна и муки у нас действительно не столь велики, чтобы прокормить всех беженцев, – пожаловалась герцогиня.
Граф оживился. Чем дальше разговор заходил в хозяйственные темы, тем живее и бодрее он делался, а былая деревянность манер его оставила. Видимо, на этой прочной почве он чувствовал себя куда увереннее, чем в разговоре о королевском театре, новой моде и выходках придворной молодежи. Мио на мгновение представила себя женой графа, в унылом синем платье и бесформенном цикласе, длинными вечерами обсуждающей с супругом хозяйственные дела… зрелище так ее напугало, что она поперхнулась вином.
– Боюсь, что весной на север придется ввозить зерно из Сеории и даже из Меры, а цены по всей Собране вырастут втрое, а то и больше, – начал граф, и вдруг осекся. – Герцогиня, мне не хотелось бы, чтобы эти сведения вышли за пределы моего дома. Если кто-то узнает о том, что я сказал, и южане, и Скоринги, и Брулены начнут приберегать зерно, чтобы весной продать его подороже, а Его Величество едва ли станет назначать королевскую цену…
– Несомненно, мой дорогой граф, и речи быть не может! Я хорошо помню притчу о предавшем своего благодетеля, – улыбнулась Мио. Ну что, старый шест? Услуга за услугу, так что ты похлопочи перед королем, а я не стану распространять то, чего ты не должен был мне говорить. – Можете рассчитывать на полную конфиденциальность.
– Благодарю вас, герцогиня!
"А может быть, ты это нарочно? Не похож ты на человека, который способен потерять голову перед женскими прелестями, даже перед моими, не будем обольщаться и льстить себе. На уме у тебя северная кампания, новые расходы и поиск того угря, который присоветовал королю войну на собственной земле, а вовсе не мои прекрасные глаза. Но чего ж тебе тогда нужно-то? Да уж, хороший вопрос. По части загадочности ты сравнишься с Руи…".
– Знаете ли, граф, что мне пришло в голову? Я планирую провести последние теплые дни в загородном поместье. Не согласитесь ли вы отпустить со мной милую Анну?
Глупышка, до того тихо сидевшая в кресле, вскинула голову и уставилась на отца такими умоляющими глазами, что Мио с трудом подавила смешок. Нельзя же быть такой гусыней! Герцогиня Алларэ не была злой, но широко распахнутые глаза вызывали неприязнь и желание отказать, а не согласиться. На месте графа Мио так и поступила бы, просто для того, чтобы отучить девицу Агайрон выдавать свои чувства.
– Мы могли бы прекрасно провести время в уединении, тишине, отдохнуть от городской суеты… К тому же на обратном пути я хотела на несколько дней заехать в монастырь Милосердных сестер, чтобы духовно подготовиться к праздникам Сотворивших.
– Вы оказываете честь нашей семье, но не обременит ли вас общество Анны?
– Да что вы! – в притворном изумлении Мио подалась вперед к Агайрону, и, разумеется, он не смог не заглянуть в вырез ее платья, благопристойно прикрытый косынкой, но настолько прозрачной, что нехватку зрелища граф мог бы восполнить фантазией. – Мы с Анной так подружились! А вы сможете нанести нам визит, отдохнуть от государственных забот…
– Я буду рад, – граф встал и церемонно поклонился.
Мио тоже встала и, протягивая руку для поцелуя, чуть сморщила нос. Нельзя же так откровенно демонстрировать гостье, что визит подошел к концу. Да уж, агайрское бревно остается агайрским бревном, как с ним ни любезничай…
Больше, чем лошадей, баронесса Брулен боялась только куаферов и галантерейщиков. Даже на самом смирном коне она чувствовала себя жогларской медведицей, которую смеха ради пытаются взгромоздить в седло. Везде, где можно, она предпочитала ездить в открытой повозке, но нынче стояла слишком уж дурная погода. Готовясь к сезону штормов, погода пробовала силы в первом затяжном дожде, еще теплом, но обильном и с порывистым ветром. Пришлось велеть подать закрытый экипаж, громоздкий и неудобный.
Лучше всего в такую погоду сидеть дома и пить чай, как это принято в Брулене осенью и зимой: с молоком, солью и топленым салом, но седьмой день – праздничный, и именно в праздник баронесса должна присутствовать на таможне. Если называть вещи своими именами, то не просто на таможне, а на "черной", или "покаянной", ее половине, как говорили моряки.
Марта хотела взять с собой сына, но уже пора было выезжать, а служанка прибежала, сказав, что наследник спит, и разбудить его без помощи никак не выходит. Не слишком удивительное дело: вчера Элибо опять гульнул и домой явился поздно, да и не вчера, если подумать, а уже сегодня, всего за пару часов до рассвета. Разумеется, его теперь и барабанным боем не поднимешь. Баронесса привычно вздохнула, пожала плечами и махнула рукой:
– Пусть уж дрыхнет, без-здельник. Вина ему не давай, и всем скажи, чтоб не наливали. А будет просить опохмелиться, пусть рассол пьет. Скажи, я велела. Пошли, Хенрик, нечего рассусоливать…
Хенрик, управляющий замка, в отличие от любимого сыночка, когда надо – пил, а когда не надо, так и не пил, и в шестой день пил до обеда, а после обеда капли в рот не брал, зная, что подниматься спозаранку с больной головой – радости мало. А подниматься придется, как ни крути: в седьмой день можно к литургии не ходить, простится, а вот на таможню не ездить никак нельзя.
Король Лаэрт I, трудами которого Брулены из года в год каждую седмицу половину дня проводили на таможне, был изрядный шутник. До него контрабанда была вольным промыслом, приносившим доход кому угодно, но не короне. Короля с молодости до последнего вздоха интересовало решительно все, что творится в Собране, и до контрабандистов он тоже дотянулся, но сделал это так, что в тавернах и кабаках Брулена и по сей день первый тост пили "за королевскую милость!".
Товары, законным образом приобретенные купцами в Тамере и Оганде, могли попасть в страну, только если на каждый имелась купчая грамота, подписанная продавцом и покупателем, а после заверенная чиновником. Впридачу к купчей требовалась вторая грамота, которую выписывали на таможне, и снабжена она была неподделываемой печатью, которую налагал служитель Церкви. Как ни старайся – не обманешь; селедку лишнюю в грамоту не впишешь. Кто торговал честно, тот отправлялся со всем грузом прямиком на "белую" таможню, предъявлял грамоты, платил пошлину (для иноземных купцов побольше, для своих – поменьше) и отправлялся со всем товаром дальше, вольный, как ветер: торгуй, где хочешь и как хочешь. Перед короной чист.
Если же товар покупался не средь бела дня с ведома тамерского или огандского чиновника, а во мраке ночи или прочим тайным образом, и, разумеется, никаких грамот к нему не прилагалось, то официально хода в страну ему не было. Все короли Сеорны, начиная с Лаэрта, на гневные вопросы соседей-правителей пожимали плечами и отвечали, что никакой такой контрабанды в стране толком и нет, ни один товар без грамоты с гербом короны и печатью Церкви не попадает дальше портов Брулена, а преступники – ну что ж, боремся, всеми силами боремся…
И действительно – боролись, но боролись так, что соседям, особенно тамерцам, оставалось только грызть локти с досады и грозиться страшными карами. На то и существовала Покаянная Таможня, на которую любой мог привезти свой товар, сознаться, что да, закон нарушал, контрабанду возил, а теперь все осознал, желает искупить свою вину и начать новую честную жизнь, а товар – вот он, товар, готов отдать государству. За проявленное уважение к закону преступнику полагалось некое денежное вспомоществование (полностью окупавшее его расходы и дававшее прибыль). Товар же проходил через таможню и, с некоторой приятной наценкой в пользу короны, впрочем, не слишком большой, продавался купцам уже со всеми грамотами.
В одной и той же семье обычно были и контрабандисты, и торговцы. Одни каждую седмицу или две искренне каялись и сдавали товар с переднего входа, их братья и дядья преспокойно закупали его у короны с заднего входа, и, со всеми надлежащими грамотами, везли по всей Собране.
Тамерские чиновники рыдали, подсчитывали сумму убытков, которые терпела казна кесаря каждую девятину, писали длинные доклады – и ничего поделать не могли. Каждый тамерский владелец поместья на побережье три четверти товаров продавал именно будущим кающимся, и только четверть, для вида, сбывал законным путем, уплачивая непомерные пошлины и едва-едва оставаясь в прибытке.
Тамерские корабли патрулировали побережье, и каждый рейд контрабандистов был маленькой военной кампанией, где побеждал хитрейший. Иногда этот вопрос решался еще проще: тамерцы тоже были не дураки, да еще и изрядные жадины, а потому капитаны патрульных кораблей через раз предпочитали получить мзду и "не заметить" очередное судно, идущее с грузом или за ним.
Довольны были и хокнийцы, сроду не входившие ни в какой торговый договор, ибо исповедовали еретическую Зеленую Веру. Никакая ересь не мешала им то и дело пощипывать тамерцев и огандцев, а излишки товара нужно было куда-то девать, к тому же платить старейшинам дань тоже хотели не все. С Хокной торговали много и успешно.
Третью выгоду получали огандские ремесленники. Уже лет двадцать, как в Оганде установили квоты на производство таких сложных и редких вещей, как заводные часы, хитроумные замки, механических ткацких станков, полированных линз, барометры, и многого другого, что пока умели делать только огандцы. Причина была дурацкой: дабы не сбивать цены; разумеется, цеховых мастеров, которые видели, сколько еще можно продать в Тамер и Собрану, это не устраивало, и они изготовляли свои диковинки подпольно, а потом продавали через собранскую Лигу свободных моряков.
В общем, довольны были все, кроме тамерского кесаря, но его негодование мало кого интересовало.
Родовой привилегией баронов Брулена было пожалованное королем Лаэртом право ставить свою подпись на свитках с описью "добровольно возвращенного в казну", назначать вознаграждение за сдачу "незаконно ввезенного" и устанавливать размер разницы между вознаграждением и ценой, по которой товар от имени короны продавался купцам. Двадцатый год на ткань с вытесненным гербом Собраны ложилась размашистая кривоватая подпись Марты, баронессы Брулен.
Марта сотню раз начертала пером, которое под конец затупилось и принялось цепляться за ткань два слова, снабженные широким росчерком. Сначала она еще с интересом проглядывала списки, потом уже принялась просто подмахивать один свиток за другим, не слишком вчитываясь. Сначала опись составлял писец, потом проверял Хенрик, на обоих можно было положиться. Каждый год возили одно и то же: из Тамера ткани, пряности, украшения, драгоценные камни, из Оганды – сложные штучки, зеркала, какие-то едва понятные Марте вещества для ремесленников; хокнийцы продавали и то, и другое, и вообще все, что ухитрялись оттяпать у соседей.
Последний свиток она все-таки проглядела, хоть и через строку – для очистки совести. Взгляд натолкнулся на загадочное: "Фейерверки огандские, 5 ящиков по 1000 штук, запалы для фейерверков, 1000 штук".
– Фей-ер-верки? – спросила удивленная Марта у Хенрика. – Это что еще за чешуя?
– А чтоб я знал, – откликнулся тот. – Посмотреть бы…
– Вот пойдем и посмотрим, – баронесса с удовольствием расправила затекшие ноги, поднялась и одернула платье, потом посмотрела, что наделала: по ткани расползлись два чернильных потека. – Опять изляпалась, вот же забери Противостоящий все эти грамоты…
Очередное дивное огандское изобретение выглядело невыразительно. Грязно-коричневые цилиндры размером с предплечье Марты, переложенные отчего-то сырой мешковиной. Рядом обретался и владелец товара, а может, и его слуга. Дюжий мужик с ведром заботливо поливал мешковину водой. Все пять тяжелых сундуков были открыты, и в трех уже хлюпала вода, а над четвертым как раз и возился поливальщик. Увидев баронессу, он коротко поклонился и продолжил свое дело.
Марта задумчиво поковыряла один цилиндр, больше всего походивший на спрессованную в форме футляра для свитка коровью лепешку, понюхала пальцы. Пахло резко и противно.
– Это, что ль, и есть фейерверки? – со второй попытки диковинное слово легко слетело с языка. – Что это хоть будет-то?
– Для праздника, – пояснил мужик с ведром. – Должно, значит, в небо взлетать и там воспламеняться.
– На чем оно взлетать-то будет? – изумилась Марта. – Крылья-то в них где? Или к вороньим хвостам сперва привязать надо?
– Да чтоб я знал… Велели вот – поливать раз в день, а то, говорят, и сам взлетишь, и все, что вокруг.
– Это что, стрельный состав, что ли? – нахмурилась баронесса. – Вот же еретики!
– Да нет, какой там состав… Так, дурь какая-то. И для дурака сделано. По шесть тысяч за ящик плачено, за вот эту-то пакость, – мужик полил последний ящик и выпрямился, вытирая руки о штаны.
– По скольку?!
– По шесть тыщ сеорнов, баронесса, как есть. И еще четыре за вон те финтифлюшки. – Слуга показал на открытый, как и полагалось на складе "черной таможни", бочонок, в котором среди песка лежали медные цилиндры длиной и толщиной с большой палец. – И с этой-то ерундой, с бочонком с этим, Виллем всю дорогу обнимался, как с женкой. Чтоб не то что не покатился – чтоб не встряхнуло даже. А то тоже, говорили, увидим праздник, да и с Хоагера увидят, какой праздник выйдет. И спал, и срал с ним в обнимку… А теперь еще до самой Собры так маяться – то поливать, то обнимать!
– Кому ж оно надо? – удивилась Марта.
– Мы, баронесса, имен не спрашиваем. Просили привезти – мы привезли, и отвезем, куда прошено, – насупился мужик. – Не наше дело знать, кому да зачем.
– И делать же им нечего, в Собре-столице, – вздохнула Марта. – Небось опять Алларэ чудят…
Весь род Алларэ Марта терпеть не могла с тех пор, как в молодости, едва став женой барона Брулена, побывала в столице, и там при дворе столкнулась с мамашей нынешних герцогов. Расфуфыренная холеная ровесница, фасона "соплей перешибить", не успела Марта и рта раскрыть, наговорила ей столько любезностей и по поводку платья, и по поводу прически с украшениями, что баронесса и до сих пор порой поминала "кошку алларскую" недобрым словом, потом вспоминала, что кошка уже несколько лет как отошла на суд Сотворивших, и не вполне искренне прижимала руку к сердцу: "Ну, дай Мать Оамна ей там счастья…".
– Ладно, посмотрели на чужую глупость, и пора домой, – развернулась баронесса к Хенрику. – Фейерверки, понимаешь…
Люди стояли плечом к плечу, образуя несколько кругов. Тем, кто стоял в самом широком, ничего уже не было видно, но видеть было и не нужно. Хватало звуков голоса, который набатом разносился над поляной. Проповедника было слышно и за пределами последнего круга, и, наверное, во всем лесу на сотню шагов окрест. Тот еще был голос – хорошо, что шишки с елок не падали. А может, и падали, да этого за страстной речью разобрать было нельзя. Никто сейчас о шишках не думал. Пусть себе падают, до них ли, когда такие дела делаются – прямо тут, в паре шагов.
Наставали сумерки. Трещала пакля на факелах, северный ветер раздувал пламя. Как всегда по осени, пахло в лесу сладко и пряно – еще не отцвели поздние травы, но уже подгнивали, роняя капли сока, дикие яблоки. На поляне запахов не чувствовалось, и не потому, что их заглушал запах нечистых тел. Мылись в Эллоне каждую седмицу, как раз перед праздничным днем. Надо всем витал иной запах: страха.
– Горе тебе, Эллона беспечальная! Горе тебе, земля, в сытости забывшая, кому обязана своим плодородием! Горе тебе, дщерь беспутная, оставившая отца своего! Ибо отвернулась ты от того, кто дарил тебя милостью, от того, под чьей рукой ходить должна. Забыла ты закон, и ходишь вольно, как девка публичная, стыда не ведающая! Тучны твои стада, обильны поля, но близок час, когда и на тебя найдется суд скорый, суд праведный! Будет, будет срок, близок он, уже прогибается земля под поступью Владыки, тяжел его шаг, грозен его гнев! Преподаст он закон забывшим, рукой суровой покарает беспамятных, и обрушит на землю небо, и покарает пламенем! Преисполнились вы делами гибели и беззакония, по земле бродили – и не видели, глас Его слушали – и не слышали! Будет, будет на вас кара скорая, кара праведная! Что тогда толку будет от богатств ваших, что толку в стадах и урожаях – ни пылинки сухой не останется вам, чтобы напитать детей ваших, ни капли не прольется с неба, дабы утолить их жажду! Ибо таков Его суд, и нет его выше!
Проповедник пришел в деревню вчера под вечер. Невысокий тощий человечек с потрескавшимися обветренными губами, в пыльной мешковатой одежде, неприметный, покуда смотрел в землю. Когда же поднял глаза, люди в трактире ахнули, а Марка, молоденькая служанка, прикрыла лицо передником. "Святой человек…" – прошептал кто-то и приложил ладонь к сердцу. И – тут же получил свою порцию, малую толику от гнева, которым полыхал взгляд. Плеснула кипящая смола из бадьи, обожгла и застыла – не отмоешься.
Староста отставил кружку с наполовину допитым пивом, поднялся из-за стола, едва не свернув его пузом – торопился староста, суетился. Подошел к страннику, и тот что-то едва слышно сказал ему; не сказал даже, так, чуть губами шевельнул. Но староста, хоть и притворялся тугим на ухо, когда речь шла о задержке с уплатой податей, все расслышал, поклонился, заплясал вокруг чужака.
– Опустошит землю беззаконие владык ваших, ниспровергнет злодеяние престолы слабых, и кто тогда устоит на земле? Кто тогда сможет устоять, если надежда нечестивого – пепел, бурей гонимый, и дым костра, ветром уносимый, и лед весенний? Толку ли с вашего богатства, проку ли в нем, если все, нажитое вами – лист на дереве, опадет в свой черед на землю и землей станет, а уж если буря поднимется, и рухнет дерево, удержится ли лист? Сила ваша – след корабля, что стирают волны во мгновение ока, путь птицы в небе, что глазу невидим, и неощутим, тень в полдень! Надежда ваша – тень тщеты, свеча в бурю, лучина дотлевающая, ветром колеблемая, костер угасающий! Скоро, скоро угаснет он, и негде будет взять огня, чтоб развести его, и не на чем будет пищи сварить, и не от чего согреться! Ибо исчерпано терпение Его, и настает суд скорый, суд праведный, и кто на нем сможет сказать: пощади меня, Создатель, ибо я праведен? Нет среди вас праведных, нет ни единого, ибо забыли вы законы и заветы, и не почитаете то, что почитаемо должно быть!
От еды и питья человек отказался, выпил кувшин воды, да с тем и уснул в общей зале у очага. Трактирщик предлагал ему комнату – и лучшую, и какую похуже, предлагал даром, из уважения, но тот не принял, а спорить или настаивать не решился и староста, который тоже был тут – обнимался с таким же пузатым, как он сам, бочонком пива. Проповедник лег у очага, даже не на лавку, а под нее, словно бродяга, которого пустили погреться из жалости; кто ж берет деньги за тепло, не в эллонском это обычае. Лег, накрылся с головой затрепанной полой плаща, и то ли заснул, то ли презрел шум и гам деревенского трактира. Впрочем, и шум как-то быстро угас, разошлись еще дотемна, хоть день и был накануне праздничного.
Казалось всем – нелепо и грешно хлебать пиво да плясать под наигрыш виолы, хоть вечер шестого дня от века для того и существует: выпить, поплясать, а потом уж, наутро, идти к литургии. Семь дней Сотворившие создавали все сущее и к вечеру шестого так устали, что отложили хлопоты и принялись веселиться, а только после того, наутро, взялись за работу вновь, закончили и благословили, а потому и детям их положено в шестой день веселиться, а утром седьмого – благодарить.
– Скоро, скоро свершится пиршество гнева Его, и падет на землю небо, и кто тогда устоит, кто удержит его на плечах, если нет среди вас праведных? Скоро рухнет с неба пламень, что и камни обратит в пепел, и кто устоит в огне, если нет среди вас достойных? Скоро воды морские выйдут из берегов, и поглотят сушу, и кто тогда удержится на плаву, если у каждого на ногах – пудовые гири грехов и неразумия? И нарушится годовой круг, и не будет летом тепла, а зимой холода, и опустеют поля, и измельчают озера, ибо переполнилась чаша гнева Его, до краев заполненная беззаконием вашим, и близок миг, когда опрокинется чаша и затопит землю! Кто тогда спасется, кто будет защищен броней праведности, чей голос прозвучит, моля о пощаде, кто услышан будет тогда? Нет среди вас достойных войти в царствие Его! Кто из вас еще помнит законы Его и заповеди, кто блюдет их, кто памятует о том, о чем должно?