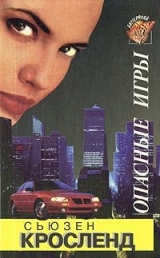
Текст книги "Опасные игры [Все ради тебя]"
Автор книги: Сьюзен Кросленд
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 18 страниц)
Сьюзен Кросленд
Опасные игры
1
– Прекрасно. Итак, каждый, кто хоть что-то из себя представляет, открывает «Ньюс» и находит колонку редактора, чтобы узнать, что хочет сказать Хьюго Кэррол по поводу последнего скандала на Капитолийском Холме. Бесстрашный Хьюго. Бичующий Хьюго. Премудрый Хьюго. Хьюго – главный политический обозреватель, которого лучше иметь на своей стороне. Но вот чего этот Хьюго простить не может – того, что я теперь так же знаменита, как он. Не можешь этого вынести, а, Хьюго?
В светлых глазах мужа Джорджи прочла, что ему хочется сейчас сделать. Хьюго хотел ударить ее. И побольнее. Но Джорджи даже бровью не повела. Так и стояла неподвижно, молча глядя на его сжатые кулаки – стройная, в узком белом платье. Бриллиантовые серьги от Тиффани, и больше никаких украшений. Решись Хьюго ударить ее, никто ничего и не узнал бы: дверь в холл их джорджтаунского дома была заперта.
Хьюго и Джорджи были женаты уже восемь лет. Хьюго ни разу не ударил жену. Он вообще был не из тех, кто способен ударить женщину. Джорджи любила поддразнить в нем респектабельного джентльмена. Ей было интересно, как далеко нужно зайти, чтобы муж в ярости кинулся на нее. Сегодня Джорджи второй раз видела Хьюго таким разъяренным. С полгода назад между ними уже произошла подобная стычка.
Началась она, как и сегодня, на заднем сиденье их «линкольна». Но в этот раз ссора была еще более яростной. Хьюго и Джорджи возвращались с обеда в честь госсекретаря, который давала Имоджин Рендл. Как только супруги сели в машину, Хьюго пришлось опустить стеклянную перегородку, отделявшую их от шофера. Если тот что-то и слышал, то виду не подавал. Уитмор был шофером Хьюго уже десять лет, за исключением того времени, когда Хьюго работал за границей. Уитмор знал о Хьюго почти столько же, сколько и Джорджи.
– Когда госсекретарь за столом прерывает разговор, чтобы спросить, что я думаю о разладе в Белом доме, хочешь верь, хочешь не верь, его интересует мое мнение, а не твое, – жестко сказал Хьюго. – А ты считаешь, что должна высказаться по любому вопросу, да? – Это было скорее утверждение, чем вопрос.
– Господи, что за придурок, – резко оборвала его Джорджи. – Да с тобой жить все равно, что с дикобразом.
– Вряд ли, – ответил он зло. – Вряд ли можно говорить о том, что ты живешь со мной, если не считать нескольких выходных да случайных вечеров, когда ты снисходишь до того, чтобы залететь между делом в Вашингтон на какой-нибудь обед, настолько грандиозный, что даже сама Джорджи не может его пропустить. – Хьюго решил выбрать другую линию атаки, как сделал бы на его месте всякий, кого загнали в угол. – Должен напомнить тебе, что это я доставал тебе приглашения в самом начале. Если бы не я, ты до сих пор сидела бы на сборе новостей.
Им говорили, что даже имена их хорошо звучат вместе. «Хьюго и Джорджи» или «Джорджи и Хьюго», в зависимости от того, чье имя было в данный момент на слуху у публики.
Журналистский рейтинг понять непросто. Хьюго Кэррол и Джорджи Чейз (в частной жизни, как и в профессиональной, они пользовались своей фамилией) любили показывать, что такие вещи их мало волнуют. Каждый из них много значил сам по себе, а уж вместе они были лучше всех. Каждый в отдельности был приманкой номер один для хозяев модных гостиных Нью-Йорка и Вашингтона. А уж если на какой-нибудь прием удавалось заманить обоих, акции хозяев тут же подскакивали.
На привилегированных сборищах журналистов, политиков, лоббистов и просто богатых зануд всех типов и мастей они никогда не соперничали. С самого начала они смотрелись как одна команда, которая не боится риска и прекрасно с ним справляется. И к тому же еще удачный брак. Все это вызывало зависть не только у врагов, но и у самых преданных друзей и коллег.
– Однажды, малышка, ты перестараешься, испытывая мое терпение, – сказал Хьюго все тем же жестким голосом. Кулаки его разжались. Хьюго сумел овладеть собой. Гнев, чуть не взявший верх над воспитанием, перешел теперь в ледяную неприязнь. Иногда Хьюго ненавидел жену. – Я не твою долбаную славу ненавижу – самый «классный», «устрашающий», «могучий» редактор журнала, – он старался уколоть ее больнее. – Я ненавижу твою самоуверенность.
– Ты переносишь на меня свой психологический стереотип. – Джорджи сказала это так, как будто говорила с несмышленым ребенком. Она знала, что такой тон бесит Хьюго больше всего на свете.
– Это твоя самоуверенность, Хьюго, не дает тебе смириться с тем, что я также преуспеваю, как и ты.
– О, Господи! Шесть визитов к этому чертову психоаналитику, которому лижут пятки все твои друзья, неспособные иметь хоть одну собственную мысль, то есть, давай будем откровенны, большинство твоих друзей, – и уже пасть раскрыть не можешь, чтобы не повторять, как попугай, эту его чушь «психологический стереотип…».
Хьюго почти выплюнул эти слова. Он помнил из детства, как фермеры стояли на крыльце деревенских лавочек и точным плевком посылали в урну струю коричневой от табака слюны. Грубость фермеров вызывала в нем одновременно восхищение и отвращение. Они олицетворяли собой все, чего не было в его сверхреспектабельном семействе.
– «Стереотип»… – повторил он саркастически. – Любая критика в твой адрес должна быть теперь «психологически интерпретирована». Все-то хотят свалить на тебя свои недостатки. Ты – великая Джорджи, олицетворение образа Венеры и Мадонны для каждого мужчины и каждой женщины, в тебя – чего там зря скромничать – сам Господь вселился, – да ты теперь выше всякой критики! Каждый, кто осмелится предположить, что ты становишься слишком большим гвоздем программы, всего-навсего «переносит на тебя свой психологический стереотип».
– Я вполне способна воспринимать критику, если она разумна, – прервала мужа Джорджи. – Если эта критика исходит от кого-то, кем движет не просто злоба. Спроси Ральфа Кернона.
– К черту Ральфа Кернона! Лучше бы в его петушиную голову не приходила идея сделать тебя редактором своего драгоценного еженедельника. Король Кернон и Королева Джорджи. Просто пара клоунов!
– Боже, – опять произнесла Джорджи тем снисходительным тоном, который так выводил его из себя. – Хьюго сегодня не в себе.
Она увидела, как руки мужа опять сжались в кулаки. На сей раз он точно знал, что ударит жену, если все это немедленно не прекратить.
– Вот бы кое-кому пришло в голову лечь в постель, пока я тут спокойно выпью, – сказал он холодно и, не дав ей возможности ответить, вышел в открытую дверь гостиной.
Несмотря на кондиционеры, вполне способные избавить от летней жары, двери в домах большинства южан оставались открытыми – привычка, унаследованная от многих поколений предков, которые с июня по сентябрь только и делали, что молили Бога о глотке прохладного воздуха. Сквозняков не только не избегали, их создавали искусственно. Но сегодня Хьюго захлопнул за собой дверь.
Джорджи и глазом не моргнула, когда дверь закрылась у нее перед носом. «Не давай мужикам влиять на свои чувства». Именно таким образом она держала себя под контролем. В тридцать два года она была на вершине. И взобралась она туда благодаря тому, что никогда не давала другим сделать себе больно: если даешь людям вмешиваться в свои чувства, застреваешь на одном месте. Она знала, что, выигрывая на самоконтроле, теряет в эмоциональном опыте. Но ее это не волновало. Гораздо важней было не испытывать ту боль, которую всегда причиняют другие, если не послать их про себя к чертовой матери.
– К черту Хьюго, – пробормотала она в пустом холле и начала подниматься по широкой, украшенной резьбой лестнице наверх, где находились спальни.
2
Оставив жену в холле, Хьюго Кэррол поднялся к себе в комнату и направился к бару. Баром Хьюго служил старинный хепплуайтовский секретер, стоявший у застекленной двери, открывавшейся в сад.
И в тридцать восемь лет в облике Хьюго Кэррола все еще было что-то мальчишеское. Он был довольно высокого роста, худощав, морщинки виднелись пока только в уголках глаз. Свои прямые каштановые волосы он зачесывал наверх, но они всегда в беспорядке падали на лоб, отчего у Хьюго был несколько небрежный вид. Эти растрепанные волосы никак не вязались с идеально правильными чертами лица.
Хьюго забавляло, что вместо книг в секретере стоит выпивка. Сейчас он достал оттуда бутылку «Скотча», сифон с английской содовой и низкий хрустальный стакан. Поставив все это на стол, Хьюго отправился на кухню за льдом. Ему необходимо было успокоиться.
Обстановка гостиной являла собой смесь антиквариата с дорогим модерном. Друг против друга стояли два шератонских трюмо с глубокой резьбой, под каждым – викторианские пристенные столики. В комнате также стояли глубокие кожаные диваны цвета мокко, кофейный столик из толстого стекла, мягкие кресла с клетчатой атласной обивкой в голубых и светло-коричневых тонах. Шик и комфорт. Голубые шторы от пола до потолка оставались открытыми, пропуская ночной воздух, который в первую неделю июня был в Вашингтоне еще свежим.
Почти все дома Джорджтауна – фешенебельного пригорода Вашингтона – были построены по одному и тому же типу, и позади каждого дома был небольшой садик, обнесенный стеной, сложенной из того же розоватого кирпича, что и дом. Глядя на эту стену, Хьюго всегда думал, что это, должно быть, тот самый кирпич, который в восемнадцатом веке брали на борт для балласта английские шхуны, отправляясь в плавание через Чизапикский залив. Кирпич выгружали в Балтиморе и Аннаполисе или чуть южней, в Норфолке, штат Вирджиния, в Англию суда возвращались с американским табаком.
С тех давних пор и до 1865 года – года поражения Юга в Гражданской войне – родственники Хьюго жили как и все южане хорошего происхождения. У них была табачная плантация, на которой трудились рабы, в то время как хозяева предавались безделью и демонстрировали друг другу свои хорошие манеры. От тех времен до Хьюго дошли только секретер и шератонские трюмо. Остальное было либо продано, либо потеряно, либо перешло к другим членам разросшегося семейства.
С отменой рабства пришлось покончить с табачным листом, и большинство Кэрролов из сельской местности перебрались в Ричмонд. К моменту рождения Хьюго семья успела породниться с докторами и адвокатами и даже с одним банкиром. Два его дяди были вашингтонскими конгрессменами среднего уровня. В Вирджинском университете, том самом красно-белом университете Томаса Джефферсона, у многих его сокурсников было похожее прошлое. Но в отличие от большинства из них, закончив университет, Хьюго не связал свою карьеру с Вирджинией. Он хотел сделать себе имя в большом мире за пределами штата. И все же тому прошлому, которое произвело его на свет, Хьюго давал очень высокую оценку. Ему нравилось легкое отношение к жизни его ричмондских родственников, то удовольствие, которое они получали, окружая себя комфортом, увлечение тем, что его мать называла «умственными вещами». Иногда Хьюго думал о той жестокости, которая таилась где-то под их безукоризненными вирджинскими манерами. Один из его дядей застрелился. Другой застрелил свою жену в тот момент, когда она упаковывала завтрак (они как раз собирались покататься с детьми на лодках), а уж потом повернул дуло в свою сторону. Позже мать Хьюго говорила:
– Война все еще собирает свою дань. – Слово «война» в Вирджинии почти всегда означало Гражданскую войну. – Поражение сказывается до сих пор, – повторяла она не раз.
Манеры Хьюго и его спокойный голос с легким акцентом могли создать впечатление, что он – человек довольно равнодушный к карьере, но на самом деле Хьюго был глубоко тщеславен. Он был способен долго и напряженно работать. Он использовал такие возможности и такие способы срезать углы, которые его предки не всегда могли бы одобрить.
У него был крепкий хребет.
Хьюго начинал с должности репортера «Вашингтон пост». Когда вся пресса, работавшая на Белый дом, была единодушна во мнении, что президенту удалось пережить очередной политический шторм, Хьюго выложил всю правду публике на первой странице «Пост». Представители Белого дома все отрицали. Но меньше, чем через неделю, факты, изложенные в статье, подтвердились.
Хьюго никогда не оглядывался назад. В журналистике, как и в большинстве профессий, двуличие может привести к вершинам. Но Хьюго шел другой дорогой. Лицемерие – не его роль. Он был человеком слова. Политики знали, что его нельзя провести, а те, кто все-таки пытался, всегда потом об этом жалели. Когда ему предложили, он перебрался в главный офис «Ньюс» в Нью-Йорке. После того как у старшего репортера по событиям внутри страны обнаружилась коронарная недостаточность, Хьюго назначили на его место. Потом Хьюго познакомился с дочерью владельца «Ньюс», и они полюбили друг друга и собирались пожениться.
К сожалению, Хьюго не сознавал в полной мере, что его невеста рассчитывала широко пользоваться преимуществом богатых женщин – правом командовать всем и вся. Она пыталась диктовать свое даже в постели. Он был умелым и внимательным любовником, и ему нравилось доставлять ей удовольствие. Но что-то в ее отрывистой манере требовать начинало раздражать: «Нет, я хочу, чтобы ты сделал вот так», – и она направляла его руку с не терпящим возражений упорством уверенного в своих методах медицинского консультанта. Помолвка была расторгнута. Отец невесты очень сожалел. Ему нравился Хьюго. «Но так бывает», – сказал он себе и не дал разочарованию от случившегося помешать соблюдению своих интересов как владельца газеты, оставив Хьюго при себе в качестве звезды «Ньюс». Позже в том же году Хьюго назначили на должность главы лондонского бюро, которой он давно добивался.
В отличие от многих американских журналистов он понимал, как строится британская политика. Он громко смеялся, когда англичане поддразнивали американцев за страсть к доллару.
– В соблюдении материальных интересов, лишенном какой бы то ни было сентиментальности, ни один американец не сравнится с английским джентльменом, – писал он.
Теплым летним вечером, в семь часов, теплоход «Ореол» отошел от пирса Чаринг-Кросс. Теплоход нанял для вечеринки Бен Фронвелл – известнейший английский редактор. На борту собралось шестьдесять человек гостей. Бен Фронвелл имел репутацию человека, с которым лучше не сталкиваться, если есть возможность избежать этого. Он славился своим пренебрежением к условностям и тем, что бывал приветлив с собеседником только тогда, когда сам считал нужным.
На палубе «Ореола» Фронвелл поучал Хьюго:
– Говорят, власть развращает, деньги развращают. Вот я скажу тебе, что действительно развращает. Дружба.
Тех гостей, с которыми Хьюго еще не был знаком лично, ему нетрудно было узнать: министры кабинета, владельцы газет, издатели, финансовые короли, популярнейшие ведущие телешоу, редакторы политических разделов и собиратели ежедневных сплетен, чьи лица каждый день глядят на вас с газетных стендов. Некоторые были с женами, но большинство – с теми, кого называют либо «девушками для приятного времяпрепровождения», либо «девицами для постели», в зависимости от того, насколько сумели они преуспеть в реализации своей жажды легкой жизни.
Хьюго возглавлял лондонское бюро около двух лет. Гостям Фронвелла, еще не знавшим Хьюго, дано было понять, что уж репутация-то его должна была быть им хорошо известна. Большинство влиятельных лиц в Британии получали «Ньюс» в числе того набора газет, который доставляли им в офис. Они могли уяснить свой международный статус из того, пишет ли о них Хьюго Кэррол или же не беспокоится на их счет. Он был американским журналистом, которого жаждал видеть каждый английский политик, что, в свою очередь, открывало ему двери в те дома, где политика, пресса, деньги – все смешивалось воедино. И конечно, никого не смущало, что он был один. Неженатый преуспевающий мужчина, как и незамужняя преуспевающая женщина, если они обаятельны и знают, как себя подать, имеют в Лондоне широкий выбор светских развлечений.
Пока «Ореол» плыл вниз по течению под центральной аркой Саусворкского моста, некоторые гости Фронвелла, потягивая шампанское, смотрели вниз, на прибывающую воду. Всего несколько лет назад здесь потерпел крушение другой теплоход, на котором тоже шла вечеринка, и пятьдесят человек были затянуты в холодную глубину. Их протащило много миль, прежде чем прилив оставил в покое их тела. И все же гости Фронвелла продолжали веселиться, устанавливать контакты, производить впечатление, пускать по кругу сплетни. И мало кто обращал внимание на проплывающие мимо берега.
Часом позже, миновав Гринвич, «Ореол» пришвартовался к пирсу фешенебельного ресторана. Банкет был устроен в саду, под полосатым тентом. Каждый круглый столик с крахмальной скатертью, уставленный сияющим серебром и хрусталем, был накрыт на десятерых. Место Хьюго было рядом с женой министра обороны. С другой стороны от него сидела эффектная темноволосая девушка в лимонно-желтом платье. Это был любимый цвет Хьюго. Но он тут же забыл о ее одежде, когда взглянул на черные волосы, подстриженные, как у японской куколки, и увидел золотисто-карие глаза. Бегло взглянув на карточку против прибора девушки, он прочел «Джорджи Чейз».
Сначала Хьюго заговорил с женой министра обороны, с которой он был знаком. Потом он решил представиться Джорджи Чейз.
– Я уже знаю, кто вы, – сказала девушка. – Я расспросила, когда увидела вас на палубе «Ореола». Я тоже журналист. Но не такой грандиозный, как вы. Когда-нибудь стану.
Ей было тогда 23, Хьюго – 28.
Оба рассмеялись.
3
С девятилетнего возраста Джорджи Чейз испытывала странное чувство отчужденности от всего, что происходило вокруг.
До девяти лет Джорджи точно знала, кто она: веселый и счастливый младший ребенок в благополучной среднеамериканской семье. Джорджи была папиной любимицей.
Семья Чейзов жила на ферме близ Линкольна, штат Небраска, которой Чейзы владели еще с начала века. Ферма была окружена пастбищами. Год от года территорию отхватывали банкиры и промышленники, которых привлекали прелести деревенской жизни и одновременно возможность добираться до своих офисов без особых хлопот.
Джорджи назвали в честь отца. Джордж Чейз решил перебраться на ферму после того, как умер его отец. До этого он был вице-президентом консервной компании в Линкольне.
– Джейн, дорогая, как тебе нравится моя идея переехать на ферму? – спросил Джордж жену. – Ферма достаточно большая, мы сможем там жить вполне достойно. У меня будет больше времени для тебя и девочек. А светских развлечений там будет не меньше, чем в городе.
– Я не против, – сказала Джейн Чейз. – Единственное, о чем я прошу, так это чтобы никто не ждал от меня, что я стану доить коров.
Однако внешне миссис Чейз вполне походила на хорошенькую доярку – белокурые волосы, молочно-белая кожа, ярко-голубые глаза. Как и ее муж, она была женщиной добродушной, но большой бездельницей. Работа на ферме утомила бы ее. Однако в использовании огромного сельского дома для светских развлечений был свой шарм. Жить за городом считалось высшим шиком.
Так что жизнь Джорджи в семье текла спокойно. В доме царили теплота и спокойствие. Когда семья перебралась в деревню, Джорджи было около пяти лет, а ее сестры уже учились в колледжах. После отъезда сестер в колледж Джорджи наслаждалась положением единственного ребенка, которого любят и балуют родители. По правде говоря, по-настоящему баловал только отец, но жизнерадостная натура миссис Чейз никогда не позволяла ей относиться к дочери критически.
Придя домой из детского сада, Джорджи в первую очередь искала отца. Она обожала вертеться вокруг него в хлеву, пока он следил за доением.
Через два дня после девятого дня рождения Джорджи мать окликнула ее с веранды, когда она возвращалась домой из школы: – Иди, посиди со мной на качелях, Джорджи.
Качелями они называли трехместный диванчик, подвешенный на двух опорах. Джорджи любила качели. Отталкиваясь ногами, она могла заставить это сооружение качнуться три-четыре раза, прежде чем требовалось приложить следующее усилие.
– Я должна что-то сообщить тебе, дочка, – сказала миссис Чейз.
Джорджи еще раз оттолкнулась ногой, и они с матерью так и сидели бок о бок, покачиваясь взад-вперед.
– Мне кажется, – сказала миссис Чейз, – тебе нравится ходить со мной и с папой в гости к соседям. В прошлое воскресенье я видела, как вы весело болтали с Фрэнсисом, спускаясь к пруду.
У промышленника Фрэнсиса Нейлора была большая усадьба в миле от Чейзов.
– Это потому, что он взял меня за руку.
Джейн Чейз переменила тему.
– Я и папа, – сказала она, – любили друг друга и всегда будем любить. Но знаешь, Джорджи, двум людям непросто прожить вместе всю жизнь. Когда раньше люди жили не так долго, было по-другому. Но в наши дни – ты знаешь об этом от многих своих друзей – после двадцати лет жизни пары часто замечают, что больше не так уже хороши друг для друга.
– Но вы с папой не такие. И вы хороши для меня, – сказала Джорджи.
– Я знаю, дорогая. И ты у нас чудесная дочка! Но если бы мы с папой продолжали жить вместе, мы бы ссорились, и ты уже не считала бы нас такими хорошими. Мы с папой решили разойтись. Ничего страшного. Просто теперь у тебя будет два дома, а не один. Многие люди отдали бы все, чтобы иметь два дома.
– Но я не хочу два дома, – сказала Джорджи.
Шея ее затекла, да и спина побаливала. Качели останавливались. Джорджи вдруг показалось, что, если она сумеет опять оттолкнуться и привести качели в движение, все опять пойдет по-старому, и боль в спине тоже прекратится. Она оттолкнулась. Они с матерью снова раскачивались туда-сюда.
– Что ж, Джорджи, мы с твоим папой решили, что лучше будет пожить отдельно. Мы с тобой переедем к Фрэнсису. Но вы с папой можете ходить друг к другу в гости сколько захотите.
Вскоре после свадьбы Джейн и Фрэнсис Нейлор решили переехать в Лондон. Фрэнсис был назначен исполнительным директором английского филиала своей фирмы. Три недели перед отъездом Джорджи прожила на ферме с отцом.
Пришло время прощаться, глаза Джорджа Чейза наполнились слезами, и когда они покатились по его лицу, он отвернулся. Джорджи не плакала.
– Порядок, пап, ма говорит, что я могу приезжать на ферму на каникулы. И мы можем писать друг другу.
Произнося эти слова, Джорджи вдруг ощутила внутри себя странное чувство, которое собственно нельзя было назвать чувством. Оно было скорее похоже на отсутствие всяких чувств. Джорджи подумала о пустом пространстве под верандой, но и это сравнение не помогло ей разобраться в себе. Она почувствовала так, словно внутри ее была дыра. Это ощущение она никогда раньше не испытывала.
Через полгода после того, как началась лондонская жизнь Джорджи в симпатичном доме близ Уимблдонского национального парка, она сидела в комнате и писала письмо отцу, когда зашла ее мать. Джейн обняла Джорджи.
– Я должна что-то сказать тебе, дорогая. Вчера умер твой отец. У него был рак. Ему повезло, что болезнь не затянулась, как это часто бывает. Он не страдал.
Джорджи не заплакала. Она сидела неподвижно. Он ушел. Именно так. И даже не попрощался. Она так никогда и не узнает, страдал он или нет. Она так никогда и не сможет объяснить ему, как сильно она его любила. Боль была такой чудовищной, что Джорджи оттолкнула ее от себя. Но внутри она опять чувствовала дыру.
Фрэнсис Нейлор был довольно милым отчимом. Они с Джейн были заядлыми бриджистами, и это наряду с богатством Нейлора и его деловыми связями обеспечило им доступ в элитарное лондонское общество. Им довольно скоро предложили стать членами престижного бридж-клуба. Когда Фрэнсис Нейлор был выдвинут в члены Реформ-Клуба, ни один член Комитета не пытался его забаллотировать, что могло бы случиться с англичанином.
Как и английские дети, с которыми она была теперь знакома, Джорджи чаще видела домоправительницу, с которой занимала соседние комнаты, чем свою мать. Когда ей исполнилось одиннадцать, ее отдали в пансион. Разлуку с домом Джорджи особенно не переживала. Все остальные девочки тоже были оторваны от семей. В первую неделю некоторые девочки плакали по ночам, но Джорджи особой тоски по дому не чувствовала. У нее появилось много новых друзей. Она была умна. На нее приятно было посмотреть – стройная, кровь с молоком (унаследовала цвет кожи матери), карие глаза, которые при определенном освещении становились золотистыми и контрастировали с темными, почти черными, волосами, унаследованными от отца, ниспадавшими длинными волнами. Вскоре после своего двенадцатого дня рождения Джорджи отрезала семь-восемь дюймов своих волос ножницами для бумаги. На висках остался только коротенький прямой ежик. Джорджи видела в воскресном приложении черно-белую фотографию Луиса Брукса, и ей понравилась длинная челка и короткие виски. Ей не давался затылок, но другая девочка подстригла его неровной зубчатой линией. Наставница решила, что лучшим выходом из этой ситуации будет послать ее к хорошему парикмахеру, который подровнял челку и виски, а сзади постриг волосы так, что красивая шея стала выглядеть очень соблазнительно.
Джорджи было чуждо чувство соперничества. Ее забавляла та яростная вражда, которую начинали испытывать гости-мужчины во время сельского уик-энда по поводу крикета. Ее вообще не волновало, выиграет она или проиграет в крикет. Но если она чем-то действительно интересовалась – учебными предметами, гимнастикой, теннисом, – то уж в этом она хотела быть лучшей.
– Мы нисколько не удивились, когда Джорджи получила Оксфордскую стипендию, – писала наставница матери Джорджи.
Первое, что заметила Джорджи в Оксфорде, это то, что соревнование было жестче во всех отношениях. Ей приходилось тратить больше усилий, тогда как остальные в основном зубрили и записывали. К светской жизни это относилось в еще большей степени, чем к учебе. У нее были подружки, были поклонники. Она была веселой и своеобразной девушкой. Хотя Джорджи и нравилась студенческая жизнь, но если ничего другого не оставалось, она вполне довольствовалась своим собственным обществом и любила почитать или помечтать.
Несколько раз она влюблялась. Но ее влюбленности всегда проходили на фоне какого-то эмоционального равнодушия. Она не жалела об этом: это оберегало от страданий. Но это также вело к тому, что Джорджи научилась смотреть на людей механически: если они ее разочаровывали, она их выключала.
Один из соискателей был очень подходящей партией.
– Я знаю, знаю, – говорила Джорджи Пэтси Фосетт (вскоре после встречи в Оксфорде они стали лучшими подругами). – Он устроит мою мать на все сто процентов. Но единственное, чего он хочет на самом деле, это чтобы я была прежде всего и только женой. Когда он говорит, что не будет возражать против моей карьеры, он сам не верит тому, что говорит. Так что нам лучше расстаться.
Джорджи мечтала сделать такую карьеру, которая позволила бы ей управлять собственным экипажем, и она догадывалась, что блеск ее карьеры будет ярче по ту сторону Атлантики, возможно, в Нью-Йорке. Она хотела быть журналисткой. Ей всегда нравилась Британия. Здесь был большой выбор газет и цветных иллюстрированных журналов. Но журналистика в Британии была профессией мужчин. Лучшее, на что могла рассчитывать женщина, – это место в отделе сбора информации. Время для женщины-редактора даже развлекательного журнала еще не пришло.
Идеальным местом для карьеры ей казался Нью-Йорк. Вот уж где был поистине огромный выбор журналов! Больше всего Джорджи хотелось быть редактором иллюстрированного еженедельника, так чтобы вся политика редакции была целиком и полностью в ее руках – в отношении властей, в отношении прессы, литературная, социальная, денежная политика, политика в отношении моды и любая другая политика, которую еще можно было вообразить.
– Хочу быть тем, кто дергает за ниточки, заставляя марионеток плясать, – говорила она Пэтси Фосетт.
Со дня смерти отца Джорджи ничто уже больше не связывало с Америкой, она задумывалась о возвращении туда только из-за карьеры. Она никогда не скучала по Небраске. Если и вставал перед ней когда-нибудь образ фермы, где прошло ее детство, то он всегда напоминал скорее картинку в рамочке, моментальный снимок из далекого прошлого.
Подруга Джорджи, Пэтси Фосетт, росла окруженная любовью обоих родителей, чего Джорджи не знала со времен раннего детства. Отец Пэтси был секретарем Королевского суда. К девочке относились как к сокровищу, особенно после того, как выяснилось, что миссис Фосетт не сможет больше иметь детей.
Всякий раз, если коллеги спрашивали судью Фосетта, когда он собирается отправить свою дочь в пансион, судья отвечал:
– Нам с женой никогда не нравился этот странный английский обычай – отсылать от себя детей. И мы не собираемся распространять его на своего единственного ребенка.
Пэтси ходила в элитарную лондонскую дневную школу, расположенную в двадцати минутах езды на автобусе от дома Фосеттов в Кенсингтоне. Антония, как ее тогда звали, преуспевала и в учебе, и в спорте. Однако после того, как ей исполнилось тринадцать, в доме Фосеттов разразилась буря. Судья Фосетт всю жизнь отчетливо помнил этот день. Вся семья сидела за тиковым столом на балконе и поедала воскресный ленч. Солнечный свет, проникавший сквозь ветви дуба, нависавшие над балконом, играл в медовых волосах Антонии, превращая их в золотые. Тут-то все и началось. Антония объявила родителям, что с этого дня она откликается только на имя Пэтси. Родители переглянулись.
– Но Антония – такое красивое имя, дорогая, – произнесла наконец миссис Фосетт.
– Оно не идет мне.
Продолжать явно требовалось с осторожностью.
– Если ты хочешь сменить имя, – терпеливо начал судья, – не лучше ли как следует поразмыслить, прежде чем принять окончательное решение? Американцы обычно называют словом «пэтси» дурачка, которого все обманывают.
– Мне все равно, – ответила девочка. – За дурочку меня никто не посмеет принять.
Мистер Фосетт увидел, что глаза Антонии вдруг стали дерзкими, темно-бирюзовыми. Он подавил вздох.
С несколько смущенным видом девочка обернулась к матери:
– Жалко, что так получилось с полотенцами, мам, – сказала она. – Может, удастся как-нибудь выдернуть стежки из «А», чтобы получилось «П»?
Дело в том, что миссис Фосетт, выкроив несколько часов из своего более чем насыщенного расписания, специально съездила к «Хэрродсу» и выбрала Пэтси в подарок ко дню рождения два турецких махровых полотенца ярко-зеленого цвета, которые попросила украсить монограммой «АФ».
Пэтси по-прежнему преуспевала в учебе и спорте, но у нее появилось еще два увлечения. Во-первых, теперь ей нравилось, просыпаясь по утрам и лежа в постели изучать свое начинающее созревать тело. При этом она раскидывала ноги в стороны, а руки поднимала над головой, так что они лежали на ее блестящих волосах цвета меда (она подумывала о том, чтобы называться Хани, но потом решила, что это будет звучать слишком по-американски). Другим увлечением Пэтси, тесно связанным с первым, был пятиклассник из соседней школы для мальчиков. Дважды в неделю они встречались после занятий на лужайке под платаном перед школой Пэтси, пили вместе кофе в Хэммерсмит Роуд, затем Пэтси садилась в метро и ехала домой.







