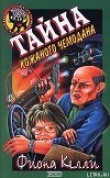Текст книги "Полторы минуты славы"
Автор книги: Светлана Гончаренко
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 17 страниц)
– К чему так подробно рассказывать о прошлогодней окрошке? – заметил Стас. – Учти, меня дела ждут.
Тошик обиделся:
– Так я ж общую картину восстанавливаю! Тут каждая деталь важна. Так вот, сижу у павильона на кирпичах – у нас с одной стороны бетонные панели лежат, а с другой – кирпичи (мы два простенка разобрали, декорация не помещалась). Сижу и вижу боковым зрением – подъезжает к соседнему цеху хорошая машина. Повернулась – синий бумер. Сроду таких тут не водилось.
– Точно, синий, – подтвердил и Женя Смазнев.
– Ярко-синий? Светло-синий? – переспросил Стас.
– Ни то ни другое. Я живописец... Хмуро-синий, я бы сказал.
Стас удивился:
– Серо-синий, что ли?
Тошик почесал кудрявый затылок:
– Нет, и не серо-синий. Этого словами не расскажешь. У меня тут этюдник с собой, я вам такой цвет на палитре смешаю.
Непонятно было, как он собирался получить хмуро-синий: ведь в этюднике у него, по обыкновению, лежали только зеленущая ФЦ и марганцовочный краплак.
– В общем, интересная подъехала машина, – продолжил Тошик. – Хмыри из «Сомерсетта» все на «японцах» ездят, б/у. Вышли из бумера двое...
– Как они выглядели? – вопросом перебил его Стас.
– Обычно, – пожал плечами Тошик.
– Тоже мне живописец!
– Да они неживописные были! Дядьки как дядьки. В каких-то дурацких серых куртках. Я на них и не смотрел, мне машина понравилась!
– Сколько им лет? Приблизительно хотя бы?
– Черт их знает! Вроде бы не пенсионеры. Лет, наверное, за тридцать или еще старее. Один с животиком. Я на них не смотрел...
– Ладно! Ты что-то про номера говорил, – напомнил Стас. – Вот Смазнев утверждает, что номер был 9339.
– Фигня! Что может знать Смазнев? Это у меня образная память! Я сейчас так и вижу этот номер...
Тошик зажмурил глаза, сжал мохнатые блестящие ресницы, открыл рот и замер надолго.
– Что видим? – поинтересовался Стас.
Тошка недовольно затряс головой – мол, не мешайте!
– Ну да, – через некоторое время сказал он, так и не размыкая глаз, зато водя в воздухе рукой. – Радиатор крутой, будто ухмыляется злобно, а номер... Все цифры круглые такие... И две тройки скалятся. Две тройки рядом, а спереди две шестерки!
– Там девятки были! – возмутился Женя Смазнев. – Чего он врет! Я помню: девятки там были, и по краям.
Зажмурившийся Тошик фыркнул:
– Сам ты девятка! У меня образная память. Две тройки скалятся, а впереди шестерки. У них низ тяжелее, а у девяток верх. Висят две шестерки подряд, как две капли. Точно!
Довольный результатами, Тошик снова распахнул глаза и воззрился на белый свет.
– Обобщим, – устало сказал Стас. – Хмуро-синий бумер, у шестерок тяжелый низ...
– И лев качает головой! – жизнерадостно закончил фразу Тошик.
Стас даже отпрянул:
– Что за лев такой?
– Сзади, за стеклом сидит. При движении качает башкой по принципу китайского болванчика. Очень безвкусная игрушка. Я бы его из бумера на помойку выкинул – стиль сбивает.
– Точно! – в первый раз согласился с Тошиком Женя Смазнев. – Был лев! Я зад бумера видел, и там этот лев сидел. Здоровый такой, прямо с кошку, плюшевый.
– А скажите, Супрун, те двое мужчин, что вышли из бумера, в «Сомерсетт» направились? Да? И сколько они там пробыли? Хотя бы примерно? – приставал Стас.
Это были скучные вопросы про скучных людей, и Тошик только плечами пожал:
– Не помню! Вроде бы они из «Сомерсетта» и не выходили. Я на них не смотрел. К тому же вскорости Женька гуляши приволок, пришлось идти в павильон, ситуацию разруливать.
– Его мама меня выгнала, сказала, гуляш жирный, – пожаловался Женя. – А гуляш был классный! Может, тут у вас в милиции столовой нет? И горячие обеды нужны?
– Обойдемся пока, – отрезал Стас. – Спасибо, ребята, за помощь.
– Что, мы правда помогли? – не поверил ему Тошик.
– Еще как!
А в это время Катерина Галанкина и реставратор мебели Николай Самоваров сидели в кабинете главврача психиатрического диспансера на Луначарского. Собственно, Самоваров там сидеть не собирался. Он только позвонил Катерине и намекнул, что ей хорошо бы поискать мужа в психушке. Ее там будут ждать ровно в одиннадцать. Похоже, ее ждет приятный сюрприз.
– А-а-а! – застонала Катерина в телефонную трубку.
Весть о возможном спасении Феди слишком внезапно порхнула в ее беспокойную душу и никак не могла найти там себе места.
Через несколько минут Катерина собралась с мыслями.
– Вы, Николай, должны быть рядом со мной в эту минуту, – решила она. – Ваша мощная энергетика позволит мне справиться с потрясением. Да, то, что мне говорили о вас, – правда. Вы можете все! Мой экстрасенс с его глобусом ни черта не чувствует. Он уверял, что Федя покойник, а вы никогда, никогда, никогда с этим не соглашались. У вас дар. Дар от Бога. Если б вы сосредоточились на ясновидении, вы обрели бы мировую славу!
– При чем тут ясновидение? – стал отбиваться от мировой славы скромный Самоваров. – Мне случай помог.
– Случай? Пусть случай. Нет ничего важнее, загадочнее и могущественнее случая. Никто не знает, какие страшные силы скрываются за этим легкомысленным словом.
Катерина говорила волнующе, неотразимо, как умеют только актеры, и в конце концов назначила Самоварову встречу в пол-одиннадцатого утра, у четвертой колонны областной психбольницы.
– Не пойду, – решил Самоваров.
– А по-моему, ты просто обязан пойти, – сказала ему Настя, задумчиво расчесывая свои длинные волосы.
Она смотрела в зеркало на свое отражение и сквозь него видела всевозможные чудеса жизни. Она очень часто писала автопортреты – не из восхищения собой, а из-за того, что собственное лицо куда изученнее, послушнее и необидчивее всех прочих.
– Я лучше на работу пойду, – отозвался Самоваров. – У меня полно своих забот.
– И все-таки в пол-одиннадцатого ты будешь у психбольницы, – улыбнулась через плечо Настя. – Ведь тебе самому интересно, Карасевич или нет этот помещик Иванов. Так ведь? Я уверена, это он, а вычислил его ты. Больше никто бы не смог! Галанкину жалко: она хотела труп, а получит сумасшедшего. Ее надо поддержать морально. Ну а главное, если ты не пойдешь, не сможешь рассказать мне, как все было.
И вот в назначенное время Самоваров и Катерина сидели в прохладном кабинете главврача Вениамина Борисовича Сачкова.
Сачков и доктор Низамутдинова, лечащий врач больного, известного как Иванов, терпеливо слушали рассказ Катерины. Исчезновение Феди, напрасные поиски в моргах и вытрезвителях, бессилие милиции она описала по-актерски сочно и убедительно. Когда же дело дошло до поисков режиссера с помощью глобуса и политической карты мира, в глазах врачей вспыхнул живой профессиональный интерес.
Заметив это, Самоваров перевел речь на творчество Чехова. Катерина по книжке зачитала несколько фрагментов пьесы «Иванов». Затем она протянула врачам последние по времени фотографии Карасевича, захваченные по настоянию Самоварова.
– Гм, – только и сказал Вениамин Борисович, взирая на снимки.
Фотографировали Федю для городского глянцевого журнала «Персона грата». На снимках Федя приветливо улыбался. Его левая щека, ухо и боковая грань значительного носа освещались ярко-рыжим пламенем камина. За Фединой спиной золотились завитки огромного кресла, в котором обычно позировали для печати деятели искусств и прочие важные персоны.
Кресло это Самоваров знал как родное – оно стояло в Зеленой гостиной областного музея, и он собственноручно его золотил. Федя отлично вписывался в интерьер генерал-губернаторской гостиной. Как всегда, на этих снимках он был недобрит, недочесан, его одежда выглядела мятой, несвежей и будто подношенной прежде кем-то другим. Но все-таки печать незаурядности проступала на его волевом лице.
– Гм, – повторил Вениамин Борисович и поднял на Катерину свои усталые глаза.
Доктор Низамутдинова в своих выводах была куда категоричнее.
– Да он это, Вениамин Борисович, посмотрите! – воскликнула она. – И бородавка возле уха, и другие антропометрические данные... Чего гадать: давайте проводим родных к палате, пусть посмотрят на больного вживую. Он сейчас как раз отдыхает. Тут уж ошибки не будет – родные сразу узнают, он ли это.
Самоваров, внезапно угодивший в родственники Карасевича, смутился. Он никак не мог опознать, тем более безошибочно, человека, которого никогда в жизни не видел. Но большая горячая рука Катерины обвивала его предплечье все время, пока шел разговор с врачами. Подпитывал ли он сам Катерину своей несказанной энергетикой, он не знал. Зато Катеринина рука жгла и припекала его, как горячее влажное полотенце, и сообщала тревожность переживаемому моменту. Избавиться от нее не было никаких приличных способов.
Так, рука об руку, и двинулись они за доктором Низамутдиновой по больничному коридору, потом по лестнице и снова по коридору.
Остановились перед какой-то белой дверью, одной из многих.
– Он тут, – шепнула доктор, приоткрыв дверь. – Поглядите на него, но ни в коем случае не входите и не привлекайте его внимания.
Они заглянули в щель. В двухместной палате кто-то лежал на одной из кроватей, свернувшись калачиком под одеялом ангельского сиреневого цвета. Но это был не Федя. Федя не спал. Он стоял посреди палаты и смотрел в окно.
Самоваров прежде никогда не встречал режиссера Карасевича. Но почему-то сразу узнал жесткую стерню черных волос и длинные ноги-палки Петра Первого. Больницы Нетска давно уже не получали казенных халатов и пижам. Больные одевались во все свое, иногда очень элегантно. Только неимущие, бомжи и беспамятные получали одежку из фондов гуманитарной помощи. Федя именно как беспамятный был облачен во фланелевые бермуды и серую растянутую майку с эмблемой неизвестного гольф-клуба (эти наряды некогда принадлежали какому-то сердобольному шведу и с сорока килограммами других его обносков были переправлены в клиники стран третьего мира).
Увидев Федю, Катерина вздрогнула. Она вонзила ногти в уже и без того нагретую и измученную руку Самоварова.
– Здравствуйте, Иванóв, – спокойно и невыразительно сказала доктор Низамутдинова, входя в палату.
Федя обернулся. Никакого сомнения не оставалось, что это он – тот самый человек с фотографии, что восседал в золоченом кресле у камина, громоздил творческие планы, всеми был любим. Это в его глазу тлела живая оранжевая искра, это его улыбка осчастливливала, и голос рокотал, лез в душу, убеждал, распахивал сердца и кошельки. Федор Карасевич – собственной персоной!
– А, это ты, Аня! – ответил он Низамутдиновой по-чеховски мягко.
У Катерины сперло дыхание и запел, затрещал в памяти вечный чеховский чахоточный сверчок.
– Зачем ты тут? – продолжал Карасевич. – Поди приляг. Немножко жестоко это говорить, но лучше сказать... Когда меня мучает тоска, я... я начинаю тебя не любить. Не спрашивай, отчего это. Я сам не знаю. Клянусь, не знаю!.. Тебе вредно выходить, тут слишком сыро. Поди!
– Я не Аня, – скрипучим неподкупным голосом возразила доктор Низамутдинова. – Меня зовут Алла Ахатовна. Сейчас совсем не сыро, температура воздуха плюс двадцать восемь – двадцать девять градусов.
Еще в коридоре Низамутдинова велела Катерине и ее спутнику только со стороны поглядеть на предполагаемого Федю. Появление жены и родственника Самоварова может напугать больного и вызвать нервный срыв. Если Катерина мужа опознает, то в специально отведенном помещении, в присутствии медиков будет организована встреча. Возможно, Федя сразу вспомнит близких. Возможно, нет. Тогда понадобится длительная, кропотливая работа.
Однако когда Катерина увидела Федю совсем рядом – похудевшего, тихого, в чужих бермудах, – она мигом выбросила из головы все медицинские рекомендации. Взмокшую руку Самоварова она наконец выпустила и так двинула крепким плечом полуоткрытую дверь, что та оглушительно, просыпав побелку, стукнулась о стену.
Катерина ворвалась в палату с возгласом:
– Федя! Федя!
Грудной, богатый Катеринин голос даже без помощи усилителей легко достигал галерки. Он одним своим тембром сотрясал душу. Самоваров, стоя в дверях, мог видеть, как нейтральное, бесстрастное лицо доктора Низамутдиновой от звуков этого голоса перекосилось и обмякло. Больной, дремавший в палате под сиреневым одеялом, вскочил как ошпаренный и спустил голые ноги на пол. Он оказался бледным юношей с большими полупрозрачными ушами (как позже выяснилось, этот юноша уклонялся на Луначарке от исполнения воинского долга).
Сам Федя замер, сохранив в фигуре и улыбке чеховскую мягкость. Его лицо было сегодня небритее, чем обычно, и худее, и желтее. Даже его нос, кажется, немного искривился. Черные глаза остановились на Катерине. Они не моргали и не выражали ничего. Рот безвольно открылся.
– Федя! – повторила Катерина тоном ниже, еще проникновеннее.
Бледный юноша-уклонист вздрогнул и подобрал ноги под одеяло.
Катерина сделала последний шаг, кинулась к Феде и прижалась к его груди. Доктор Низамутдинова хотела сказать ей что-то осуждающее, но тут Федя наконец шевельнулся и скрестил длинные бледные руки на Катерининой спине. Спина эта крупно вздрагивала. Юноша с ушами снова лег и прикрыл голову одеялом.
– Федя, милый, это ты! Ты! Где же ты был так долго? Боже, как долго... Ты жив! Ты жив! Карасевич, мы все с ума сходили... Ты жив! Как долго...
Такие и подобные слова говорила и говорила Катерина, не отрываясь от Фединой груди и приглушая ею мощь своего голоса.
Карасевич стоял все так же неподвижно. Вдруг большая мутная слеза созрела в его левом, чуть сощуренном глазу. Она медленно поползла, виляя по небритой щеке. Затем скатилась и другая, из другого глаза, а за ней еще и еще – потоком, так что Феде пришлось совсем закрыть глаза и тоненько, жалко всхлипнуть.
Катерина перестала говорить. Она властно усадила Федю на кровать и сама села рядом. Кровать под ней струнно запела и звякнула.
Самоваров посмотрел на Катерину и удивился. Оказалось, что, несмотря на дрожь спины, душу раздирающие слова и слезы в голосе, она все это время не плакала.
– Федя, я рядом! Все будет хорошо! Все уже хорошо! – заклинала Катерина.
Крупной рукой в нефритовых перстнях она перебирала Федины жесткие, нечесаные волосы и улыбалась дрожащей улыбкой.
Самоваров отвернулся в смущении. Не то чтоб ему было неловко присутствовать при интимной семейной сцене, нет! Но часто в кино и на сцене видел он точно такие же дрожащие улыбки и чуткие женские пальцы, перебирающие волосы любимого. Он не был уверен, что Катерина фальшивит. Он не мог представить, что бы он сам делал, если б был любящей женщиной и вместо желанного трупа и новой жизни получил жизнь старую и старого беспутного мужа – невредимого, но в психушке и в гуманитарной майке. Может быть, он тоже бросился бы перебирать его волосы. А может, и нет. Вот это-то сомнение и смущало.
Доктор Низамутдинова неслышными шагами подобралась к Самоварову и прошептала:
– Вы подтверждаете – это в самом деле пропавший режиссер Карасевич?
– Разве вы не видите? Кому же еще быть? – ответил Самоваров самым сокровенным шепотом, на какой был способен. – Приметы вполне совпадают. Я, пожалуй, пойду!
– Нет-нет-нет! – запротестовала с кровати Катерина.
Оказывается, своим чутким ухом она слышала тишайшие звуки. Продолжая одной рукой блуждать в Фединых волосах и цеплять их перстнями, она другой потянулась к Самоварову.
– Нет-нет-нет! – говорила она. – Идите к нам, Николай Алексеевич. Идите сюда! Только благодаря вам случилась эта встреча. Вы чудо совершили! И именно в эту минуту нам нужна ваша исцеляющая энергия. Идите, идите к нам!
Самоваров колебался. В голосе Катерины звучала непритворная боль, ее рука просила и звала, но обниматься с Федей и излучать энергию ему не хотелось.
– Лишь на несколько минут! На несколько минут! – молила Катерина.
Доктор Низамутдинова смотрела выжидательно. Даже уклонист высунул ушастую голову из сиреневого шалаша одеяла.
Что оставалось делать? Самоваров неохотно присел рядом с Федей. Пружины кровати уже не заскрипели, а забасили под его тяжестью, а сетка опасно провисла. Колени сидящих оказались вровень с их подбородками.
«Ладно! Излучу энергию. Будет что Насте сегодня рассказать», – утешил себя Самоваров.
Федя Карасевич больше не плакал. Он только прижимался к жене и с опаской поглядывал на Самоварова.
– Это наш добрый друг, наш добрый гений, – говорила Катерина, бедром подталкивая Федю поближе к Самоварову. – Он так поддержал меня! Знаешь, Николай Алексеевич никогда не верил в твою смерть. Это он нашел тебя здесь. Его присутствие действует неотразимо. Подвинься же, Федя! Николай Алексеевич, вы тоже сядьте ближе и дайте свою руку. Дайте же руку!
Она поймала руку Самоварова, которую тот попытался спрятать за спину, и возложила на холодный и липкий Федин лоб.
– Карасевич, ты сейчас почувствуешь облегчение, – пообещала она. – Только закрой глаза. Да закрой же! Второй тоже! Теперь чувствуешь? Да? Тебе легче? Я знала, знала! Федя, это важно, не сачкуй – закрой глаза! Закрой и скажи, как меня зовут.
– Катя, – ответил Карасевич потерянным голосом.
– Вы слышали? Он все помнит! Слышали? – закричала Катерина и так вжала руку Самоварова в Федину голову, что несчастный больной откинулся назад и стукнулся затылком о стену. Уклонист снова спрятался под одеялом.
Самоваров, у которого начал затекать локоть, попытался освободить свою руку. Но Катерина ее не отпускала. Только самому Феде, повалившись на бок, удалось кое-как вывернуться из-под энергетического гнета.
Самоваров воспользовался моментом. Он ухватился руками за края кровати и выбрался на волю. Затем деловито посмотрел на часы. Так и не поняв, который час, он заявил:
– Мне пора! Всего доброго. До свидания.
Когда он вышел из палаты и устремился к выходу, то услышал за своей спиной шаги. Он решил, что это Катерина его догоняет, чтобы урвать дополнительный кусочек его небывалой энергии. Он прибавил шагу, но потом оглянулся и увидел доктора Низамутдинову.
– Постойте! Одну минуту! – сказала Низамутдинова, настигнув его. – Честно говоря, я впервые вижу такой впечатляющий результат. Больной казался крайне тяжелым: посттравматическая амнезия. У него ведь вся голова в гематомах, да еще и сильный ушиб правого бока и бедра. Похоже, его ударили по голове, или он попал под машину, или и то и другое. В крови следы лошадиной дозы диазепама.
– Этим делом сейчас занимается милиция, – пояснил Самоваров. – К вам еще придут для беседы. Скажите, а почему вы никуда не дали знать о поступлении к вам такого странного больного?
– Что вы видите в нем странного? – удивилась доктор Низамутдинова. – У нас в стационаре много таких, и никто не удивляется. Специфические пациенты! Поступают к нам и без документов, как было в данном случае. Часто это представители так называемого дна общества. Своих хроников мы знаем, а этот показался приезжим. Информацию о нем мы дали в бюро несчастных случаев дня четыре назад. Представился он очень внятно: Иванов Николай Алексеевич. Так мы и сообщили! Все это время он был плох, но с вашей помощью он прямо на глазах восстановил память.
– Неужто взял и восстановил? – усомнился Самоваров.
– Полностью! Вот вы сейчас ушли, а он ведь не только жену свою узнал, но и вспомнил, что должен режиссировать какой-то День бегуна. Он ужаснулся, что мероприятие на носу, аванс получен, а у него, как он выразился, и конь еще не валялся. Поразительно!
– А раньше про День бегуна он вам ничего не говорил?
– Ни слова! Все кричал, что он помещик, что устал от жизни, что человек он подневольный, негр, тряпка, – перечислила доктор Низамутдинова. – Твердил, что он отбегает в сторону и стреляется. Депрессивный бред! А мне все кричал: «Замолчи, жидовка!..»
– Верно! Я вчера вечером перечитывал пьесу «Иванов», – признался Самоваров. – Там есть именно такая реплика, так что вы не обижайтесь.
– Я не обижаюсь. Я врач. А скажите, есть в этой пьесе Мерилин Монро? – спросила доктор Низамутдинова.
– Нет, конечно. Откуда?
– А он говорил, что его похитила Мерилин Монро и хотела насмерть удушить – это его слова! – своими грудями. Так что и примесь эротического бреда налицо. Это часто бывает у мужчин его возраста. Я бы не должна говорить вам такие вещи, врачебная тайна, но вы с вашим поразительным методом...
– К вам из милиции придут, – напомнил Самоваров. – Может, не все в его словах бред. Ведь исчез же он каким-то образом из съемочного павильона! Не исключено, что его и вправду удушить хотели – хотя, быть может, и не таким экзотическим способом.
Доктор Низамутдинова ужаснулась:
– Вы это допускаете? Как хорошо, что теперь самое страшное для него уже позади. Он пока очень слаб, и нам бы хотелось с помощью вашего нетрадиционного метода...
– Я не врач, не чудодей и не шаман, – прервал ее Самоваров. – И никакого метода у меня нет. Так что я вряд ли могу чем-то быть полезен.
– А как же вы его нашли по глобусу? Его жена ведь говорила... Это чудо!
– Никакого чуда не было. И глобуса тоже. Просто ваш же больной Тормозов – он на днях выписался – встретил здесь помещика Иванова и растрезвонил об этом всему свету. А Иванов – лучшая роль Карасевича. Согласитесь, остальное просто, как дважды два!
– Нет, это чудо, – не хотела соглашаться доктор Низамутдинова. – Сами посудите: кто в наше время читает Чехова? Да и сама психиатрия во многом шаманство, как вы выразились. Мы так мало знаем о человеческом мозге, а жизнь так многосложна и запутанна...
– Скажите, а это что, сиреневый сад? – вдруг спросил Самоваров, глядя в окно на заросли каких-то высоких кустов.
Эти однообразные исчерна-зеленые дебри нисколько не походили на тот цветущий рай, куда несколько дней назад они с Настей хотели проникнуть. Зато густую чугунную решетку Самоваров узнал.
– Да, это наша сирень, – ответила доктор Низамутдинова.
– Еще дней пять назад все тут по-другому выглядело – разноцветно.
– Мы срезаем все отцветшие кисти, чтоб не завязывались семена, и тогда следующей весной снова будет много цвета, – пояснила Низамутдинова. – Недели полторы в мае сад сказочно красив, а потом вот такой стоит, невзрачный. Вы не находите, что и в жизни часто бывает подобное – всплеск, безумный выброс энергии, яркие краски, а потом снова все скучно и обычно?
– Бывает, – согласился Самоваров. – Только не с такой всем известной периодичностью, как у сирени. Это жаль. Поди угадай, когда начнется твоя весна.
– У некоторых наших пациентов рецидивы случаются и периодически, как по расписанию. Но вот Карасевич – никак не могу привыкнуть, что он не Иванóв! – скорее всего, так и не узнает, что с ним было. Как он пропал, где был все это время, с кем? Если он так ясно вспомнил жену, коллег и День бегуна, то свои похождения с Мерилин Монро вполне может и забыть. Начисто забыть, как нерассказанный сон!
– Этим милиция занимается, – снова напомнил Самоваров. – У них большие возможности.
С доктором Низамутдиновой Самоваров говорил о могуществе милиции уверенно. Но сам он не слишком надеялся, что Стас и его контора смогут докопаться, где был и чем занимался Карасевич все эти тревожные дни. Если режиссер не вспомнит, то никто больше не поможет. Но пока концы с концами не сходятся: Карасевич грезит Мерилин Монро и ее грудями, тогда как Стас выяснил, что на территории завода металлоизделий орудовала организованная преступная группа. Группа сплошь состояла из грубых, неприятных мужчин. Никаких Мерилин у них и напоказ не было.
– Все в порядке: это Карасевич чудит в психушке и выдает себя за помещика. Оформлен как Иванов, – сообщил Самоваров по телефону Железному Стасу, едва покинув гостеприимное желтое здание.
– Жена опознала?
– Опознаны взаимно! Едва бедолага увидел и услышал свою супругу, как мигом вспомнил и как его зовут, и как его фамилия, и когда у нас День бегуна.
– Да, – согласился Стас. – Его супруга – тетка колоритная, ни с кем не спутаешь. А что он говорит про убийство в сборочном цехе, то есть в павильоне номер 1?
– Да ничего не говорит. Он считает, что его похитила Мерилин Монро с целью уморить своей любовью.
– Тьфу ты, дичь какая! Чего же ты кричишь, что он все вспомнил? – разочарованно протянул Стас.
– Значит, того, что он назвал фамилию жены, тебе мало? – притворно обиделся Самоваров. – Ты недоволен? А вот психиатры в полном восторге. Он ведь еще полтора часа назад себя помещиком считал! Его жена теперь трубит, что я чудотворец и прочистил Феде мозги своей энергетикой. Она утверждает, что я могу отлично зарабатывать ясновидением.
– А почему бы нет, Колян? Дело выгодное, – хмыкнул Стас. – Не вставая с дивана, будешь находить украденные кошельки, сбежавших мужей, заблудившихся болонок. Приятное, интеллигентное занятие.
– Спасибо за совет. Но у тебя-то в руках вполне вменяемый Рябов. Надеюсь, хоть он что-то про Мерилин Монро знает?
– Зачем ему это? Он сам звезда. Сам в Голливуд метит. Самое смешное, что все дело действительно в той продуктовой палатке, которую ограбили в Прокопьевске десять лет назад. Рябов тогда стащил карамельки «Дюшес» и до сих пор из-за них страдает.
– Что, сладкого есть не может? – предположил Самоваров.
– Да нет, хуже. Недавно наткнулся на дружка, вместе с которым брал ту палатку. Дружок неоднократно судимый, носит лирическую кликуху Гвоздь. Получилась трогательная встреча: ребята вспомнили сопливое детство, школу, маму, дядю. Поностальгировали в какой-то забегаловке. После этого приятель Рябова стал среди своих гнать, что наша телезвезда и любимец губернатора в их бизнесе главный. Надеюсь, ты помнишь, что за бизнес?
– Наркота, – сказал Самоваров.
– Вот-вот! Заправляет всем Гвоздь и еще один товарищ, который ездит на синем бумере.
– Это его Тошик и еще один пацан видели?
– Да. Эти кудрявые парни видели как раз то, что надо, – синий бумер накануне убийства. Они время почти точное назвали и машину расписали до мелочей – и зад у нее какой, и номер, и как лев качает головой.
– Лев?
– Это игрушка такая, в машине сидит. Владеет ею и бумером некто Сурков. Сурков с Гвоздем еще в Прокопьевске свой бизнес завели, но перебежали дорогу местным браткам. Пришлось сюда перебазироваться, тем более что и к границе мы поближе. Эти двое процветали некоторое время, но недоброжелатели прокопьевские и тут их отыскали. Стали пасти. Вот тут-то и пригодился Саша Рябов в качестве дымовой завесы. Им время надо было выиграть, чтобы аккуратно смыться. А прокопьевские гонцы в это время Сашу Рябова пасли.
– И пас человек в капюшоне? – догадался Самоваров.
– Точно. Пока этот загадочный господин таскался за Рябовым по съемкам, Гвоздь и Сурков собрались с духом. Они убрали как «Похудит» со склада «Сомерсетта», так и своих преследователей. Одного прокопьевского мстителя они заманили в павильон и уложили на режиссерском диване, другой сгорел в «Ниве» на Ушуйском тракте. Третий труп ищем. Авось когда-нибудь объявится.
– А Гвоздь с подельником что? Ушли? – спросил Самоваров.
– Поглядим, – скромно сказал Стас. – Мы, хорошо теперь их знаем. Остальное – дело техники.
Глава 14
Настя. ДЕЛО ТЕХНИКИ
– Это куда же вы, Настенька, несете такой прелестный букет? Не домой ли? – спросила Вера Герасимовна.
Она перегнулась через перила балкона. Сквозь тополиную листву, которая мельтешила перед глазами и очень мешала, она пыталась разглядеть охапку лилий. Охапка плыла по двору в сопровождении Насти Самоваровой.
– Да, я домой иду, – отозвалась Настя.
Она остановилась и вежливо задрала голову к знакомому балкону.
– Ни в коем случае не заходите в подъезд! – замахала руками Вера Герасимовна. – Ни шагу дальше! Стойте, где стоите!
Настя испугалась и застыла, даже не моргая.
– Что случилось? – спросила она не своим голосом.
– Мы все отравимся здесь, – сообщила Вера Герасимовна.
– Чем? Почему?
– Ваши цветы!
Настя потрясла букетом, пожала плечами. Она ничего не понимала.
– А запах? – провозгласила сверху Вера Герасимовна.
Настя понюхала один цветок.
– Не делайте этого! – закричала Вера Герасимовна. – Вы знаете, что теперь у вас начнется? Сухость во рту, головокружение, тошнота. Возможен даже обморок!
– Обморок невозможен, – ответила Настя. – Я такие цветы не первый год пишу, и ничего со мной никогда не случалось. Но если вам за меня страшно, я обещаю, что проветрю комнату. В конце концов, на ночь цветы можно будет поставить на балкон.
– Нет! Только не это!
Вера Герасимовна закричала так панически и так рискованно свесилась с балкона, что издали ее можно было принять за самоубийцу.
– Только не это! – повторила она. – Алику станет плохо. Он в детстве перенес трахеит, а ваш балкон прямо над нашим. Алика погубят токсины! Алик! Да Алик же! Выйди, скажи, что ты перенес трахеит!
В глубинах квартиры Веры Герасимовны стихли фортепьянные арпеджио, и на балконе показался Альберт Михайлович Ледяев. На его розовом моложавом лице не было ни тени грустных воспоминаний о детских болезнях.
– Алик, посмотри на этот ужас! – сказала Вера Герасимовна и пригнула голову мужа в нужном направлении.
Алик не отличался зоркостью. Он долго всматривался сквозь листву в серый асфальт и пустую скамейку. У его ног целый двор монотонно пестрел шевелящимся кружевом древесной тени.
Только немного погодя он заметил посреди этой скуки Настю, прекрасную как день. Настя держала в руках цветы на длинных и толстых стеблях. Цветы были нарядны настолько, что казались неживыми. Работая концертмейстером в оперетте, Альберт Михайлович повидал немало букетов и знал: такие цветы всегда помещаются в центре подарочных корзин и бывают белыми либо оранжевыми. Но Настины цветы были розовыми, как мороженое. Их лепестки загибались кольцами.
– Красота! – только и сказал Альберт Михайлович.
– Вам нравится? Я их напишу сегодня же! – улыбнулась Настя и быстро скрылась в подъезде.
– Все, балкон надо закрывать, – вздохнула Вера Герасимовна и постаралась вернуть Алика к пианино. – Чудовищно ядовитые цветы! Мы все можем пострадать.
– Пострадать от красоты, от любви, от невозможности счастья, от непредсказуемости судьбы... Верунчик, это не так уж плохо! Не так уж опасно! Не так печально!
Он пошел в комнату и взял несколько аккордов, достаточно звучных для того, чтобы Настя этажом выше их услышала. Сейчас она, наверное, ставит свои цветы в воду – подрезает грубые стебли ножом и придирчиво, тонкой своей безжалостной рукой расправляет розовые кудри так, как считает нужным. А потом она возьмет свои краски... Интересно какие – акварель или масло?
Вера Герасимовна никогда не умела ни петь, ни рисовать, ни сочинять стихи. Она была обречена с грустью наблюдать, как волшебницы, которым все это подвластно, действуют на Альберта Михайловича. Они делают его рассеянным, скучным, мечтательным. Он перестает хотеть фаршированного картофеля, чаю с облепихой, горчичников, ингаляций. Он часами наигрывает незнакомые Вере Герасимовне мелодии из оперетт советских композиторов. Он вздыхает, он смотрит в окно, откуда виден только двор и соседний, нисколько не поэтичный дом. Он до самого обеда не говорит ни слова.