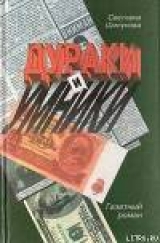
Текст книги "Дураки и умники. Газетный роман"
Автор книги: Светлана Шишкова-Шипунова
Жанр:
Юмористическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 25 страниц)
Часть первая. ЖУРНАЛИСТЫ
начало 80-х
Глава 1. Как пройти в редакцию
Холодным утром 11 ноября 1982 года на углу улиц Буденного и Розы Люксембург в южном городе Благополученске вышел из трамвая молодой человек среднего роста, одетый в блеклые джинсы отечественного производства и гэдээровскую поролоновую куртку с капюшоном. У него было круглое, как будто заспанное лицо, светлые, только начинающие редеть волосы и ленивые движения человека, который никуда не спешит. К тому же он сутулился, так что со спины мог сойти даже за пожилого, тогда как в действительности ему было чуть за 30.
Молодой человек не то чтобы вышел, а был вынесен из тесного вагона толпой теток, приехавших на Старый рынок, чтобы пополнить запасы съестного, уничтоженные за три дня ноябрьских праздников. Оказавшись на тротуаре, он поежился, натянул капюшон и, пропуская вперед теток с пустыми кошелками, не спеша побрел вслед за ними. При этом лицо его выражало неудовольствие и трамваем, и тетками, и моросящим дождиком, и самой необходимостью куда-то двигаться в этот не такой уж, впрочем, и ранний час (было начало десятого). Не доходя до ворот рынка, он взял чуть влево и оказался у киоска «Союзпечать». На прилавке лежали, наползая одна на другую, толстые пачки не раскупленных за праздничные дни газет. Газеты были совершенно одинаковые – большой, на всю ширину страницы снимок изображал трибуну Мавзолея с крохотными, еле узнаваемыми фигурками членов Политбюро. Под снимком тоже на всю полосу был разверстан отчет ТАСС о военном параде и демонстрации трудящихся в Москве. Отличались только заголовки газет и количество орденов слева от них.
– Доброе утро, Екатерина Тимофеевна! – вежливо сказал молодой человек, кланяясь в окошко киоска. – С прошедшими вас праздниками. Что, опять не распродали?
– Здравствуйте, Сева, и вас также, – приветливо отозвалась из полумрака киоскерша. – Как видите, лежат.
– А куда вы их потом деваете?
– По акту списываем. В макулатуру, – печально сказала киоскерша. – А «Литературку» я вам оставила. – Она пошарила под прилавком и извлекла оттуда предпраздничный еще номер с ярко-синей полоской заголовка.
– Вот спасибо! – обрадовался молодой человек по имени Сева, выкладывая на медное блюдце 15 копеек. Он свернул газету трубочкой, сунул ее за пазуху и хотел было идти, когда киоскерша вдруг спросила, переходя на шепот:
– А вы случайно не знаете, почему сегодня с утра траурную музыку передают?
– Разве? – удивился молодой человек и тут вспомнил, что и в трамвае слышал краем уха непонятные разговоры про какой-то милицейский концерт, который должны были вечером показать, но не показали, а вместо этого передают вчера и сегодня одни симфонии. В общежитии, где он жил после недавнего развода с женой, телевизор не работал второй месяц, и все никак не получалось вызвать мастера и починить – то времени не было, то денег, то просто лень было заниматься, а радио он почему-то не любил и никогда не включал. Теперь только молодой человек сообразил, что пропустил, вероятно, что-то очень важное и в таком случае ему надо поспешить.
В воротах он купил два горячих пирожка с ливером и двинулся внутрь рынка, лавируя между рассыпавшимися по рядам тетками и стараясь не наступать в лужи, где плавали окурки и обрывки газет.
Старый рынок города Благополученска занимал порядочно места – квартал в ширину и целых два квартала в длину. Когда-то давно, лет сто назад, здесь была окраина города, а теперь – самый центр, из-за чего рынок грозились перенести куда подальше, а на этом месте разбить сквер, но годы шли, и все оставалось, как было. Со всех четырех сторон по периметру рынка тянулись каменные павильоны, принадлежавшие колхозам, названия которых были навечно начертаны масляной краской прямо на стенах. Тут были два или три «Пути к коммунизму», несколько «Заветов Ильича», а самый большой павильон занимал колхоз-миллионер «Родина», где торговали овощами и фруктами, мясом и салом, яйцами, мукой, медом в сотах, жареным подсолнечным маслом, а также семенами огородных культур и саженцами садовых деревьев. Внутри рынка вытянулись параллельно друг другу длинные ряды крытых прилавков. В ближних к центральному входу, считавшихся элитными, царили над горами мандаринов, хурмы и гранатов темноволосые приветливые грузины, наперебой окликали плывущих по рядам женщин: «Эй, красавица! Иди сюда, попробуй гранат какой спелий!» «Красавицы» вели себя по-разному: которые помоложе, гордо фыркали и плыли мимо; те, что постарше, оборачивались (где ж еще их назовут красавицами, как не на колхозном рынке!) и подходили торговаться, неумело кокетничая с чернявыми и рассчитывая выгадать полтинник, а то и рубль. В центре занимали ряды «частники» – жители окрестных станиц и горожане – владельцы огородов, где круглый год под пленкой и в теплицах растет все, что только может расти на юге, начиная с ранней, появляющейся уже в феврале редиски и кончая поздними, почти октябрьскими помидорами. Был длинный ряд «Битая птица», здесь за прилавками неподвижно стояли, сложив на животах руки, крупного сложения женщины в белых фартуках, надетых поверх телогреек и старых цигейковых шуб, чем-то и сами похожие на белые гусиные тушки, которые они сторожили. Были два вонючих рыбных ряда, там на обитых железом, скользких прилавках, среди обычной величины судаков и щук, рядом с серебристыми горками тараньки всегда лежала какая-нибудь чудо-рыба – огромных размеров сом или толстолобик, на которого редкий покупатель не смотрел с уважением, но не каждый мог купить, не потому даже, что дорого потянет, а просто куда ж его, такого, если только на свадьбу…
Какая-то старушенция, вытащив из кошелки газету, заворачивала в нее небольшого, упитанного судачка, и молодой человек, без труда узнавший субботний номер «Южного комсомольца» с отчетом о праздничной демонстрации в Благополученске, мимоходом наклонился и громко сказал ей прямо в ухо: «Бабушка! Продукты питания заворачивать в газету не рекомендуется, там свинец!» И бабка испуганно шарахнулась, чуть не уронив в лужу скользкую, холодную рыбину.
Но особенно любил молодой человек ряды, где торговали домашними соленьями. Их разрешалось пробовать. Держа в одной руке пирожок с ливером, другой он аккуратно и вежливо брал с прилавка то кусочек фаршированного баклажана, то дольку разрезанного на пробу холодного голубца, то длинный, скрюченный, обжигающий рот перец или стожок сочной, хрустящей капусты, поддетый на вилку прямо из высокой, чуть не в человеческий рост кадушки. Прикрыв глаза, он с видом знатока смаковал продукт, но тут же кривился и качал головой, будто не вполне удовлетворившись его остротой, после чего шел пробовать дальше и, дойдя таким образом до конца ряда, бывал почти сыт.
Но теперь он спешил и старался не смотреть на прилавки. Мимо, мимо!
Мимо старух, сидящих на опрокинутых пустых ящиках и торгующих жареными семечками в кулечках, свернутых из старых газет; мимо утонувшего в вечной луже пивного ларька, где с утра уже переминаются с ноги на ногу базарные алкаши и где мелькнет вдруг чья-то знакомая припухшая физиономия. И совсем уже у выхода пришлось ему пробираться сквозь ввалившуюся в рынок толпу цыганок – молодых и старых, с грудными детьми, привязанными к животам, и цыганятами постарше, забегающими вперед и путающимися у них под ногами. Здешние цыганки торгуют косметикой, держа в руках веера из черных карандашей для век, которые в случае чего моментально исчезают в невидимых карманах их юбок и фартуков. И чего там только нет, в этих бездонных карманах: махровая тушь для ресниц и губная помада любых оттенков, французская компактная пудра в блестящих футлярчиках и перламутровый лак для ногтей – ну где, спрашивается, они берут все это!
Вдоль рядов двигался в это время рослый милиционер, поглядывал по сторонам внимательно-равнодушным взглядом. Завидев цыганок, он отвернулся и стал смотреть в другую сторону.
Молодого человека угораздило затесаться в самую середину маленького табора, он заработал локтями, спеша прорваться, неловко задел кого-то, машинально сказал: «Извините» и был схвачен за рукав. Непонятного возраста беременная цыганка с животом, нахально торчащим из расстегнутой болоньевой куртки, уцепилась крепко и не отпускала.
– Ну чего тебе? – нехотя остановился молодой человек. – Денег не дам, нету.
– Не надо, – сказала цыганка, пытаясь заглянуть ему в глаза. – Я тебе и так все скажу, у тебя на лице написано.
Молодой человек ощутил вдруг тревогу и одновременно любопытство. Табор огибал их и тек мимо.
– Ну и что там написано?
Она поймала, наконец, его взгляд и, словно удостоверившись в чем-то, запричитала низким голосом:
– Ой, недолго тебе по этой земле ходить…
– Сколько? – спросил молодой человек серьезно.
Она взяла его руку, некоторое время пристально ее разглядывала, водя тонким, смуглым пальцем по слабо прорезанным линиям и шевеля губами, будто подсчитывая.
– Четырнадцать лет… пять месяцев… – она даже вывернула его ладонь ребром, словно ища, нет ли там еще какой-нибудь черточки, – … четырнадцать дней. – И вдруг охнула, схватилась за низ живота и, скорчившись, отошла.
Не успел молодой человек сообразить, что произошло, как гадалки и след простыл, только хвост юбки мелькнул между цветочных рядов. Он потоптался на месте, не зная, куда деть руку, наконец сообразил сунуть ее в карман, тут же обнаружил, что последнего трояка как не бывало, и с тем пошел прочь, злясь на себя и на цыганку и думая о странной цифре – «четырнадцать», даже попробовал на ходу прикинуть, какой это будет год, и вышло, что 1997-й, но высчитать тут же, в уме, месяц и число он не смог.
Молодой человек пересек рынок по диагонали и вышел с противоположной от трамвая стороны на улицу маршала Баграмяна, запруженную рейсовыми автобусами, «Жигулями» и «Москвичами», беспрерывно подвозящими и увозящими покупателей и припозднившихся торговцев. Здесь он остановился, пережидая поток машин и нетерпеливо поглядывая по сторонам.
Слева от рынка – похожее на чудом приземлившуюся на тесном пятачке базарной площади летающую тарелку – громоздится круглое сооружение цирка. Справа, за каменным беленым забором – глухие стены бывшего женского монастыря, где помещается самая старая в городе больница. Улица под стенами больницы замечательна тем, что сколько ее ни асфальтируют, она все время проваливается, ров ли тут старый или старое русло реки – никто толком не знает, но с тех пор, как в начале 70-х здесь вместе с асфальтом провалился какой-то «Запорожец», проезд закрыли, после чего на этом кусочке улицы обосновалась квартирная биржа. Граждане, желающие сдать или снять квартиру, толкутся тут по субботам и воскресеньям, делая вид, что просто гуляют или ждут кого-то. Но если прислушаться, можно уловить обрывки фраз, не оставляющих никакого сомнения: «Удобства во дворе, но возможна прописка… Хрущевка в Черемушках, хозяева на Севере, так что за год вперед…» Как только толпа становится слишком плотной и заметной, появляется милиция и по-хозяйски ее разгоняет, однако, через некоторое время народ собирается снова, продолжая месить грязь под монастырскими стенами. Грязь не просыхает здесь ни зимой, ни летом.
А прямо напротив рынка вытянулось на целый квартал длинное четырехэтажное здание – серое и скучное, постройки 50-х, с высокими узкими окнами, с аркой, закрытой железными воротами, и двумя подъездами, из которых действует почему-то один, в левом крыле здания, а другой, в правом, уже много лет закрыт наглухо, им не пользуются, и летом на его ступеньках сидят, подстелив газетки, граждане, ожидающие автобуса.
Именно сюда спешил в это утро с трамвая, срезая путь через рынок, молодой человек в поролоновой куртке. Грузовик с огромными рулонами газетной бумаги в кузове стал неуклюже заруливать под арку, загородив собой и без того тесную улицу маршала Баграмяна. Воспользовавшись пробкой, поролоновая куртка ловко прошмыгнула перед носом у грузовика, при этом водитель высунулся из кабины и крикнул весело: «Что, Сева, жить надоело?» Но Сева, сделав неопределенное движение рукой – то ли поздоровавшись, то ли отмахнувшись, – уже взбегал по ступенькам левого подъезда серого дома и через минуту скрылся за высокой массивной дверью.
Тому, кто захотел бы за ним последовать, пришлось бы задержаться у входа и для начала прочесть, что написано на четырех одинаковых вывесках, налепленных одна под другой по обе стороны дверей. Там значилось:
Издательство «Советский Юг»
Типография издательства «Советский Юг»
Редакция газеты «Советский Юг»
И наконец:
Редакция газеты «Южный комсомолец»
Серое здание было известно в городе как Газетный дом, и запросто войти сюда мог не каждый.
Глава 2. Поручено скорбеть
Молодого человека звали Всеволод Фрязин, он заведовал отделом новостей в газете «Южный комсомолец» и был известен читателю как Вс. Фрязин, а также Ф. Рязин, Р. Язин и В. Севин (настоящей фамилией он подписывал только те материалы, которые считал для себя принципиальными и удавшимися, а псевдонимы ставил под всякой текучкой).
Когда Сева появился на четвертом этаже, где помещалась редакция молодежной газеты, там было тихо и пусто, из чего он заключил, что планерка уже началась. Бросив куртку на стул в приемной, он на цыпочках вошел в кабинет редактора. По обе стороны длинного полированного стола сидели с напряженными лицами почти все сотрудники редакции. В торце со скорбным видом застыл редактор газеты Борзыкин.
– Прибыл? – недобрым голосом сказал он. – Ты даже в такой день не можешь не опоздать.
– А что случилось? – спросил Сева, смутно догадываясь об ответе.
– Умер Брежнев, – торжественно произнес редактор, и все стали смотреть, какой эффект произведет эта новость на опоздавшего.
Новость произвела на него довольно странное впечатление: в глазах его на секунду загорелся и тут же погас огонек нечаянного возбуждения и даже, кажется, тень улыбки промелькнула. Однако, если бы редактор заглянул в этот момент в глаза кое-кому еще из сидевших за столом сотрудников, он заметил бы в них те же бесовские искорки и нервно блуждающие полуулыбки, когда они переглядывались друг с другом. Было похоже на то, как ребенок, которого взяли с собой на похороны, вдруг мучительно хочет рассмеяться – не потому, что смешно, смешного как раз ничего нет – дедушка неживой лежит в гробу, взрослые плачут, – а потому, что нельзя, и предупредили, что нельзя: «Ты только смотри, не смейся там и не балуйся!» Сотрудники газеты были люди молодые и беспечные, на их памяти генеральные секретари еще не умирали, и сейчас их распирало почти детское любопытство, смешанное с профессиональным интересом: что теперь будет и как.
Сева Фрязин был к тому же человек абсолютно аполитичный, по этой причине ему никогда не поручали написание передовых статей, отчетов с комсомольских мероприятий и серьезных критических материалов на производственные темы. Над его рабочим столом висел известный портрет Хемингуэя, а сам он ходил в обвислом, горчичного цвета свитере без горла и одно время даже отпустил небольшую бородку и пробовал курить трубку. Сева был в редакции на особом положении, ему прощалось многое из того, что не прощалось другим, потому что Сева был талант. Так, как он, в редакции не умел писать никто. Редакционные девушки говорили, что если бы Сева не был так ленив и так равнодушен к собственной судьбе, а также «меньше заглядывал в рюмочку», он, возможно, мог бы стать настоящим писателем. Сева писал короткими, отрывистыми фразами, в них были чувство и настроение, и уж во всяком случае полностью отсутствовали газетные штампы. Сева никогда не мог бы написать материал, который начинался бы словами: «Юноши и девушки Благополученской области, как и вся советская молодежь, ударным трудом…» и т. д. Скорее первая фраза его заметки могла состоять из одного какого-нибудь слова, например: «Штормило». Штормило – и все, в этом был весь Сева. Лучше всего ему удавались репортажи о всяких необыкновенных событиях и происшествиях, и если где-то случалось хотя бы небольшое землетрясение или наводнение, или сход снежных лавин, Сева тут же просыпался от спячки, мчался на место и наутро диктовал по телефону потрясающий текст, становившийся украшением номера. Но сенсации случались в Благополученске и его окрестностях крайне редко, и в остальное время Сева скучал, читал книжки, преимущественно стихи малоизвестных и даже запрещенных поэтов, и раз в день ходил на Старый рынок пить пиво.
Ко всему еще, не каждую сенсацию пропускал приходящий цензор по фамилии Щусь – пожилой человек с сильным дефектом речи, так что никогда нельзя было понять, что он говорит, и спорить поэтому было бесполезно. Цензор сидел в отдельной комнатке по пути из редакции в наборный цех и, начиная с обеда, неторопливо вычитывал одну за другой полосы обеих областных газет, при этом он перечеркивал синим карандашом крест-накрест уже прочитанные материалы, а то, что вызывало у него сомнения, обводил красным карандашом и молча отдавал дежурному по номеру, что означало: с этим абзацем он не пропустит, думайте, как изменить или сократить, иначе подписано не будет. Особенно зорко цензор следил, чтобы не проскочило упоминание о воинских частях, расположенных в Благополученской области, не говоря уже про какие-либо сведения об их численности, составе и боевых характеристиках, хотя прямо за рынком, в двух шагах от Газетного дома, стоял гарнизон, мимо него ходили троллейбусы, из окон которых можно было видеть, как маршируют на небольшом плацу солдатики. Еще не пропускал цензор названия двух секретных заводов – «Юпитер» и «Плутон», – известные в Благополученске даже детям. На этих заводах работали многие жители города, и иногда, особенно под праздник, им бывало обидно, что о них ничего не пишут в газетах, хотя они тоже перевыполняют планы и получают переходящие знамена своего министерства. Цензор вычеркивал также любые сведения о запасах и суммарной добыче на территории области нефти, газа, леса и рыбы ценных пород. То есть производительность одной какой-нибудь нефтяной скважины или результаты труда отдельно взятой рыболовецкой бригады показывать в газете было можно, но никаких обобщающих цифр давать не разрешалось, чтобы враг не вычислил по ним наш стратегический потенциал. Было множество других запретов, перечисленных в специальной толстой книжке, которая всегда лежала у цензора под рукой и служила ему главным аргументом в спорах с несговорчивыми журналистами вроде Севы Фрязина – он просто находил соответствующий параграф и совал его под нос автору, бормоча что-то нечленораздельное. Сева ненавидел этого человека, срывал на нем зло, копившееся у него на кого-то другого, для него недоступного, и чаще других авторов с ним ругался, а если бывал «под этим делом», то слова употреблял очень нехорошие, так что Щусь несколько раз даже жаловался своему непосредственному начальству в ЛИТО, и Севу приходилось наказывать.
Когда в 80-м году в центре Благополученска сгорел ночью самый большой в городе универмаг «Юг», Сева, живший тогда еще с женой Мариной как раз напротив этого универмага и ночью наблюдавший всю картину с балкона своей однокомнатной квартиры, был настолько взбудоражен, что не смог уснуть и к утру уже написал классный репортаж, которому позавидовала бы любая центральная газета. Но его, естественно, не напечатали. Не напечатали даже маленькой информации о пожаре, хотя весь город о нем знал, и долго еще жители окраин и близлежащих станиц приезжали поглазеть на черный четырехэтажный остов. Этого Сева никак не мог простить ни дефективному цензору, который в данном случае был как раз ни при чем, ни бесправному редактору, ни – главное – обкому, который, собственно, и запретил газетам сообщать о пожаре, «чтобы не волновать население».
Зато в ту самую ночь в жизни Севы Фрязина случилось другое, не менее, а гораздо более знаменательное событие, все значение которого он сам, а главное, его близкие друзья смогли по-настоящему оценить только много лет спустя. Перед рассветом, поставив последний восклицательный знак в репортаже о пожаре, Сева вышел покурить на балкон и тут увидел в начинающем розоветь небе смутные очертания чего-то плоского, овального, будто сотканного из светящейся пыли, и немедленно догадался, что это – Летающая Тарелка. Она повисела над Севиным балконом, мигнула пару раз неземным светом и ушла в сторону военного аэродрома. С тех пор Сева заболел новой темой, начал почитывать научно-популярные журналы, а однажды случайно познакомился на какой-то турбазе с группой московских уфологов, которые окончательно заморочили ему голову этими делами. Редактор поначалу возражал против публикаций на тему НЛО, но подошла очередная подписная кампания, надо было, кроме переводного детектива, который обычно запускали по осени и тянули из номера в номер до самого Нового года, еще чем-то завлекать подписчиков, и он сдался. Севе отвели специальную рубрику на четвертой полосе – «НЛО: Непознанное, Любопытное, Околонаучное», где он помещал интервью со своими друзьями-уфологами, а также неизвестно откуда сразу взявшиеся рассказы очевидцев и любительские фотографии летающих объектов – всегда нечеткие, размытые, но все же волнующие. Как-то раз он даже напечатал свою беседу с неким жителем Благополученска М., будто бы побывавшим в руках у инопланетян и возвращенным затем на землю, после чего у него будто бы наступила полная бессонница, и он стал рисовать по ночам причудливые космические пейзажи. В редакции не верили в существование этого М. и предлагали Севе пригласить его как-нибудь на летучку, на что Сева отвечал, что дал человеку слово не разглашать его инкогнито, но в качестве доказательства предъявлял подаренный ему действительно странный пейзаж, намалеванный на толстом картоне и напоминавший морскую пучину как бы изнутри. Видевшие этот пейзаж только пожимали плечами.
Но читателям вся эта чепуха нравилась, шли письма, и скоро Сева уже считался специалистом по вопросам НЛО, и однажды ему даже пришло приглашение на международный симпозиум по проблемам неземных цивилизаций в болгарский город Варну. Сева долго собирал документы и уже побывал с ними на заседании выездной комиссии, где его спросили, почему он не работает по специальности, на что Сева отвечал, что отработал положенные три года в сельской школе учителем истории и географии, но потом увлекся журналистикой. Тогда его еще спросили: почему же он, работая в комсомольской газете, не пишет о комсомольских делах, а отвлекает молодых читателей потусторонними небылицами. Сева начал отвечать – что-то насчет разделения труда в редакции, но запутался и ясно объяснить не смог, так что члены комиссии остались им очень недовольны. Потому ли или еще почему, но загранпаспорт ему в срок не выдали, и поездка сорвалась. С этого момента он стал подозрительно посматривать на свой телефонный аппарат, на потолок в отделе новостей и даже иногда оглядываться на улице, а однажды, случайно заметив в трамвайной давке знакомого чекиста (когда-то давно тот заведовал в «Южном комсомольце» отделом писем), протиснулся к нему вплотную и спросил на ухо:
– Долго вы за мной следить будете?
Тот посмотрел удивленно и сказал:
– Да кому ты на хрен нужен?
… За спиной у редактора, на приставном столике зазвонила «вертушка», Борзыкин вскочил и бросился к ней, как за спасением.
– Борзыкин слушает, – сказал редактор в трубку неожиданно тихим и трагическим голосом, мало соответствующим той резвости, с которой он метнулся к аппарату. – Да, Иван Демьянович… я в курсе, Иван Демьянович… это горе для всех нас… я вот собрал коллектив, люди, конечно, потрясены… да, Иван Демьянович, как… как… как раз определяемся по завтрашнему номеру… понял вас, Иван Демьянович, есть, понял… будет сделано, Ива… – но «вертушка», видимо, уже дала отбой, и несколько разочарованный Борзыкин бережно положил трубку на место. Во время разговора он делал знаки сотрудникам, чтобы помолчали. Но те, напротив, пользуясь моментом, стали громко шептаться, спрашивая друг у друга: «А кто, кто будет?» На что ответственный секретарь редакции Олег Михайлович Экземплярский, по прозвищу Мастодонт, шепотом же сказал по слогам: «Анд-ро-пов!» У всех вытянулись физиономии, и на них появилось общее выражение, означавшее: «Ни фига себе!». Стали переспрашивать у Мастодонта, откуда это известно, если даже о смерти Брежнева до сих пор официально не сообщалось, а просто редактору звонили ночью из обкома. «Голоса надо слушать!» – сказал Олег Михайлович, довольный своей осведомленностью, и все сразу закивали головами: – «А! ну тогда конечно! тогда, значит, точно Андропов!»
В следующие полчаса редактору молодежной газеты звонили: первый секретарь обкома комсомола – с просьбой подослать кого-нибудь из ребят для подготовки телеграммы соболезнования в ЦК от областной комсомольской организации; замзавотделом пропаганды обкома партии – с сообщением, что в редакцию подвезут обращение бюро обкома к коммунистам, всем трудящимся области, так чтобы оставили место на первой полосе; завсектором печати обкома – с поручением осветить в завтрашнем номере газеты траурные митинги в трудовых коллективах, о времени проведения которых будет сообщено дополнительно; наконец, инструктор-куратор из ЦК комсомола – с рекомендацией подготовить отклики молодежи на кончину генерального секретаря, где на конкретных примерах раскрыть роль Леонида Ильича в коммунистическом воспитании подрастающего поколения. Борзыкин все тщательно записывал на маленькие ласточки и всем говорил: «Есть. Будет сделано».
В свою очередь и сам он кое-куда звякнул, а именно: своему дружку, редактору молодежной газеты соседней Краснодонской области, с которым немало было выпито в номере столичной гостиницы «Юность» во время недавней плановой учебы редакторов по линии ЦК комсомола. Тот сказал, что лично он пока сидит и ждет, что передаст «дядя ТАСС». Затем – редактору «Советского Юга» Правдюку, с которым у Борзыкина, напротив, отношения были натянутые – по нескольким причинам, в том числе и потому, что Правдюк подозревал (впрочем, не без оснований), что Борзыкин метит на его место. Этот посоветовал дождаться, пока в типографию начнут поступать центральные газеты, и позаимствовать у них готовую верстку.
Эго была одна из всем известных хитростей местных газетчиков. Делалось так. С негативов, переданных из Москвы по фототелеграфу, в типографии «Советский Юг» изготовлялись цинковые пластины, дублирующие страницы центральных газет в натуральную величину, с них, в свою очередь, отливалась свинцовая форма, а уже с нее печатался тираж. И всегда можно было договориться со сменным мастером цинкографии, чтобы вытравили лишний цинковый дубликат интересующей вас страницы, а дальше все было просто: если это была первая страница, то заголовок газеты – какой-нибудь «Труд» или «Социалистическая индустрия» – отрубался на специальном станочке, похожем на маленькую гильотину и предназначенном вообще-то для укорачивания клише с фотографий. После этой операции нужный вам текст становился как бы ничейным и вы с чистой совестью пристраивали его в полосу своей газеты. Этим безобидным пиратством регулярно занимались как партийная, так и молодежная газета, когда надо было напечатать какой-нибудь большой официальный материал. На газетном языке это называлось «брать шпег».
Арсентий Павлович Правдюк был человек сверхосторожный и не любил рисковать. «Пока наши наберут, да пока сверстают, да налепят ошибок столько, что не переедешь… засядем до утра со своим набором… Берем шпег!» – говорил он обычно после долгого обсуждения этого вопроса в кругу своих заместителей и дежурных по номеру. Осторожность Правдюка простиралась, впрочем, до того, что он заставлял своих корректоров и всю дежурную группу вычитывать оттиски с этих самых цинковых пластин, то есть получалось – с чужой готовой газеты. И был случай, когда в полосе газеты «Сельская жизнь», у которой брали в очередной раз цинк и чей тираж уже вовсю печатался внизу, в типографии, сам Правдюк нашел довольно неприятную ошибку. То ли кто-то из членов политбюро был назван всего лишь кандидатом, то ли, наоборот, кандидат преждевременно произведен в члены политбюро. Что было делать? Из цельной пластины строчку не вытащишь, верстальщики ходили вокруг талера, на котором лежала полоса со шпегом, чесали затылки, но трогать не решались. И тогда Арсентий Павлович сам пошел в цех, очертил шилом злополучное место с ошибкой, положил цинк на край стола так, что нехороший абзац оказался как бы на весу, и лично выпилил его из пластины специальной ножовкой. Пока он пилил, весь цех сбежался – линотипистки, верстальщики, стереотиперы, даже печатники поднялись из своего цоколя – посмотреть, как он будет это делать. Пилил Правдюк примерно полчаса, и, когда закончил и посмотрел продырявленную пластину на просвет, типографские даже захлопали. Потом тот же текст, но уже без ошибки набрали на своем линотипе и вставили в образовавшееся окошко. Шрифт, конечно, отличался, и тот, кто понимает, легко мог заметить: что-то тут не то… Но это уже было неважно, важно – что без ошибки. А отсутствие ошибок Правдюк считал в газете самым главным.
Наутро эту историю со смехом рассказывали на планерке в «Южном комсомольце» и сделали коллективное заключение, что Правдюку, видно, больше заниматься нечем, кроме как ошибки лобзиком выпиливать – ха-ха-ха!
Отношение журналистов молодежи к коллегам из взрослой газеты, которую на официальных журналистских мероприятиях почему-то принято было называть «старшая сестра», особым почтением не отличалось, скорее – снисходительностью, хотя сотрудники «Советского Юга» были не кто иные, как постаревшие сотрудники «Южного комсомольца», в разное время перешедшие из одной редакции в другую по возрасту. Областная партийная газета «Советский Юг» занимала в Газетном доме самый удобный третий этаж. Здесь царила почти больничная тишина, а сотрудники тихо сидели по своим кабинетам-кельям, обрабатывая статьи партийных руководителей и письма рядовых коммунистов. Это было очень строгое, официозное издание, про которое сам Правдюк говорил: «Мы – газета, застегнутая на все пуговицы». Редкий посетитель, такой же тихий и солидный, как сами сотрудники «Советского Юга», заглядывал сюда и бесследно исчезал за какой-нибудь из многочисленных дверей, выкрашенных, как в больнице, в белый, с легкой голубизной цвет.
Совсем другая обстановка была этажом выше, где помещалась редакция газеты «Южный комсомолец». Здесь, в длинном, полутемном коридоре и узких кабинетах, всегда нараспашку открытых, целыми днями толклись внештатные авторы: юнкоры и комсомольские активисты, начинающие поэты и барды, студенты и спортсмены, графоманы со стажем и старшеклассницы, мечтающие поступить на факультет журналистики, а также не имеющие прямого отношения к газете личные друзья и подруги сотрудников редакции. В кабинетах громко смеялись, о чем-то постоянно спорили, много курили и часто по вечерам, закрывшись на ключ, выпивали, после чего даже пели вполголоса: «Не верьте пехоте…» или «Милая моя, солнышко лесное…». На третьем этаже прислушивались и вздыхали, в глубине души третий этаж завидовал четвертому тихой, безнадежной завистью.








