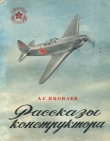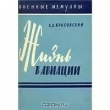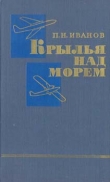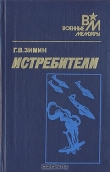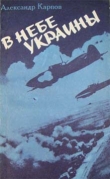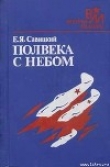Текст книги "Жизнь в авиации"
Автор книги: Степан Красовский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 26 страниц)
Ни бетон, ни металлические плиты, которые использовались для сооружения взлетно-посадочных полос на аэродромах в европейской части страны, на Курилах не выдерживали испытаний: деформировались. Японцы нашли оригинальное решение проблемы. Они сооружали деревянные взлетно-посадочные полосы и рулежные дорожки без единого железного гвоздя. Оказалось, что это очень практично, особенно зимой, когда неизбежны температурные колебания.
На другом острове Курильской гряды мы увидели более крупный аэродром, с несколькими полосами. В центре его высилась гора, которую опоясывала рулежная дорожка. У подножия горы японцы соорудили капониры, куда и закатывали самолеты на случай атаки аэродрома или стихийного бедствия. Входы в капониры ограждали подвижные (на роликах) металлические плиты – тоже мера предосторожности. Все это было очень искусно замаскировано под цвет окружающей местности.
Выяснилось, что на острове нет пресной воды. Ее брали из озера, которое образовывалось к весне в результате таяния снега, задержанного низкорослым кедрачом. Вот почему люди здесь любовно ухаживали за этим кустарником. Вырубать его считалось преступлением.
Летчики жили в землянках, и все же мало кто жаловался на трудности. Однажды, идя по гарнизону, я встретил женщину. На руках у нее был грудной ребенок, сзади шел мальчонка лет четырех. Это была жена одного из летчиков. Мы разговорились.
– Живем тут уже третий год, – сказала она. – Привыкли к здешним местам и климату. Одна беда: нет молока для детей. Нельзя ли помочь?
“Вот это – настоящая подруга офицера, настоящая патриотка, – подумал я. Все понимает, все перенесет и мужа подбодрит в трудную минуту”.
– Обязательно поможем, – пообещал я жене военнослужащего.
После доклада Р. Я. Малиновскому в каждый батальон аэродромного обслуживания было завезено по нескольку десятков коров, и курильчане получили свежее молоко…
Комендатура дальнего гарнизона майора Петрова не имела ни одного жилого дома. И все же люди здесь трудились, обеспечивали перелеты, самоотверженно несли нелегкую службу. Но одно дело – тяготы службы для военных, совершенно иное – для вольнонаемных – рабочих и служащих. Люди жили в палатках. Я зашел в одну из них. Стенки были обложены толстым слоем мха, посредине стояла печка, за ней виднелась кровать. Занимал палатку пожилой рабочий-столяр со своей женой. Обоим лет под пятьдесят. До переезда на Чукотку они жили в Приморье, имели там комнату с удобствами.
– Что вас заставило поехать сюда? – спросил я хозяина палатки. – Здесь же очень тяжело, особенно пожилым людям.
– О том, что здесь тяжело, мы знали, – ответил столяр. – Но настолько привыкли к нашей части, к людям, что когда узнали о передислокации, то решили поехать с комендатурой Петрова.
– Не жалеете?
– Нисколько. Вот если б организовали сюда доставку свежей картошки, было бы хорошо…
В 1952 году, возвращаясь из Пекина, я встретил на аэродроме в Свердловске подполковника Петрова. После Востока он служил на Урале, тоже начальником комендатуры. В разговоре я вспомнил семью столяра.
– Настоящие патриоты, – подтвердил Петров. – А доставку свежей картошки мы вскоре наладили. Возили из Марково. Потом люди научились свою выращивать…
Мне сразу же припомнился поселок на Колыме, куда я не раз прилетал в летнюю пору. В июне там бывали утренние заморозки. Старожилы разжигали между грядками костры из соломы, и дым медленно тянулся над огородами, не давая холодному воздуху проникнуть к листьям картошки. Над поселком долго висели дымные столбы. Таким мне и запечатлелось Марково – далекий поселок на Колыме, где тоже были свои мичуринцы, научившиеся выращивать на вечной мерзлоте капусту и картошку…
Но вернемся к путешествию по Тихому океану. Позади остались острова Кунашир, Итуруп, Уруп и самый северный Шумушу. Наш пароход приближался к берегам Камчатки. Утром в каюту зашел Н. И. Крылов и, размахивая листком бумажки, спросил:
– Скажи, Степан Акимович, тебе ведь сегодня полсотни стукнуло?
– А откуда тебе известно?
– Вот откуда! – И Крылов протянул мне бланки с поздравительными телеграммами: одна была от Министра обороны, другая – из Хабаровска, от Родиона Яковлевича Малиновского.
Отступать, как говорится, было некуда, и я, ожидая очередного вопроса, посмотрел на Крылова.
– Так вот, надо отметить твой полувековой юбилей, – весело сказал Николай Иванович.
Вечером в кают-компании состоялся товарищеский ужин. Я поблагодарил друзей за поздравления с днем рождения и в ответном слове напомнил им ленинские слова о том, что лучший способ отметить юбилей – еще раз критически взглянуть на результаты своей работы.
Утром мы уже были на одном из камчатских аэродромов. Я тут же поинтересовался жизнью и боевой учебой авиаторов, их бытом, запросами и настроением. Конечно, очень хотелось побывать в знаменитой “долине гейзеров”, посмотреть на Ключевскую сопку, но все пришлось отложить. В беседе с командиром выяснилось, что один из летчиков боится летать над морем. Мне принесли его личное дело.
Старший лейтенант К., оказывается, воевал во 2-й воздушной армии, в боях сбил семь вражеских самолетов лично и четыре совместно с товарищами. В боевых характеристиках летчика отмечалось, что дерется он с врагом смело и уверенно, в действиях решителен, не раз выручал друзей из беды.
– Вы заглядывали в личное дело летчика? – спросил я полковника А. А. Осипова.
– Просматривал. Дело яснее ясного: трус он. Поэтому мы отстранили его от полетов.
– Не спешите с выводами… Давайте пригласим летчика на беседу.
Через несколько минут перед нами стоял старший лейтенант К. Лицо бледное, осунувшееся: видно, очень крепко переживает отстранение от полетов. Поздоровавшись, я спросил:
– Какое у вас было задание?
– Полет по маршруту над открытым морем на удалении от берега триста километров. Летали с подвесными баками.
– Почему же вернулись?
– Мне показалось, что отказывает мотор…
– Расскажите подробнее.
– Как только скрылся берег, – продолжал старший лейтенант, – я услышал стук мотора и доложил об этом ведущему группы. Он приказал продолжать полет. После этого мне показалось, что мотор еще хуже стал работать, и я вынужден был покинуть строй. Когда произвел посадку, командир приказал опробовать двигатель. Неисправностей не обнаружили. Меня назвали трусом и отстранили от летной работы.
Выслушав летчика, я сказал ему:
– Мы разберемся и, возможно, переведем вас на материк. А сейчас, мне думается, вам следует продолжать тренировки в полетах над морем. Считайте, что на летной работе вы восстановлены.
Когда К. вышел, у нас состоялся довольно нелицеприятный разговор с командованием части. Здесь грубо нарушили основное правило в летном обучении последовательность. В самом деле, разве можно летчика, пусть и опытного, но никогда ранее не летавшего над морем, сразу выпускать в маршрутный полет на большое расстояние? А ориентировка над морем? Это же целый комплекс сложных задач. Я предложил штурману Голиадзе провести показательные занятия с летчиками-истребителями о способах ориентировки над морем, а инспектору по технике пилотирования и офицерам отдела боевой подготовки – о методике обучения экипажей.
Надо сказать, что наше вмешательство оказалось небезрезультатным. Авиатор К. со временем стал отличным морским летчиком. Он летал много раз на полный радиус действия и вел воздушные бои над морем.
Однако не со всеми летчиками обходилось так благополучно, как с вышеназванным. Расскажу об одном из них, хотя, признаться, воспоминание о нем не относится к числу приятных.
Однажды, когда я был в Москве, в отделе кадров встретился мне стройный, подтянутый летчик, имевший несколько боевых наград. Назовем его майором М. Обратившись ко мне, он сказал:
– Я уже несколько дней ожидаю назначения на должность, но безрезультатно.
– С вами беседовали работники отдела кадров?
– Да, вызывали на беседу несколько раз. Предлагают работу здесь, в штабе. Но я летчик, и готов отправиться хоть на край света, лишь бы летать!
Его увлеченность летной работой выглядела так естественно, что я подумал: “Побольше бы таких энтузиастов”. Мы разговорились. Майор рассказал о том, что совершил много боевых вылетов во время войны, что непродолжительный срок его часть входила в состав 2-й воздушной армии. Я спросил летчика:
– Поедете на Дальний Восток?
– Готов ехать немедленно!
Майор не спрашивал меня ни о квартире, ни о де” нежном содержании. Поневоле я почувствовал расположение к этому человеку. Он был назначен на должность инспектора по технике пилотирования.
Ввод в строй летчика М. почему-то затянулся. Первый вылет откладывался с одного дня на другой: то машина не готова, то погода ухудшилась, то еще случались какие-то неполадки. М. стал роптать. Неоднократно заявлял, что перестраховщики “зажимают” его. Генерал А. И. Подольский принял все меры, чтобы майор наконец вылетел.
И вот самолет поднялся в воздух.
Но дальше стало твориться что-то странное. Майор несколько раз пытался зайти на посадку с убранными шасси. На аэродроме объявили тревогу. Летчика запросили по радио:
– Что случилось?
– Не могу выпустить шасси!
Ему рассказали последовательность действий при выпуске шасси. Он выслушал, но ничего сделать так и не смог. Много раз пытался сесть с убранными шасси, однако все получалось неудачно. В конце концов майору все же удалось приземлить непослушную машину. Оказалось, что на Ил-10 он никогда не летал. Пришлось спешно освобождать его от “инспектора техники пилотирования”…
Камчатка осталась позади. В синей туманной дымке снова вырисовывались знакомые берега. Порой налетал ветер, и качка усиливалась. Не раз мы попадали и в штормы. На корабль наваливались гигантские волны, смывавшие все, что не успели закрепить. В таких случаях генерал Н. Ф. Папивин, настороженно прислушиваясь к треску в корпусе корабля, шумел на палубе:
– Где спасательные пояса? Капитан, кажется, решил нас утопить…
Потом море успокаивалось, и все шло своим чередом. Я еще находился под впечатлением встреч с замечательными людьми, пришедшими осваивать суровый край, – моряками, летчиками, строителями, учителями и врачами, солдатами и офицерами отдаленных гарнизонов, всеми, с кем довелось познакомиться за последнее время…
Летом 1950 года на одном из аэродромов Приморья приземлились стреловидные реактивные машины. Это были первые эскадрильи Георгия Агеевича Лобова.
На дальневосточных рубежах сгущались черные тучи войны. Американская военщина уже начала войну в Корее, непрерывно устраивала провокации на границах Китая. Разведывательные самолеты с американскими опознавательными знаками не раз пытались вторгнуться и на территорию советского Дальнего Востока. Нужно было в короткий срок перевооружить наши части на реактивную технику,
Я спрашивал Лобова, какие трудности встретились у него при переучивании на реактивную технику, сколько ушло на это времени, какие извлекли уроки. Он, не торопясь, обстоятельно отвечал. В конце беседы подытожил:
– Главное препятствие, пожалуй, чисто психологического свойства. Первое время о новой машине у нас ходили буквально легенды. Летчики смотрели на реактивный истребитель с чрезмерной почтительностью. А на деле – все намного проще…
– Почтительность тоже не мешает. Ведь дело-то новое, да и не совсем обычное.
– Нет, мешает, – возразил Лобов. – Конечно, не всем, но мешает. Посмотришь на иного летчика и чувствуешь: сковывает машина его действия, создает излишнее напряжение в полете. А не победишь этого в себе – на реактивном самолете не полетишь!
С интересом приглядывался я к Лобову. Он возмужал, на смуглом скуластом лице особенно выразительны были глаза. Лучики морщин без слов говорили, что тридцатипятилетнего авиатора вряд ли баловала жизнь. Я знал, что Георгий Агеевич в юности был рабочим, трудился обжигальщиком на цементном заводе “Пролетарий” в Новороссийске, там же заводские ребята избрали его комсомольским вожаком. Потом – Новочеркасский институт. Георгий хотел строить боевые и гражданские самолеты для нашей авиации, но учиться долго не пришлось. Его вызвали в комсомольский комитет института, потом в горком.
– Хотим направить тебя в школу военных летчиков, – сказал секретарь.
Лобов пробовал возразить, сказать, что строить самолеты не менее важное дело, но его убедили, что Воздушному флоту теперь нужны военные летчики. Летное училище он окончил по первому разряду и сразу же был выпущен командиром звена – всего три курсанта удостоились такой чести. Началась служба в одной из строевых авиачастей под Ленинградом. Георгий учил подчиненных, упорно учился сам, пока не наступила пора проверить приобретенные боевые навыки. В боях с финнами он получил боевое крещение. Отечественную войну встретил на границе, в Западной Белоруссии, будучи политработником.
Когда нависла прямая угроза захвата нашего аэродрома противником, Лобову пришлось вместе с другими летчиками поджигать свои самолеты. Улететь на них было нельзя: они стояли без горючего. Осунувшиеся, измотанные непрерывными боями, летчики чуть не со слезами на глазах выполняли приказ комиссара, но другого выхода не было.
– Мы еще вернемся сюда, – говорил товарищам Лобов, – и дальше пойдем.
Летчики верили, что скоро поднимется на недруга вся наша огромная страна. Трагедия отступления не переросла в бессильное отчаяние, они верили своей партии, представителем которой был для них Георгий Лобов.
С крайних западных рубежей Георгий Агеевич Лобов попал на ленинградский “пятачок”. Воевать здесь было очень трудно. Едва наберешь высоту, как под крылом город, тут же и линия фронта. Хотя система обнаружения была довольно несовершенной, истребители не раз наносили ощутимые удары по врагу. Эскадрилья Георгия Лобова состояла из ночников – бойцов высокого летного искусства. Чтобы вести этих людей за собой, комиссару самому надо было уметь многое. И молодые летчики, которым политработник больше всего уделял внимания, оправдывали его надежды. Вылетая в ночное небо Ленинграда, они не раз преграждали путь врагу.
Осенней ночью 8 ноября 1942 года на глазах тысяч ленинградцев летчик Алексей Севастьянов таранным ударом сбил “хейнкель”, и обломки самолета с паучьей свастикой упали в Таврический сад. Младший лейтенант Севастьянов учился у Лобова, многое перенял у него, прежде чем стать умелым воздушным бойцом. Ныне одна из улиц Ленинграда носит имя Алексея Севастьянова, не дожившего до светлого дня победы.
На завершающем этапе войны у гвардии подполковника Лобова, командира истребительной дивизии, было на счету уже около двух десятков сбитых вражеских самолетов. А последний, двадцать седьмой самолет он сбил над Прагой.
В мирные дни, когда встал вопрос о том, кому доверить освоение реактивной техники, выбор пал на Лобова. И Георгий Агеевич отлично справился с задачей. Полетев одним из первых на реактивном истребителе, он переучил на новую технику десятки летчиков. В основу обучения он положил личный показ – самое действенное средство в новом деле.
И вот мы беседуем с Лобовым о том, как здесь, на Дальнем Востоке, лучше решить задачу по переучиванию.
– Что, если передать одно из ваших подразделений в часть, которая пока летает на поршневых самолетах? – спрашиваю я.
– На время переучивания? – уточняет Лобов. Чувствуется, что ему жаль расставаться со своими летчиками.
– Да.
– Лучшего способа, пожалуй, сейчас и не придумать, – соглашается Лобов и добавляет: – Неплохо будет, если к нам тоже перевести одно из подразделений, летающих на старой материальной части.
Контроль за переучиванием летчиков на реактивные самолеты был возложен на генерала Алексея Ильича Подольского – энергичного, знающего дело специалиста. Спустя некоторое время он докладывал, что учеба идет полным ходом. Теоретические занятия чередуются с полетами на самолетах МиГ-15. Чтобы ускорить выполнение плана боевой подготовки, полеты организовали одновременно на трех аэродромах.
К осени 1950 года две наши части истребителей полностью переучились на реактивную технику. Метод обмена подразделениями получил самое широкое распространение. Успешно шло переучивание авиаторов, которыми руководили в ту пору офицеры Г. С. Концевой, Г. К. Платоненков, Г. И. Гроховецкий и другие. Успех объяснялся тем, что на Дальнем Востоке мы имели опытные кадры авиаторов. Так, летчики, которыми командовал Герой Советского Союза полковник Н. В. Исаев, еще до переучивания успешно освоили полеты на полный радиус, на предельных высотах вели воздушные бои, уверенно действовали над морем, совместно с наземными войсками не раз на учениях уничтожали морские десанты “противника”.
Не все, конечно, шло гладко, бывали и промахи.
Как-то во время проверки боевой подготовки полковник Литвинов доложил, что его часть небоеспособна, так как летчики не успели отработать упражнения в стрельбе по конусу. Полковник Н. В. Исаев с оценкой Литвинова не согласился.
– Дайте мне три-четыре дня на подготовку, а потом можете проверить, заявил он.
Мы пошли навстречу его просьбе. Полковник Исаев организовал интенсивную работу. Сначала он устроил показные полеты с командирами, а те в свою очередь дали провозные летчикам. Наибольший налет оказался у самого Исаева, с утра до вечера не вылезавшего из кабины самолетов.
Четыре дня спустя мы произвели проверку, и авиаторы получили хорошую оценку. Заслуга в этом прежде всего полковника Исаева – боевого, опытного командира, проявившего в трудный момент незаурядные организаторские способности. Кое-кто пытался объяснить успех тем, что, мол, командир устроил аврал.
– Летчики у нас хорошие, – как бы оправдывался Исаев. – Просто, увлекшись техникой пилотирования на Ла-9, мы не уделили одновременно внимания огневой подготовке. А сейчас приняли меры, и навыки восстановлены. Никакого аврала я в этом не вижу.
Не случайно позже летчики Исаева очень быстро переучились на реактивную технику.
Учились не только летчики. Напряженно занимались командиры всех степеней. Главнокомандующий войсками Дальнего Востока Маршал Советского Союза Родион Яковлевич Малиновский систематически проводил учения. И где бы они ни проходили – на Сахалине, в Приморье или в Забайкалье, – главком требовал от нас зрелого мышления, оригинальных решений, нацеливал действовать творчески, применительно к быстро меняющейся обстановке.
Особенно большое внимание уделялось морской подготовке. Летчики научились наносить точные удары по подвижным морским целям, успешно штурмовали “противника”, пытавшегося высадить десанты с моря, вели воздушные бои, отражая “налеты” на Владивосток.
Во время учений нам приходилось постоянно взаимодействовать с флотом. У меня остались самые приятные воспоминания о совместной работе с нашими опытными, эрудированными флотоводцами адмиралами Н. Г. Кузнецовым и В. Ф. Трибуцем, которые глубоко понимали специфику действий авиации на морском театре.
В неустанных трудах и учениях рос и совершенствовался коллектив офицеров и генералов штаба ВВС Дальнего Востока. Вдумчиво и обстоятельно решал все вопросы начальник штаба генерал Н. И. Кроленко. Высокой штабной культурой обладал сменивший его генерал А. А. Саковнин. Мы хорошо сработались с товарищами Н. Ф. Папивиным, С. Е. Белоконем, С. В. Слюсаревым и Д. Я. Слобожаном. Товарищи М. М. Шишкин, А. И. Харебов, Н. Д. Гребенников, Н. Г. Афонин, А. И. Любимов и другие не жалели ни сил, ни времени для порученного дела.
Шел уже четвертый год работы на Дальнем Востоке. Я познакомился с людьми, освоился с особенностями края, считал себя дальневосточником и совсем не предполагал, что скоро окажусь вдали от друзей, от родного коллектива.
В октябре 1950 года меня вызвали в Москву. Было два часа ночи, когда я вышел от Александра Михайловича Василевского с новым назначением.
– На аэродром? – спросил шофер, которому, видно, уже не раз приходилось отвозить посетителей начальника Генерального штаба прямо на Центральный аэродром имени Фрунзе.
Вместе со мной летели генералы П. И. Фоменко и В. М. Лихачев. Им, как и мне, предстояло работать в у Китае под руководством генерала армии, ныне Маршала Советского Союза, Матвея Васильевича Захарова.
Вскоре мы прибыли в Читу, а затем вылетели в Пекин. Шесть часов воздушного пути – и вот уже самолет делает традиционный круг над аэродромом, чтобы зайти на посадку. Через час мы уже разговариваем с Матвеем Васильевичем Захаровым.
– Работы предстоит много, – начал Захаров, – в основном по созданию национальных кадров летно-технического состава, формированию новых авиачастей, строительству аэродромов.
Матвей Васильевич назвал срок формирования частей, и стало ясно, что впереди у нас – непочатый край неотложных задач.
Правительство Китайской Народной Республики принимало все меры к тому, чтобы в ближайшие два-три года создать военно-воздушные силы. Торопили события. Военные действия в Корее перешли в такую фазу, когда возникла непосредственная угроза территориальной целостности Китая.
Советский Союз оказывал очень большую помощь Китайской Народной Республике в создании авиации. О размерах этой помощи можно судить хотя бы по такому факту. Вскоре после прибытия в Китай мне было поручено сообщить Мао Цзэ-дуну, что Советское правительство решило безвозмездно передать Китайской Народной Республике несколько сот самолетов МиГ-15. Мао Цзэ-дун поблагодарил наш народ за столь щедрый подарок.
Самолеты прибыли очень скоро. Будет уместно напомнить, что “миги” были подарены КНР в 1951 году, когда мы только начали перевооружение своих истребительных частей на реактивную технику. Кроме боевых самолетов в Китай поступало много разнообразного авиационного имущества: запасные части, инструменты, станки для авиамастерских, аэродромное оборудование, керосинозаправщики.
Большую помощь оказывали мы и в подготовке авиационных кадров. Генерал С. Д. Прутков, ранее прибывший в Китай с большой группой летно-технического состава, уже успел немало сделать. Приступили к работе летные и технические школы. Правда, укомплектовать их оказалось не так-то просто. Среди молодых рабочих и крестьян в стране было много малограмотных: учились в основном дети мелкой буржуазии, промышленников и торговцев. Поэтому китайское правительство развернуло широкую сеть курсов для рабоче-крестьянской молодежи, годной по состоянию здоровья к службе в авиации.
Еще труднее обстояло дело с созданием национальных инженерных кадров для авиации. Раньше их в Китае не было. Мы предложили китайским товарищам призвать в авиацию молодых людей, окончивших технические вузы и средние учебные заведения. Через полгода или год из них можно подготовить квалифицированных специалистов. С нашим предложением согласились. Вскоре по всей стране была развернута сеть краткосрочных курсов, и проблема подготовки инженерно-технических кадров успешно решилась.
Несколько сложнее было готовить летчиков. К тому времени в Китае уже работал ряд училищ первоначального обучения. Молодежь охотно шла в авиацию, с большим трудолюбием изучала советскую авиационную технику – бомбардировщики Ту-2, Пе-2, штурмовики Ил-10, истребители Ла-9 и МиГ-15. Однако китайские товарищи быстро уставали во время полетов. Это объяснялось тем, что в их пищевом рационе не хватало жиров, мяса, масла. К новым же нормам питания они привыкали с трудом, особенно в первое время. По этой причине происходил отсев из училищ.
Другая трудность состояла в том, что советские летчики-инструкторы не знали китайского, а курсанты в свою очередь русского языка. Пришлось срочно издать китайско-русские разговорники. Для советских инструкторов были организованы кружки по изучению китайского языка.
За год будущие летчики налетали по сто – сто двадцать часов, ознакомились с элементами боевого применения, овладели летно-тактической подготовкой. Словом, из недавнего пехотинца получался неплохой летчик, особенно из тех командиров, которые уже успели побывать в боях. Китайские ВВС получили вполне подготовленных авиационных командиров, хорошо знающих природу общевойскового боя, умело разбирающихся в наземной обстановке, что очень важно при современных требованиях к воздушному бойцу.
Советские инструкторы много внимания уделяли обучению китайских товарищей стрельбе и бомбометанию, полетам на больших высотах и на предельный радиус. В каждом авиасоединении были барокамеры, и почти весь летный состав прошел тренировки. Профилактика оказалась не лишней. Потом не было ни одного случая потери летчиками сознания в воздухе. Для полетов на большие расстояния в бомбардировочных частях широко применялся межаэродромный маневр.
Однажды на аэродром, где проходили полеты со стрельбой и бомбометанием, приехал Чжу Дэ. Экипажи действовали настолько умело, что Чжу Дэ усомнился, китайские ли это летчики. По его просьбе после приземления все экипажи были построены у своих самолетов.
Чжу Дэ прошел вдоль строя и, пристально вглядываясь в лица летчиков, каждому задавал один-два вопроса.
– Вот теперь можно считать, что мы вполне удовлетворены подготовкой наших летчиков, – сказал он.
Возвращаясь в город, я спросил Чжу Дэ, почему он так внимательно смотрел на летчиков.
– Пустили слух, что нас обманывают, летают, мол, не китайские летчики, а русские…
Боевая подготовка летного состава китайских ВВС была на уровне современных требований. И когда китайские добровольцы вылетели на фронт, чтобы помочь корейскому народу в борьбе против американских империалистов и их лисынмановских прихвостней, в первых же боях они продемонстрировали не только мужество и отвагу, но и высокое летное мастерство. Они часто обращали в бегство воздушного противника. Факелами летели вниз “мустанги”, “сейбры”, “шутингстары”, “летающие крепости”, поверженные китайскими истребителями.
Если учесть, что летчики корейской Народной армии и китайские добровольцы вынуждены были вести борьбу с опытными воздушными пиратами Америки, то станет понятным, сколько от них потребовалось искусства, упорства и настойчивости. Как правило, американцы предпринимали бомбардировочные налеты только при многократном превосходстве истребительного прикрытия. Бывали случаи, когда на один бомбардировщик они высылали десять истребителей. Но и в этих условиях корейские летчики и китайские добровольцы наносили весьма чувствительные потери американским бомбардировщикам, встречая их далеко на подступах к объектам. Американский журнал “Ньюсуик” сообщал об одном из неудачных вылетов, совершенном 30 октября 1951 года: “Потери – 100 процентов. Это были потери, понесенные бомбардировщиками Б-29 в “черный вторник”, когда 8 бомбардировщиков Б-29 совершали налет в сопровождении 90 истребителей”.
У меня сохранились некоторые номера журнала “Дружба”. На страницах его не раз рассказывалось о помощи советских авиаторов китайским. Вот статья героя второй степени подполковника китайских ВВС Ли Ханя “Мой советский друг”, опубликованная в февральском номере за 1958 год. В ней рассказывается, как советский летчик Потасьев помогал китайским авиаторам овладеть ночными полетами. Не буду цитировать статью, хочу только рассказать о сути дела.
В китайской части было мало летчиков, которые владели техникой ночных полетов. Чтобы помочь подготовить группы ночников, Потасьев взял на себя личное руководство. Днем он контролировал учебу китайских авиаторов в аудиториях, а ночью уходил на аэродром. Когда ему напоминали об усталости, он говорил:
– Нет, я не устал. Чтобы вы скорее овладели мастерством ночных полетов, я готов работать все двадцать четыре часа в сутки.
Перед окончанием программы обучения Потасьев решил проверить каждого летчика и за одну ночь совершил пять вылетов, ни разу не выходя из кабины самолета.
Прощаясь с китайскими товарищами, он передал им принесенную из дому вечнозеленую тую.
– Я сам посадил это растение, – сказал советский летчик. – Передаю его вам. Пусть наша дружба никогда не увядает, как эта вечнозеленая туя.
У китайцев широко распространена поговорка: “Пьешь воду, не забывай о том, кто вырыл колодец”. К сожалению, маоисты очень быстро забыли эту поговорку…