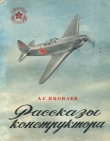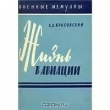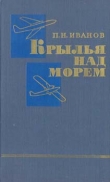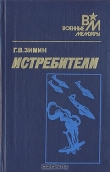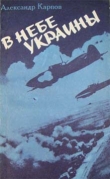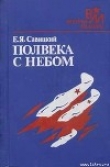Текст книги "Жизнь в авиации"
Автор книги: Степан Красовский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 26 страниц)
Это были воины, не знавшие страха в борьбе с врагом. Я испытываю гордость от сознания того, что служил вместе с ними, в одних рядах шел по дорогам войны, делил радости побед и горечь неудач. Больно сознавать, что некоторые из них, геройски сражаясь, пали в боях за честь и свободу нашей Родины, но светлый образ мужественных товарищей, прекрасных боевых друзей навсегда останется в моем сердце.
После войны
Заботы мирных днейИз Дрездена самолет взял курс на восток. Под крылом проплывали немецкие города, деревушки с красными черепичными крышами, ровные квадраты лесов, пересеченные синими линиями каналов. Если бы не разрушенный бессмысленной бомбежкой американской авиации в последние дни войны центр Дрездена да не развалины городов близ Одера, можно было бы подумать, что война нанесла не такой уж большой ущерб Германии.
Мы летели в Москву, на парад Победы. Маршал Конев разрешил мне по пути навестить родное село, и теперь я с нетерпением ждал свидания с близкими, которых ни разу не видел за всю войну.
Когда воздушный корабль пересек государственную границу, я пересел на первое сиденье второго пилота, откуда открывалась широкая панорама местности. Хотелось взглянуть на города и села родной республики. Развалины, пепелища, дымки над землянками у проселочных дорог. По скоплениям дымков да по останкам домашних очагов, видневшимся сквозь заросли бурьяна, можно было определить, что вот тут, на этом месте, стояло большое село, и я мысленно переносился в родные Глухи…
Самолет сделал традиционный круг. На аэродроме командир авиаполка предоставил мне свою машину, чтобы доехать до отчего дома. И вот передо мной знакомая дорога, по которой я вышагивал мальчишкой, нагруженный сумкой с домашним хлебом и бульбой – запасом продовольствия на неделю. Те же цветы, те же запахи родной земли.
– Ну и хорошо же здесь у вас, Степан Акимович! – говорил мне корреспондент нашей армейской газеты Володя Степаненко, москвич, направлявшийся со мной в столицу.
На чуть вздыбленном холме показались Глухи. Наш дом – неподалеку от околицы. Увидев запыленную машину с военными, вездесущие мальчишки с криком понеслись по селу, возвещая о приезде гостей. Вышла из дому и моя мать.
– Степан! – только и сказала она, обнимая меня, не в силах унять слез. А когда немного успокоилась, тяжело вздохнула и с горечью произнесла: – Василий и Игнат погибли под Москвой…
И снова в слезы.
Мне уже было известно, что все мои пять братьев в годы войны защищали Родину, но судьбы их сложились по-разному. Андрей потерял правый глаз, Александр пришел без руки. Лишь Дмитрий остался невредимым. Он – капитан, недавно прислал письмо о том, что готовится к увольнению в запас.
Мать после оккупации немцами Могилевщины недолго оставалась в Глухах. Полицаи не раз заглядывали в ее дом, требуя от нее фотографии сыновей и письма. Мать сделала все, чтобы ни один документ не попал в руки врага, а потом вместе с односельчанами ушла в партизанский отряд. Нелегко было ей вышагивать по лесным дорогам, по болотам, но она находила силы и на кухне помочь, и белье постирать, и за маленькими ребятишками присмотреть, пока их матери оказывали помощь раненым партизанам на поле боя. В глухой лесной деревушке Залатве, где находилось в то время командование партизанских отрядов Могилевщины, все знали ее и оказывали всяческое внимание.
Начальник штаба партизанского движения Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко, будучи как-то в Ельце, предложил мне перевезти мать через линию фронта.
– Боюсь, что она не выдержит воздушного путешествия, да еще над линией фронта. Ведь ей семьдесят лет! – поблагодарил я Пантелеймона Кондратьевича.
Выпив ради встречи рюмочку коньяку, мать будто помолодела. А в дом все шли и шли односельчане, старики и молодежь, родственники и незнакомые мне люди. Я узнал среди них и Ивана Каравацкого – отца двух воздушных стрелков, сражавшихся на Воронежском фронте во 2-й армии.
От души мне было жаль отца, потерявшего на фронте детей, но война есть война, она без разбору сеет смерть. Да разве словами утешишь горе! Слова тут ни к чему, и в горнице на минуту все притихли.
Я вновь вспомнил, как встретил одного из братьев Каравацких на полевом аэродроме. Позже узнал, что оба они сражались достойно и умерли как герои.
– А мой сын Иван был на фронте танкистом, – вступил в разговор сосед Круталевич. – Сейчас на него тяжко смотреть: ни рук, ни ног…
Война, кажется, не обошла ни одной семьи. У брата моего, Андрея, фашисты расстреляли дочку и сына, помогавших партизанам. С презрением и ненавистью говорили люди о бывших фашистских прихвостнях. Зато сколько гордости можно было прочитать в их глазах, когда речь шла об односельчанах, отличившихся на фронте и в партизанском тылу!
Я рассказал о земляках В. К. Крикуненко, Е. П. Путранкове, Н. И. Веселовском, с которыми встречался на фронте, об их доблести в боях за Родину. Чувство гордости охватило меня, когда узнал, что один из моих племянников, Василий, получил прозвище Бесстрашного Партизана. Позже мне стало известно, что Василий Красовский и в мирные дни остался бойцом. Когда партия призвала молодежь на освоение целины, он одним из первых выехал с отрядом энтузиастов из Белоруссии в Казахстан. Несчастный случай трагически оборвал его жизнь, и Бесстрашный Партизан навсегда остался на целине…
До позднего вечера продолжался в нашем доме задушевный разговор. Верилось, что односельчане трудом своим поднимут из пепла колхоз, заново узнают щедрость родной земли. Ведь не зря же лучшие из них шли на бой и на смерть, глубоко убежденные в том, что те, кому доведется жить после победы, будут счастливы. Узнав, что я направляюсь в Москву, на Парад Победы, люди желали мне здоровья, успехов в службе в мирные дни.
– Ты честно служи, Степан, – снова, как когда-то, провожая в армию, давала мне наставления мать, – и все будет хорошо.
Рано утром я выехал на аэродром и улетел в Москву. На Параде Победы у меня произошел разговор с А. И. Покрышкиным. Он нес знамя сводной колонны 1-го Украинского фронта. В ожидании торжественного марша я спросил, какие у него планы.
– Учиться, товарищ командующий. Сейчас об этом каждый думает, – ответил трижды Герой Советского Союза.
Да, таким, как Покрышкин и сотням других наших молодых командиров, кому не исполнилось еще и тридцати, самая пора учиться. Война им дала колоссальный боевой опыт. Теперь к этому опыту надо добавить солидную теоретическую базу, и тогда послевоенная армия получит великолепных специалистов.
После незабываемого парада на Красной площади я возвращался в Дрезден в приподнятом настроении. На аэродроме в Дрездене меня встретил начальник штаба армии генерал Качев и сразу же познакомил с обстановкой. Соединения и части нашей армии в ближайшие дни должны были перебазироваться на аэродромы Австрии, Венгрии и Чехословакии. Там предстояло привести в порядок материальную часть, демонтировать устаревшие и выработавшие ресурс самолеты, а моторы и прочее оборудование пустить в металлолом для отправки в Советский Союз. Одновременно надо было расформировать многие части и соединения, организованно провести демобилизацию старших возрастов военнослужащих и специалистов, в которых остро нуждалось народное хозяйство.
– Главное, – предупредил нас командующий ВВС, – сохранить ценные кадры летчиков, штурманов, техников. Наиболее отличившихся в боях направлять на учебу в академии.
Штаб армии расположился в живописном пригороде Вены – Лизинге. Обстановка для работы здесь была превосходная. Отделы штаба разместились в домах, где еще недавно были общежития для рабочих. Неподалеку от штаба – посадочная площадка для приема связных самолетов.
По воскресеньям офицеры выезжали в горы, на озера, в Вену, где многое напоминало о Моцарте, Штраусе, Стефане Цвейге… Из окон коттеджей по вечерам далеко разносились мелодии штраусовских вальсов, и Венский лес, прославленный великим композитором, наяву манил под свою прохладную тень.
Давно мы по-настоящему не отдыхали и теперь использовали выходные дни, как говорится, по их прямому назначению. Однако отдых отдыхом, а боевая учеба для армии – главное.
Однажды командующий ВВС созвал начальствующий состав на сборы, где широко обсуждался вопрос о боевой подготовке в мирное время. Все говорили о трудностях переходного периода, и мне невольно припомнилось окончание гражданской войны. Тогда перед нами тоже встал вопрос о том, как учить войска в мирное время. Теоретически подготовленных офицеров, особенно в авиации, было очень мало, да и сама авиационная наука делала только первые шаги. Как учить летчиков оперативно-тактическому искусству? Где те основы боевого применения авиации, о которых у многих из нас было самое смутное представление? И ветераны гражданской войны находили самый облегченный путь – полеты! И тут уж никто не мог превзойти их в мастерстве. Они рассуждали так: летчик прежде всего должен уметь летать, а обо всем другом позаботятся штабы.
На фронте во время оперативных пауз больше всего уделяли внимания полетам, отрабатывали технику пилотирования, основы воздушного боя, бомбометание и стрельбу – словом, учили тому, с чем завтра же летчик может столкнуться в бою. По-настоящему разобраться в том, от чего зависели удачи или промахи той или иной операции, не хватало времени. И вот теперь предстояло в корне пересмотреть организацию нашей боевой подготовки во всех звеньях, начиная с солдата и кончая командиром корпуса, командующим армией.
На сборах была представлена вся новейшая боевая техника, в том числе и авиационная, с которой мы завершили войну. Теперь задача заключалась в том, чтобы научить солдат, сержантов и офицеров мастерски владеть ею, еще выше поднять боевую готовность частей, несмотря на то, что идет демобилизация.
Все пришли к единодушному мнению, что надо провести оперативно-тактические конференции, на которых следует обстоятельно разобрать крупнейшие операции минувшей войны, обобщить боевой опыт лучших частей и соединений, посоветоваться, какими методами внедрять этот опыт в боевую подготовку.
Интересно прошли конференции по обобщению опыта войны. В них приняли участие не только летчики, штурманы, инженеры, техники и младшие специалисты, но и представители наземных войск, Главного штаба ВВС и Краснознаменной академии командного и штурманского состава. Участники конференций очень подробно анализировали действия 2-й воздушной армии в операциях на Волге, в Курской битве, в битве за Берлин и при освобождении Праги. Схемы, выставки, фотоматериалы хорошо подкрепляли выступления докладчиков. Люди наглядно могли убедиться, какой огромный и трудный боевой путь прошли их родные дивизии и полки в годы войны, чему авиаторы научились и что предстоит сделать, чтобы внедрить драгоценный боевой опыт в учебную практику.
Представители военно-учебных заведений отмечали, что участие военных ученых в подобных конференциях приносит огромную пользу, что изучение опыта поможет создать хорошие учебные пособия, разработать ценные научные исследования. Позже, знакомясь с научными трудами в академии, я увидел, как многое из того, что было высказано творцами боевого опыта – авиаторами 2-й воздушной армии, – внедрялось в систему обучения. Что ж, это вполне закономерно: практика должна обогащать теорию, а теория, подобно лучу мощного прожектора, призвана указывать новые пути практике.
Организуя боевую подготовку, мы уделяли большое внимание вопросам боевого применения с отработкой тактических задач. В полках много летали, авиаторы ни на один день не прекращали учебы. И все же в боевой подготовке частей и соединений было немало недостатков.
После проверки 9-й гвардейской дивизии 1-го гвардейского штурмового корпуса выяснилось, что экипажи недостаточно метко поражают точечные цели на земле. Командир дивизии очень правильно, на мой взгляд, квалифицировал этот пробел:
– На войне летчики чувствовали особую ответственность, да и били-то больше по площадным целям, нежели по точечным. Сейчас – другое дело. Поражение точечных целей требует определенного мастерства. Будем отрабатывать методику обучения экипажей на полигоне.
– Как вы себе это представляете? – спросил я комдива.
– Сначала научусь как следует действовать сам, – ответил он, – а потом дам провозные командирам полков; они в свою очередь – комэскам…
– Когда можно будет вас еще раз проверить?
– Через месяц! – твердо заявил комдив.
Действительно, штурмовикам за месяц удалось ликвидировать выявленный пробел, и они приобрели твердые навыки в бомбометании по точечным целям. И не удивительно. Ведь техника пилотирования, приемы владения оружием у фронтовиков были доведены чуть ли не до автоматизма, значит, предстояло отработать только прицеливание.
Первые итоги послевоенной учебы были подведены на крупных учениях Центральной группы войск, которыми руководил генерал армии В. В. Курасов. В нем участвовал и 5-й истребительный корпус генерала В. М. Забалуева, а также части, предназначенные главным образом для ведения разведывательных действий.
Авиация впервые взаимодействовала с наземными войсками не в бою, а над территорией огромного полигона Алленштайн, близ Вены. Полигон в свое время был крупнейшей учебной базой немецких войск в годы войны. Местные жители утверждали, что здесь тренировалась и 6-я армия генерала Паулюса…
Пересеченная лесистая местность, где сохранились деревни и церквушки (жители давно были выселены), давала полное представление о реальных условиях, с которыми солдат встретится в бою. Ни на одной из рек, пересекавших полигон, не было мостов. Войска самостоятельно, в ходе боя, должны были наводить переправы и форсировать водные преграды. В нескольких местах были построены оборонительные сооружения. Словом, Алленштайн представлял собой вполне современный полигон, где войска могли получить отличную практику в наступлении на долговременную оборону “противника” в условиях пересеченной местности, изобилующей водными преградами. Для нас же основной задачей, которую мы рассчитывали отработать, была четкая организация управления истребителями над полем боя.
И вот первые учения совместно с наземными войсками. Дороги развезло, и наши радиостанции отстали. Когда командир 5-го истребительного авиакорпуса генерал В. М. Забалуев изменил место своего командного пункта, он оказался вообще без средств связи и потерял возможность вызывать самолеты с аэродромов, ставить экипажам боевые задачи. Пришлось передать управление истребителями командиру 8-й гвардейской истребительной дивизии полковнику В. И. Давидкову.
Разумную инициативу проявил начальник штаба 8-й гвардейской дивизии подполковник П. П. Перцов. Находясь в районе базирования частей и не имея связи с командиром, он стал выпускать группы истребителей с аэродромов по ранее намеченному графику. Самолеты появлялись над командным пунктом Давидкова точно в назначенное время. Командир дивизии с помощью имевшейся у него маломощной радиостанции связывался с летчиками и ставил им задачи. Управление было сохранено.
Для всех нас, и особенно для штаба 5-го истребительного авиакорпуса, это было серьезным уроком. Учения показали, что вопросам управления мы еще не уделяем достаточного внимания, что тут еще предстоит немалая работа, упорные тренировки.
Весной 1946 года главком ВВС вызвал авиационных начальников в Москву. Помимо организационно-методических указаний нам предстояло познакомиться и с образцами послевоенной авиационной техники, с работой некоторых конструкторских бюро.
“Чем-то обрадуют нас конструкторы?” – подумал я, увидев входящих в зал заседания А. Н. Туполева, С. А. Ильюшина, А. И. Микояна, А. С. Яковлева, С. А. Лавочкина, С. К. Туманского и других известных создателей отечественных самолетов и авиадвигателей.
Я уже говорил, что в конце войны немцы применяли реактивные самолеты, но они, видимо, еще не были как следует освоены. В дальнейшем немало трофейных Ме-262, Ме-163 и Хе-162 попало в наши руки. Нам было известно, что конструкторы С. П. Королев, В. Ф. Болховитинов и другие настойчиво искали пути развития реактивной техники, создавали опытные машины. И теперь хотелось узнать, насколько они преуспели в этом деле.
Александр Сергеевич Яковлев рассказал, что у нас строятся опытные образцы реактивных самолетов Як-15 и МиГ-9. Он заверил присутствующих, что эти машины будут лучше немецких, хотя, конечно, они еще требуют доработки. Александр Сергеевич подробно рассказывал о технических трудностях, с которыми встретились конструкторы, о необходимости быстрейшей разработки новых форм и профилей крыла, хвостового оперения.
На другой день мне удалось поговорить с конструктором С. А. Лавочкиным.
– Семен Андреевич, когда же мы получим надежный современный истребитель? спросил я его.
– Не раньше, думаю, – конструктор сделал паузу, – чем через пять-шесть лет.
– Зачем же мы уничтожаем сейчас самолеты? Ведь скоро учить летчиков не на чем будет.
– Дело ваше. Только учтите, раньше, чем через пять-шесть лет, хорошей машины не будет, – повторил он. – Нужно преодолеть звуковой барьер, нужны новые металлы, материалы особенно высокой прочности… У нас пока эти проблемы не решены. И решить их в состоянии лишь очень большой коллектив научных работников.
Лавочкин ошибался в сроках, так как советские реактивные машины со стреловидным крылом были созданы намного раньше, однако беседа с конструктором очень озадачила меня. В расчете на немедленное поступление новых самолетов инженерная служба ВВС уже дала указание демонтировать старые машины и сдавать их в металлолом. Пришлось срочно связаться по телефону с инженером армии Н. Д. Гребенниковым:
– Надо прекратить уничтожение истребителей. Ломайте пока старые “илы”. Все Ла-5, Ла-7 и “яки” сосредоточивайте в мастерских. Будем ремонтировать.
Впоследствии оказалось, что мы поступили правильно. Поршневые самолеты в течение нескольких послевоенных лет еще хорошо послужили нам. Пока одни полки осваивали реактивные машины, в других бесперебойно продолжались полеты.
В июне 1947 года в Центральную группу войск прибыл главком ВВС К. А. Вершинин. Маршал побывал на многих наших аэродромах, где присутствовал на занятиях. И, кажется, остался доволен положением дел.
И вот вечером Константина Андреевича вызвала Москва
Вернулся он довольно скоро и вдруг сообщил, что мне предстоит новое назначение.
– Куда? – спросил я.
– На Дальний Восток, Степан Акимович. Утром Вершинин улетел в Северную группу войск а я в Москву.
На Дальнем ВостокеДавненько мы с вами не виделись! – встретил меня Маршал Советского Союза А. М. Василевский.
Расспросив о положении дел в армии, о боевой учебе личного состава, о его настроениях, Александр Михайлович сказал:
– Вы назначаетесь, Степан Акимович, командующим авиацией Дальнего Востока.
В приемной у Василевского я встретил многих боевых друзей. Были здесь П. А. Ротмистров, В. Ф. Трибуц, Н. А. Курочкин, незнакомый мне артиллерийский генерал Г. Ф. Одинцов, с которым мы потом подружились на Дальнем Востоке. Здесь же находился и будущий начальник штаба главнокомандующего войсками Дальнего Востока М. А. Пуркаев, который коротко проинформировал о том, что предстоит сделать в ближайшие дни. К нему сразу же посыпались вопросы. Я тоже спросил Пуркаева: при формировании штаба ВВС Дальнего Востока следует ли рассчитывать на местные кадры?
– Нет, – ответил генерал. – Вам дано право подобрать кадры по своему усмотрению.
Во время нашей беседы прибыл Маршал Советского Союза Р. Я. Малиновский. Родион Яковлевич сразу же стал расспрашивать о самочувствии, о том, довольны ли мы новым назначением. Он дал некоторые указания о предстоящей работе на Дальнем Востоке. Министр обороны Н. А. Булганин объявил о нашем назначении и указал срок прибытия в Хабаровск.
Возвратившись в Вену, я доложил о новом назначении генералу армии В. В. Курасову и просил разрешения подобрать кадры. Не забыл и про автотранспорт.
– Представьте список офицеров, желающих ехать с вами, – сказал Владимир Васильевич. – Часть автотранспорта и другой техники можете тоже взять. Эшелон поступит в ваше распоряжение.
Со мной согласились ехать к новому месту службы член Военного совета Сергей Николаевич Ромазанов, начальник штаба 8-й гвардейской истребительной авиадивизии подполковник Петр Пантелеймонович Перцов, начальник связи полковник Даниил Гаврилович Денисенко и ряд других товарищей, в деловых качествах которых сомнений не было.
Накануне вылета в Москву в штабе армии состоялось партийное собрание. Таким образом, почти все сослуживцы оказались в сборе. Я попрощался с товарищами, поблагодарил их за дружную работу в годы войны и в мирные дни. Тяжело было, конечно, расставаться: коллектив у нас сложился дружный, работоспособный, творчески умевший решать большие задачи. Очень жаль, что нельзя было всем штабом, в полном составе, выехать к новому месту службы.
Короткая остановка в Москве. На Центральном аэродроме вновь собрались вместе Ротмистров, Курочкин, Одинцов. Далее мы летели в одном самолете с посадками в Свердловске, Новосибирске. Ночевали в Чите. Время сместилось, и было как-то непривычно ложиться спать, когда за окном занимался рассвет…
О многом говорили мы в длительном полете. И больше всего, пожалуй, о международном положении. После известной речи У. Черчилля в Фултоне снова неспокойно стало в мире. Сложная международная обстановка, агрессивная политика империалистических государств, усиление “холодной войны” заставили нас принять меры к дальнейшему укреплению Вооруженных Сил, в том числе и ВВС.
На Хабаровском аэродроме нас встретили представители штаба. Разместились мы в Богдановском санатории, близ города.
Утром мы побывали у Родиона Яковлевича Малиновского. Главком, справившись о нашем самочувствии после полета, сразу же изложил программу действий. Предстояло решить организационные вопросы, а потом уже знакомиться с частями. Поездка на Сахалин, Курилы, Камчатку и Чукотку намечалась на июль – август. Сначала надо побывать в Забайкалье, Приморье и на Ляодунском полуострове.
К тому времени на дальневосточных рубежах у нас имелось значительное количество авиации. Однако уровень боевой готовности не отвечал возросшим требованиям. В некоторых гарнизонах аэродромное хозяйство находилось в запущенном состоянии. Ремонту подлежали ангары, мастерские. Не хватало жилья, и требовалось всерьез заняться строительством жилых домов, казарм, культурно-бытовых учреждений. Особенно трудным было положение в отдаленных гарнизонах – на Чукотке, Сахалине, Камчатке и Курильских островах – форпостах дальневосточной авиации.
Через несколько дней прибыл эшелон из Австрии. Теперь у нас уже было кое-какое хозяйство. Денисенко сразу же включился в работу по оборудованию узла связи, нашлась работа Перцову, Герою Советского Союза В. А. Меркушеву, прибывшему на должность инспектора по технике пилотирования. На должность главного штурмана ВВС Дальнего Востока был назначен полковник Л. А. Голиадзе.
При первом же знакомстве я попросил Голиадзе доложить, что представляет собой Дальний Восток в штурманском отношении, какие трудности можно встретить во время полетов. Мы подошли к большой карте, и главный штурман начал рассказ. Он подробно охарактеризовал каждый район, его особенности в авиационном отношении.
Несколькими днями позже я “читал” географию Дальнего Востока с борта самолета. Тень от крыльев медленно скользила по земле. Под нами мелькали белые мазанки, окруженные небольшими садами, слева, в синей туманной дымке, тянулась гряда гор. Это отроги Сихотэ-Алиня. Голиадзе то и дело сверял карту с местностью. Сегодня он выступал не только в роли штурмана, но и в роли главного гида в нашем воздушном путешествии по Приморью.
– Под нами Спасск, – объявил штурман. – Но наш путь еще дальше, на юг. Понимаете, – с грузинским акцентом говорил Лев Алексеевич, – кажется, нашу Грузию по красоте трудно с чем-либо сравнить, а здесь есть места не менее экзотичные, чем на Кавказе.
Мы приземлились. Подул резкий пронизывающий ветер.
– Как в аэродинамической трубе, – сказал генерал Д. Я. Слобожан.
В разговор вступили член Военного совета генерал-майор авиации Михаил Иванович Шаповалов и начальник политотдела генерал Я. И. Драйчук. Шаповалов тут заканчивал войну, служил на Ляодунском полуострове, хорошо знает людей и трудности, какие пришлось им пережить.
– Плохо у нас с жильем, – заметил Михаил Иванович. – Получилось так, что жилой фонд в авиагарнизонах занимают семьи, не имеющие никакого отношения к авиации. А летчики, штурманы, техники вынуждены снимать частные квартиры в деревнях. Попытки переселить людей пока не увенчались успехом. Обращение в округ тоже не помогло…
“Тут без вмешательства Родиона Яковлевича Малиновского не обойдется”, подумал я.
– Во время войны, – продолжал Шаповалов, – когда японцы часто провоцировали инциденты на границах, в гарнизонах размещали не только авиаторов, но и части других родов войск. Нередко пограничные авиагородки полностью занимали пехотинцы или артиллеристы, а летчиков переводили в тыловые районы. Аэродромы остались, жилой же фонд, сами понимаете, весь оказался занятым. А когда были переброшены войска с запада, положение с жильем еще более обострилось.
– А как дела с аэродромами, ангарами, мастерскими?
– Нечем хвастаться. Кое-где полосы размыло, дренажная система нарушилась. Ангары и мастерские тоже нуждаются в ремонте. Не лучше положение и на аэродромах в Дальнем…
Самолет приземлился в Сан-Шилипу. Ко мне подошел высокий полковник с обветренным лицом. Лохматые, сросшиеся брови, крупный волевой подбородок. Это В. И. Семенов, с которым мы работали еще в 1937 году в авиационном корпусе.
– Вот где довелось встретиться, Степан Акимович! – улыбаясь, сказал он после рапорта.
Здесь же, в Сан-Шилипу, я встретил З. П. Горшунова. Коренастый полковник с красным, как у индейца, лицом подошел ко мне и доложил:
– Командир десятого гвардейского Киевского Краснознаменного бомбардировочного полка гвардии полковник Горшунов!
– Где воевали?
– Под Ленинградом, товарищ генерал. А закончили свой боевой путь у Порт-Артура.
– Выходит, как в песне: “И на Тихом океане свой закончили поход”.
– Наши летчики теперь очень часто поют эту песню, – подтвердил Зиновий Павлович. – Каждый прошел немалый путь, прежде чем попал сюда, к берегам Желтого моря…
Затем Горшунов рассказал, как однажды гоминдановцы попытались обвинить авиаторов полка в провокации.
– Полигон находится на одном из островов Желтого моря, близ демаркационной линии. Как-то в штаб полка пришел запрос: кто бомбил по острову в Ляодунском заливе севернее установленной демаркационной линии? Накануне наш полк звеньями и одиночными самолетами вылетал на полигон. Там был очень опытный штурманский состав во главе с Василием Андреевичем Ильяшенко. За войну штурман полка совершил около трехсот вылетов, всегда привозил отличные подтверждения фотоконтроля, а тут якобы промахнулся по учебной цели. Я вызвал Ильяшенко, и мы полетели на полигон, чтобы с воздуха визуально обследовать весь район. Убедились, что ни одна бомба, сброшенная нашими экипажами, не разорвалась за пределами полигона. Для подтверждения сделали фотоснимки.
Что же оказалось на самом деле? Километрах в шести южнее полигона в этот день шли упорные бои между частями китайской Народно-освободительной армии и чанкайшистами. Чтобы оправдаться и дезориентировать свое командование, чанкайшистский генерал заявил, что “красным” китайцам помогли русские летчики, что они разбомбили его войска и бои на острове по этой причине закончились поражением гоминдановцев. На самом же деле части Народно-освободительной армии самостоятельно, без какой-либо помощи разгромили войска чанкайшистов…
Командир полка сообщил далее, что чаще всего приходится летать над морем, взаимодействовать с боевыми кораблями флота, бомбить по подвижным морским целям. Дело это не такое легкое, особенно если учесть, что экипажи раньше летали только над сушей. И в этом я убедился сам, когда побывал на одном из наших аэродромов.
В Приморье и на Сахалине очень своеобразные климатические условия. Почти на каждом аэродроме свой особый микроклимат. В прибрежной зоне много хлопот доставляют частые выносы на материк морского влажного воздуха, образующего завесы густого тумана.
Полковник Г. К. Платоненков рассказывал:
– В полку В. С. Логинова аэродром почти всегда открыт: никаких туманов. Там летчиков мучают только сильные ливни летом и обильные снегопады зимой. А вот у А. С. Куманичкина аэродром недалеко от моря. Ему особенно тяжело…
– В чем же дело?
– Очень обманчивая погода. То над аэродромом ни облачка, а то, буквально через несколько минут, густой туман. Бывает и так, что стена тумана километров на двадцать – тридцать не доходит до аэродрома и стоит целый день. Летать опасно: вот-вот нахлынет белая волна и окутает плотной пеленой самолеты на стоянках, спрячет все аэродромные сооружения, закроет взлетно-посадочную полосу. Беда, если к этому времени самолеты не успеют сесть.
– Как же Куманичкин выходит из положения? – спросил я.
Платоненков рассказал, что командир полка вынужден высылать к побережью, откуда идет вынос морского воздуха, специальный патрульный самолет. Дежурный летчик постоянно сообщает на стартово-командный пункт, как себя ведет стена надвигающегося тумана. Если она стоит на месте или уходит к морю, то полеты продолжаются. А если передняя кромка выноса начинает перемещаться по направлению к аэродрому, тут уже не зевай, быстрей сажай самолеты.
– А как вы боретесь со снежными заносами?
Ответил подполковник Г. С. Концевой, заместитель командира:
– Расчищаем снег день и ночь. Иногда самолеты заметает до штыря антенны. Приходится мобилизовывать на борьбу со снегопадом всех, кто может держать в руках лопату, в том числе и семьи военнослужащих…
Уже третьи сутки наш пароход разрезал форштевнем зеркальную гладь Тихого океана. Вместе с командующим Дальневосточным военным округом генерал-полковником Н. И. Крыловым, генералами П. А. Ротмистровым, П. А. Курочкиным, Г. Ф. Одинцовым мы направились в морское путешествие. На одном из островов сделали первую остановку. Здесь мы увидели оригинальное сооружение на одном из бывших японских аэродромов. Как стало известно, в зимнее время японцы не базировали свою авиацию на Курильских островах. С наступлением же теплых дней с Хоккайдо и других островов архипелага сюда перелетали авиачасти и проводили учебу. Надо сказать, что размеры аэродромов не внушали никакого доверия. К тому же взлет производился только в сторону моря, а заход на посадку – над водой. Нужно было обладать незаурядным летным мастерством, чтоб в таких условиях посадить самолет на узенькую ниточку деревянной взлетно-посадочной полосы.