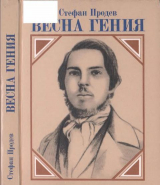
Текст книги "Весна гения: Опыт литературного портрета"
Автор книги: Стефан Продев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 15 страниц)
Речь идет о его чувстве товарищества, о его отношении к мужской дружбе…
Для молодого Фридриха товарищество – это не какое-то временное предпочтение или преходящий каприз. Не плод суеты или скуки. Для него дружба – самое глубокое и чистое чувство. Состояние полнейшего самоотречения, духовной близости и общения. Она не столько радость или счастье, сколько испытание, суровая обязанность, ответственность. Вот почему Фред не искал товарищества повсюду и не дарил дружбой любого, кто потянется к его сердцу. Он жалел людей, обойденных сильной дружбой, и презирал тех, которые сводят свои отношения с другом к обычной игре в любезность.
Еще с детства у Фреда был «первый друг», к которому он был привязан всем своим существом, ради которого готов был на все. Еще с детства он хранит рыцарское отношение к другу, воспитывая в себе благороднейшие черты большой дружбы. Мальчик просто обожает американских индейцев, этих смелых и прекрасных мужей, которые умеют не только достойно умирать, но и по-настоящему любить и дорожить дружбой. Его восхищала легенда об Ахилле и Патрокле (о, как жгучи слезы друга!), с великим наслаждением он перечитывает те сонеты Шекспира, которые воспевают преданность. Последние строки одного из них: «Ты видишь все, но близостью конца теснее наши связаны сердца» были долгие годы любимым двустишием Фреда. В то же время сын Фридриха-старшего ненавидит изменников и врагов товарищества, тех злых и мрачных людей, которые ради какой-то страсти или горсти злата готовы предать и убить великое чувство дружбы. Он просит деда ван Хаара не рассказывать зловещих историй о дантовом Альбериго и шекспировском Яго, пропустить страшные страницы о смерти македонца Клита и об ужасном предательстве Иуды. Он восхищен славным сказанием о Зигфриде до момента предательства, до того гнусного мгновения, когда герой гибнет от руки друга. Фред готов простить что угодно, но только не измену друга, не измену мужской чести, мужской дружбе. Здесь отчетливо проступает романтическое начало в характере Фреда, его глубоко эмоциональное отношение к мужской дружбе. Этот эмоциональный заряд лежит в основе всех его знакомств и связей, которые он установил в годы своей молодости. Еще задолго до встречи с Марксом Энгельс научился любить сердцем, жить для друга. До знакомства с Марксом еще далеко, но у Фридриха уже были свои «самые дорогие» друзья в лице Вурма или Фельдмана, Йонгхауса или Штрюккера, у него большая дружба с братьями Вильгельмом и Фридрихом Греберами, с этими двумя славными юношами, которых он называет не иначе как «мои дорогие друзья!». Судьба словно нарочно послала ему эту чудесную дружбу, чтобы подвергнуть серьезной проверке, чтобы подготовить к великой парижской встрече с Карлом Марксом – самой чистой и самой удивительной дружбе в истории человечества…
Вся молодость Фреда – апофеоз мужской дружбы. Вупперталь никогда не забудет этого стройного и элегантного юношу, который так хорошо умеет ценить и беречь сильное и прекрасное слово «друг». Каждый вуппертальский ученик считает за честь завоевать дружеское расположение Фридриха, его любовь и доверие, разговаривать с ним или вместе развлекаться. Вот почему возле Фреда всегда шумно, весело, оживленно, всегда есть молодежь, готовая спорить, шутить – поговорить о виршах того или иного поэта либо разделать под орех какого-нибудь незадачливого сочинителя. Вот почему Фред всегда в центре вуппертальской молодежи, окружен веселыми и умными товарищами, уважаем и любим, его ищут, предпочитают и ждут. Без него класс кажется пустым, а на улице его поджидают за каждым углом, чтобы слушать, идти вместе с ним. Не случайно один остряк назвал его «общепризнанным вожаком ученической Вупперталии», а другой пытался провозгласить «первым школьным императором Германии».
Каждый день в дом Энгельсов приходят толпы учеников, желающих видеть Фреда, поздравить его с тем или иным молодецким поступком, поговорить с ним. Они просят фрау Элизу позвать ее сына и стоят смущенные, даже подавленные величественной осанкой господина Энгельса-старшего, с любопытством рассматривающего их сквозь густой дым своей трубки и искренне удивленного такой популярностью наследника.
Обычно Фред звал гостей в столовую или во двор, где под старой липой стоял небольшой деревянный стол, сколоченный им самим. Он не приглашал их наверх, в свою комнату, так как в ней, по словам его сестры Марии, было много такого, что другие вряд ли поняли бы. В этот фаустовский кабинет имели доступ лишь те, которым были близки его стремления и волнения, его интимный мир. Молодежь знала это и не сердилась, когда он вел ее под липу, говоря, что «наверху не прибрано», или что «отец хочет отдохнуть». Им хорошо и во дворе, у деревянного столика, лишь бы Фред был в настроении, разговорчив, лишь бы дал волю своей фантазии и остроумию. Здесь, под старым деревом, молодые приятели Фридриха чувствовали себя как дома, не боялись, что кто-то за ними будет подсматривать или подслушивать их, что кто-то им помешает или спугнет. Рассевшись вокруг стола или растянувшись на траве, они разговаривали часами, счастливые своим уединением и тем, что могут делать то, что им приятно, что над их головами не свистнет розга и не появится молитвенник. В этом смысле место под липой было поистине свободной территорией вуппертальских подростков, маленьким, но славным Эльдорадо их юной и чистой дружбы. В пределах этой дворовой республики они отбрасывали от себя все, что их тяготило, что мешало им, они давали полную свободу своим мечтам и думам, своим неуемным натурам. Здесь юноши забывали, кто они, какими должны быть, и становились теми, кем хотели стать, кем стремились и могли быть. Именно здесь они особенно хорошо ощущали духовное богатство Фреда, разносторонность его талантов и обаяния, непосредственность его чувства юмора. Расположившись кружком, друзья спорили, шутили, переживая радостные, счастливые минуты. Да и как же иначе: их приятель Фред – такой знающий и остроумный, голова его полна столькими мыслями и выдумками, самыми невероятными взглядами и планами на будущее. Он всегда говорит с таким жаром, с такой неудержимой страстью, что его обычные суждения звучат как-то особенно, сильно, привлекательно. Даже тогда, когда он говорит о весьма скучных вещах – вуппертальской поэзии, например, он необыкновенно интересен. И единственный недостаток – легкое заикание – не уменьшает его большого обаяния, искрящейся красоты мыслей и рассуждений.
Фридрих никогда не заставлял друзей скучать, испытывать неловкость в ожидании его. Он гостеприимнейший хозяин, не жалеющий сил и времени, чтобы доставить им радость или удовольствие. Еще по пути к липе он смешит их, потешно имитируя утиную походку долговязого Эрмена, компаньона своего отца, или заставляет сгорать от любопытства, шепотом рассказывая о последнем донжуанском подвиге пастора Юргенса. И едва только юноши успевали расположиться под старым деревом, как оказывались завороженными Фредом, заинтригованными и возбужденными его остроумными каламбурами, готовыми потонуть в океане тем, которые он им предлагал. Один раз из этого океана всплывает тема «школа», другой раз – «любовь», третий – «литература», а затем (хотя и реже) – «революция». Понятно, ученики не педанты и частенько перескакивают с одной темы на другую, одновременно говорят и о домашних заданиях по французскому языку, и о веселых проделках вуппертальского Эроса, и о новых стихах Карла Бека, и о последних волнениях в Силезии. И конечно же получается пестрый разговор, богатый коктейль из фактов и оценок, который приводит компанию в состояние самого искреннего веселья, частых взрывов смеха и непрерывной импровизации. Затронув какой-либо вопрос, Фридрих пускался вместе со всеми в его обсуждение, или, говоря на школьном жаргоне, аппетитное обсасывание косточек.
Липа перед нами, и мы можем стать свидетелями одного из редких «пиршеств». Спрячемся за стволом и послушаем, понаблюдаем.
Ребята беседуют о литературе. Разговор достиг кульминационной точки, захватил всех. Один из юношей утверждает: «Прав-таки старый Арндт, когда жалуется на современный литературный стиль. Это не стиль, а какое-то безвкусное варево из картофеля, вина и сливок. Третьего дня я читал один отрывок Кюне. Разве это немецкий язык! Боже, какие бесплодные потуги родить изящную фразу…» Другой юноша весело подхватил: «Картофель с вином? Неплохо сказано…» Третий нетерпеливо перебил: «Помолчи, Бруно, вопрос серьезный!» Юноша, начавший разговор, продолжал: «…все: и Гейне, и Гуцков, и Кюне – несчастные жертвы современного стиля. Во имя формы они насилуют мысль. Сравните маститое искусство Лессинга и их акробатические трюки, после которых не можешь спокойно уснуть. Я придерживаюсь традиции. Одно из призваний литературы – успокаивать, поддерживать равновесие духа…» Компания оживилась. Задела категоричность, с которой все это было сказано. Тот, кого звали Бруно, вскочил с земли и развел руками: «Неужели литература не имеет права на развитие! Разве Лессинг – предел и мы должны остановиться на нем! Что же станет тогда с нами, с молодыми, которые имеют свои идеи, свои вкусы, свое право на суждение? Я думаю, что Отто очень консервативен и даже жесток в отношении будущего. Что ты скажешь, Фред, прав ли я?» Все обернулись к деревянному столику, на котором по-турецки сидел Фридрих, обхватив колени руками. Словно удивленный вопросом Бруно, Фред быстро вскинул голову и серьезно проговорил: «Прав, дружище! Лессинг лишь ступенька огромной лестницы, но не вся лестница. Думаю, что Отто погорячился, желая убедить нас в упадке современного стиля…» Глаза ребят блестят. Слышатся голоса: «Продолжай, Фред! Ты говоришь интересные вещи». Отто попытался что-то сказать, но Фред, прервав его, продолжил свою мысль: «Традиция – вещь прекрасная, если только она не мешает современным делам. Всякому времени присущ свой литературный стиль, и никому не дано низводить творчество к одному устаревшему рецепту. Представьте себе, что ныне мы станем писать в стиле Лессинга, или Глейма, или Хагедорна. Но тогда, дорогой мой Отто, мы должны вернуться к парикам, к танцам эпохи рококо и, что особенно неприятно, к бесчинствам немецких курфюрстов середины XVIII века. Иначе нельзя. Ведь стиль Лессинга и его современников – порождение конкретной действительности. Это своеобразная частица Семилетней войны и всего того времени, при котором один развратник, вроде могущественного Августа, мог покупать любовниц у их собственных мужей за пятьдесят тысяч талеров или выменивать на зáмки. Разве мы сейчас встречаемся с подобным? Разве Гейне и Гуцков состоят на службе при каком-нибудь королевском дворе и вынуждены носить дамские туфли наподобие Людовика или Иосифа австрийского? Конечно же нет. Наше время ушло далеко вперед, и мы не должны держать его в узде традиций. Любой стиль умирает вместе с эпохой, его породившей. Иначе мы и сейчас писали бы на манер Аристофана или Вергилия. Но не кажется ли вам, друзья, что ныне даже стиль Жана Поля уже немного устарел, уже не вполне отвечает нашим представлениям о современном литературном творчестве…»
Фред на мгновение остановился, соскочил со столика и встал среди друзей. Все смотрели на его открытое, вдохновенное лицо. В этот момент он был так похож на поэта, на спустившегося с облаков юного и могущественного бога, говорившего не только ярко, но и поистине прекрасно. Даже Отто, захваченный его словами, не смог возразить, чтобы защититься. Фред провел рукой по волосам и продолжал: «…я думаю, что современный стиль является отличным образцом стилистики вообще. Я его не только предпочитаю, но и люблю, стремлюсь овладеть им. Он вобрал в себя все достоинства литературного творчества предшественников: краткость, ясность, остроумие, чередование эпической плавности с блестящими образами и изящными взлетами мысли. Но больше всего мне нравится в нем то, что он дает возможность для проявления самых различных индивидуальностей. При нынешнем стиле никто не может преуспеть в подражательстве. Он требует от каждого писателя своеобразия и самоутверждения, стрельбы из собственного лука в свою дичь или в своего врага. Вооруженные им, перед нами выступают совсем независимо друг от друга такие писатели, как Кюне и Гуцков, Гейне и Винбарг, Бёрне и Бек. Кюне пишет уютно и живописно, Гуцков – удивительно точно, Гейне – ослепительно, Винбарг – лучисто, Бёрне – уничтожающе, особенно в „Менцеле-французоеде“, а Бек, хотя еще не вышел за рамки опытов, – колоритно и бурно. Разве появление столь различных почерков не достаточно для славы любого литературного стиля? Конечно же, говоря все это, я не хочу быть превратно понятым. Не хочу, чтобы Отто подумал, будто я пренебрегаю великими мастерами прошлого, колоссами, стоящими вне литературных бурь современности. Колоссы вечны, и я часто прихожу к их подножиям, чтобы подышать благодатным воздухом. Только перед вашим приходом я наслаждался гётевскими песнями, которые особенно прекрасны в сопровождении клавесина. Но, милые мои друзья, одно дело любить титанов, а другое – копировать их, быть прикованным к ним. Здесь я не согласен с нашим Отто. Можно любить Лессинга, но не должно подражать его манере писать. Время, в которое мы живем, нуждается в новом языке, в новом стиле, в новых идеях. Кто не может или не хочет понять этих простых истин, тот обязательно испытает горькие разочарования. Традиция – это опыт предшественников, а не их путь. Мы можем многому поучиться у традиций, но не должны ими руководствоваться. Ничего нет худого в том, что новые люди не повторяют старых путей. Лессинг велик, но он в прошлом. Гейне еще не величина, но у него все впереди. За ним будущее, и потому я за него. Я предпочитаю стиль, из которого он рождается. Старики жили достаточно, все имели, и оставим их в покое. Мы молоды, и нам более приличествует идти рука об руку с молодыми. С теми, которые еще не имеют ничего, но несут в себе все, или, во всяком случае, многое…»
Стоя за стволом старой липы, мы удивляемся, как смело и умно говорит Фред. Наэлектризованные пламенной речью, вуппертальские ученики, возбужденные и жестикулирующие, окружают своего приятеля, готовые задушить его в объятиях. Бруно всхлипнул от радости: «Фридрих, дорогой, почему не напишешь обо всем этом в „Телеграф“ Гуцкова? Успех обеспечен». Стоявший в стороне Отто убежденно заметил: «Не будь здесь Фреда, не миновать бы скандала…» Энгельс повернулся к Отто, сердечно обнял его и весело проговорил: «Что же тут страшного, дорогой мой Отто! Молодости вряд ли приличествует благоразумие. Скандал из-за дела намного достойнее пустого реверанса…» Эти слова Фреда были также приняты на «ура». Бруно опять торжествовал. Он кувыркнулся через голову и радостно воскликнул: «Эй, Отто, сдавайся!»
Постепенно компания утихомирилась. Последняя реплика Бруно незаметно повернула разговор в новом направлении. Вместо литературы была затронута другая, более свободная тема. Покусывая длинную соломинку, Фред проговорил сквозь зубы: «Вчера вечером на балу у Фридманов господин Круг не раскланялся с мадам Соварж, пришедшей на бал с двумя дочерьми. Все были потрясены, особенно хозяева дома. Отличившийся теолог заявил, что не может раскланиваться с дамой, которая не постеснялась курить, как мужчина, танцевать вальс и приглашать в свой дом сомнительных лиц…» Ошеломленная молодежь на мгновение замерла. Возможна ли такая грубая выходка? Да еще в доме Фридманов – цитадели вуппертальской аристократии! Все поражены. Один из юношей осторожно спросил: «А как ответила на обиду мадам Соварж?» Это долговязый Герман, по уши влюбленный в мадемуазель Ирен, младшую дочь мадам Соварж. «О, как истинная француженка! – Фред выплюнул соломинку и повысил голос. – Она держалась так, словно ничего не произошло. Закурила папиросу, попросила оркестр сыграть вальс и громко заявила господину Фридману, что никогда и нигде не чувствовала себя столь великолепно. Круг пришел в бешенство. Он попытался произнести одну из своих проповедей о падшей Марии-Магдалине, но мадам Соварж опередила его и рассказала гостям одну весьма пикантную историю из своих парижских приключений. Все от души смеялись, без колебаний согласившись, что в Париже живется куда веселее. Круг не выдержал и ушел в разгар бала. Это никому не испортило настроения. И конечно, не помешало мне вволю насытиться шоколадным тортом и задержаться в обществе мадемуазель Ирен и мадемуазель Жаннет…»
Под липой опять стало весело. По саду разносился смех. Теперь уже и Отто трясся от хохота. Он снял очки, чтобы они не упали на землю, и проговорил задыхаясь: «Ну и лукава же эта Соварж!» Посветлевший от радости, влюбленный Герман ткнул его в бок. «Ты не находишь, что крошка Ирен – сущий дьяволенок?» Неожиданно Бруно перестал смеяться и грустно посмотрел на Энгельса: «И все же торт прекраснее, не так ли, Фред?» Словно вспомнив о чем-то очень важном, Фридрих всплеснул руками: «Ой, какой же я разиня! Друзья, быстро в столовую! Сегодня мама решила нас удивить…» Все вскочили и шумно последовали за Фридрихом. Сюрпризы фрау Элизы всегда очаровательны. Высоко подняв цилиндр, Бруно вдохновенно продекламировал:
Все ваши споры и сравненья
Не стоят торта и варенья.
Дружеские встречи в комнате Фреда сильно отличаются от встреч во дворе. Если там, внизу, есть место для всех и можно говорить обо всем, то здесь, наверху, бывают только пятеро самых близких, самых доверенных, самых интересных собеседников. Обычно они приходят под вечер, целуют руку фрау Элизы, осведомляются о делах и здоровье господина Энгельса и скрываются в комнате с такой подчеркнутой серьезностью, которая заставляет насмешливую Марию удивляться и строить за их спинами комические гримасы. Это аккуратные и со вкусом одетые юноши из богатых вуппертальских семейств, с бледными одухотворенными лицами и хорошими манерами. Они знают, что значит войти в солидный дом, и потому никогда не бегут по лестнице, не повышают тона, не делают ничего такого, что могло бы нарушить установившийся порядок. Даже в комнате, оставшись только с Фредом, они не выходят за рамки приличий, остаются такими же учтивыми, изысканными, серьезными. Каждый из них имеет свое излюбленное место, которое и занимает. Поэтому Фридрих заранее подготавливает комнату так, чтобы всем было в ней удобно и приятно. Он знает: одно из мягких кресел нужно пододвинуть к окну. Там любимое место Петера Йонгхауса. Немного впереди, почти у самого стола, стул Фельдмана. Братья Греберы предпочитают взгорбившийся верх сундука, а Густав Вурм – левую сторону кровати у черной этажерки со склянками и покрытым лаком черепом. И только Фред не имеет постоянного места, потому что любит прохаживаться, быть ближе к тем, кто его слушает, когда он говорит. Чаще всего он ходит от стены к стене или стоит посреди комнаты, глубоко засунув руки в карманы халата и откинув назад голову. Это, разумеется, не мешает гостям спокойно оставаться на своих местах и до конца сохранять благовоспитанность. В отличие от ребят, собирающихся во дворе, они беседуют почти как взрослые – сдержанно и рассудительно, выказывая восхитительное уважение друг к другу, преисполненные уверенности в знании жизни и тех предметов, о которых ведут разговор. Их споры бывают спокойны и сдержанны, без излишних эпитетов и грубостей. Они напоминают скорее приятный и тихий разговор, где всегда есть место хорошей шутке. Это вовсе не значит, что здесь нет расхождений во мнениях, противоречий, конфликтов, не проявляются характеры и темперамент, что это усталые или скучные люди. Тут есть все то же, что и во дворе, но выглядит оно более совершенно, окрашено большей культурой и внутренним аристократизмом. Вот почему посетители комнаты – самые желанные гости Фреда, его первые друзья и собеседники, с которыми он любит пускаться в самые трудные и опасные путешествия по лабиринтам мысли. Молодой хозяин принимает их сердечно, его нисколько не раздражают ни привычки приятелей, ни их странности, ни стремление своим видом производить впечатление на окружающих и поведением внушать уважение. Его не раздражают даже различия в их взглядах и интересах, хотя они порождают частые споры с тем или другим из них. Так, например, братья Греберы – рьяные лютеране и начисто отрицают «Жизнь Иисуса» Давида Штрауса. Фельдман разделяет взгляды Шеллинга о государстве и не желает даже слышать о бунтарях из Берлина, которые требуют на страницах газет и в университетских аудиториях низвержения монархии. Йонгхаус проникся взглядами Руссо и считает, что только сближение с природой может спасти человечество от трагедий современного общественного устройства. А Вурм, милейший Густав Вурм весьма интересуется бюллетенями дюссельдорфской биржи, что делает его очень грустным или очень веселым, а иногда и немножко смешным. Фред терпит все эти различия, так как знает, что над ними господствует одно большое и чистое чувство, которое связывает юношей друг с другом, сближает и объединяет их. Это их общий интерес к литературе и искусству, к сложным проблемам эстетики, к прекрасному. Они исповедуют одного бога – Гегеля, у всех одна цель – творчество, духовное совершенствование. Ради этого бога, этой цели Фридрих готов простить им все, ибо, как любит говорить старый ван Хаар, стремление к прекрасному – самая прочная основа истинной дружбы…
Да, стремление к прекрасному – это как раз то, что влечет юношей в комнату Фреда, объединяет их среди горы книг, газет и фаустовских колб. Они идут сюда, переполненные своими рассуждениями и сомнениями, готовые раскрыть сердца друг другу, чтобы слиться в едином восторге или столкнуться в схватке умов. По какому-то неписаному закону каждая их встреча начинается с музыки. Заняв свои точно определенные места, они слушают, как Фред играет сочинения папаши Рамо или «своего» Баха, утопают в светлых мелодиях менуэтов и в бурных потоках фуг, наслаждаются вальсами, сонатами. И это не притворство, не ритуал, а подлинно поэтическое восприятие музыки, искренние порывы сердец, романтическое общение с прекрасным. В эти чудесные минуты музыки и молчания, закрытых очей и мягких теней комнату как бы покидает обыденность, она теряет свои точные очертания и превращается в подобие старинного храма, опустившегося на морское дно, в подобие коралловой пещеры, заполненной наядами и невиданными поющими сиренами. Юноши сидят зачарованные, как бы растворившиеся во мраке, рассеиваемом пламенем свечи, загипнотизированные магией тонов, звуков и вздохов клавесина, поэзией пальцев, бегающих по клавишам. О, это пленительнейшие минуты и часы, когда Фред становится истинным музыкантом, полностью слившимся с инструментом, с его нежностью и бурями. Он играет, забыв обо всем. Его сильное тело устремлено вперед, а на лице – прекрасный пламень вдохновения. В такой момент зачарованные гости просто немеют, восхищенные его волей, чувством, магией его рук. Они готовы слушать до изнеможения, жадно воспринимая все, что предлагает им Фред, мысленно возвеличивая его и называя не иначе как «маэстро»…
•
Но сколько бы ни продолжался концерт, он не займет весь вечер. Совсем неожиданно, на середине какой-нибудь сонаты или фуги, Фред кладет руки на колени, поворачивает голову к друзьям и говорит тихим, немного усталым голосом: «Что же это, господа, я увлекся, а вы молчите, не остановите меня». Словно пробудившись от долгого и прекрасного сна, господа смущенно улыбаются и искренне сожалеют, что Фред прервал игру, что на крышке клавесина защелкнут маленький золотой замок. Но делать нечего: наступает черед большому разговору – долгим странствованиям в мире поэзии, истории, изобразительных искусств. Фред встает, прохаживается по комнате, и разговор начинается незаметно, течет легко, будто каждая реплика заранее отрепетирована, будто все, о чем здесь говорится, изучено, обдумано, сверено. У каждого из друзей своя излюбленная тема. Поэтому направление разговора зависит от того, кто его начнет. Если первым заговорит Вурм, то речь непременно зайдет об Иммермане и Шамиссо, их поэмах и воспоминаниях, об успехах и срывах романтизма. Фред отлично знает это и потому, прежде чем Густав откроет рот, весело подзадорит: «Снова Платен позавидует своим старым коллегам…» Фельдман, наоборот, всегда старается обойти литературу и начать разговор о великих мастерах кисти. Он может часами говорить, например, о поздних офортах Рембрандта или о борзых Брюггера. Йонгхаус всегда под ручку с Гегелем, и поэтому он непременно начнет с какой-нибудь сильной личности – с Цезаря или Наполеона или с мудреных рассуждений об «абсолютном духе» и его проявлениях в истории. Оба Гребера по-своему также неисправимы – у них свой божок – «Немецкая народная библиотека». Они обязательно начнут с какой-нибудь этической проблемы или средневековой легенды вроде «Герцог Генрих Лев». Но независимо от предложенного начала разговор никогда не бывает нудным, скучным, не заводит приятелей в тупик. Любая из поднятых тем пробуждает множество мыслей, ставит самые разные этические и общественные вопросы, которые захватывают компанию, заставляя ее пытливо искать, волноваться, думать. Начатый разговор катится словно снежный ком. С ним в комнату врываются порывы ветра, вспышки зарниц, заставляя все вокруг звенеть и петь. Фред бесконечно любит эти мгновения взлета разума, когда каждый из гостей раскрывает свое сердце, когда глаза горят сильней, а в голосах слышится медь амбиций, чувствуется сила атакующей мысли. В такие минуты он незаметно отходит в сторонку и, пользуясь этим прекрасным мгновением, быстро набрасывает портреты увлеченных ребят. Несколько торопливых штрихов – и на бумаге запечатлены орлиный нос Йонгхауса, полные щеки Вурма, тонкие шеи Греберов, прозрачные уши Фельдмана. Еще несколько штрихов – и увековечены их улыбки, позы, аккуратные прически. Это моментальные, непретенциозные рисунки, веселый экспромт карандаша, который успевает что-то сказать о каждом. Это добрый и чистый смех Фридриха, сумевшего, не выходя за строгие рамки разговора, принести маленькую радость, вызвать веселую улыбку, ни для кого не обернувшуюся обидой или раздражением. Гости давно знают об этой слабости Фреда и потому делают вид, что не обращают на него внимания. Но всякий раз они берут эти листки из рук хозяина и вместе с ним смеются над остроумными шаржами. Все это успокаивает нервы, делает разговор еще более приятным, легким, сердечным. Обычно Фельдман забирает и прячет некоторые из этих быстро набросанных рисунков, потому что про себя он давно решил, что из Фреда выйдет большой художник. Не забывайте же, предки Фридриха вышли и из Голландии…
•
…На этот раз Фред не долго музицировал. Он прервал игру где-то посередине знаменитой бетховенской сонаты ре минор, после того как Йонгхаус вскочил со стула и тихо попросил:
– Довольно, Фридрих, прошу тебя. Это может свести меня с ума…
Фред медленно опустил крышку клавесина. Все повернулись к Петеру.
– В чем дело, дружище? – спросил Вильгельм Гребер.
Йонгхаус вновь опустился на стул и быстро, не переводя дыхания, проговорил:
– Две недели назад я был с отцом в Бонне и слушал там симфонию Бетховена. Дирижировал господин Феликс Мендельсон, друг нашего Шумана. После того не могу слушать никакой другой музыки. В ушах все время звучат барабаны, трубы, флейты, кларнеты, непрерывно что-то рушится и кто-то плачет, пытается схватить меня, вознести, зажечь…
Фридрих, тихо стоявший у клавесина, проговорил:
– Почитай за счастье, Петер, что ты услышал оркестр, который с таким блеском исполняет Бетховена. Наша филистерская публика все еще отворачивается от него. Она не может простить ему его симпатий к Бруту и восхищений Конвентом…
Вурм обратился к Фреду:
– Слушал ли ты эту симфонию, маэстро?
– Увы, Густав, нет… Но мне говорил господин Пютман, что это нечто грандиозное…
(Фред услышит симфонию Бетховена в том же исполнении лишь три или четыре года спустя, в 1841 году, в Берлине. Тогда он вспомнит об этом разговоре с друзьями и напишет своей сестре Марии: «Вот это симфония была вчера вечером! Если ты не знаешь этой великолепной вещи, то ты в своей жизни вообще еще ничего не слышала. Эта полная отчаяния скорбь в первой части, эта элегическая грусть, эта нежная жалоба любви в адажио и эта мощная юная радость свободы, выраженная звучанием тромбонов, в третьей и четвертой частях!»)
•
В разговор вступил Фельдман.
– Всегда, когда я слушаю Бетховена, – говорит он, – я думаю о Рембрандте. Для того и другого искусство – тезис и антитезис, непрерывное противопоставление двух начал – черного и белого.
– Может быть, ты, Фельдман, по-своему и прав, – вмешался Фридрих Гребер, – но я думаю, что Бетховена можно сравнить только с Гёте. В отличие от французов и итальянцев, мы, немцы, не имеем двойников среди других наций…
Замечание старшего Гребера оживило компанию. Фред быстро пересек комнату и стал у стола, за спиной Фельдмана.
– Думаю, что ошибаешься, дорогой Фриц, – живо сказал он. – Бетховен более цельный, чем Гёте. Он знает, что ищет в жизни и искусстве, и всегда ищет целеустремленно, без поклонов и реверансов. В отличие от него, старец из Веймара прекрасно владеет тайнами этикета. Он искусный дипломат, для которого не существует ни совершенного человека, ни подлинного борца. Вы знаете, как я люблю Гёте, и все же я не воспринимаю его безоговорочно, не преклоняюсь перед каждой его строкой. Всегда, когда заучиваю «Фауста» или распеваю песни поэта, я чувствую, что он колоссально велик. Иной же раз, когда вспомню о его прогулках в Теплице или листаю его доклады как тайного советника, с ужасом замечаю, что он чрезвычайно мелкий и осторожный, заурядный и всем довольный мещанин. Поэтому я не хочу сравнивать с ним Бетховена. Даже в Теплице Бетховен держал голову прямо. А вот то, что между Рембрандтом и Бетховеном есть много общего, тут я готов согласиться с Фельдманом. Не только в творчестве, но и в жизни обоих титанов. Судьба их была бесконечно горькой…
– Слышишь ли, Фриц? – воскликнул радостно Фельдман. – Ты должен извиниться перед великим голландцем…
Но прежде чем Гребер открыл рот, поднялся Вурм и быстро сказал:
– Не слишком ли ты суров к Гёте, Фред? Все же он был аристократом и поэтому не мог жить, как Бетховен, вне условностей этикета. Ты ведь знаешь, что позволено в салоне, не позволено на улице…
Фред снова пересек комнату. Он явно возбужден.
– В искусстве нет аристократов и плебеев, дорогой друг. Здесь все равны. Да разве Бетховен не мог стать главным капельмейстером при австрийском дворе? Разве он не мог прибавить к своей фамилии наше надменное «фон» или глуповатое французское «де»? Конечно же мог, Вурм, но он не находил нужным кокетничать с властями предержащими, потому что знал свою силу. Если Гёте кланялся веймарскому герцогу, Бетховен повернулся спиной к Наполеону и перестал дирижировать, когда в зал вошел Меттерних. Думаю, что это великолепно характеризует его. Насколько величественнее был бы наш великий Гёте, если бы он мог поступать так же…








