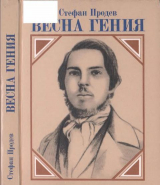
Текст книги "Весна гения: Опыт литературного портрета"
Автор книги: Стефан Продев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 15 страниц)
Фред знает: ничто так глубоко и болезненно не задевает конторы, как его ироническое обращение к клиентам. И он не упускает случая подтрунить над этими толстыми, потными господами, когда им приходится скреплять договоры и чеки своими подписями, которые они выводят крупными ученическими каракулями. Если Бауэр и Гутмайер рассыпаются перед ними в любезностях (как повелевают четвертая и пятая заповеди), то Фридрих принимает их сдержанно и предлагает им один из тех на первый взгляд невинных разговоров, который заставляет толстосумов таращить глаза и напрягать память в поисках необходимых слов и фраз. Прежде чем показать им образцы новых товаров, он как бы ненароком поинтересуется их мнением о новых работах господина Бека или господина Мендельсона-Бартольди и тем, что они думают о растущей популярности «Молодой Германии» и последних достижениях немецкой Мельпомены. Одни из них (те, которые выглядят поумнее) отвечают уклончиво, общими, ничего не значащими фразами, пересыпая их пустыми восклицаниями, вроде «О!», «Ах!», и спешат высказать сожаление, что не могут продолжить столь приятный разговор, так как их ждут совершенно неотложные дела. «Вы ведь знаете, господин Энгельс, – оправдываются они, – мы, торговцы, не принадлежим сами себе…» Другие же (которые кажутся поглупее), тупо уставившись в потолок, нечленораздельно бубнят о том, что, дескать, новые изделия Бека и Мендельсона-Бартольди не в состоянии конкурировать с прославленной фирмой «Эрмен и Энгельс», что фирма «Молодая Германия» им еще не известна, а эта самая, как он изволил выразиться, «Мельпомена» пока ничего достойного рынку не предложила. «Можете не беспокоиться, господин Энгельс, – уверяют эти, – ваша пряжа превосходна…» Каждый из таких «невинных» разговоров доставляет Фреду большое удовольствие и заставляет контору сжиматься от страха и собственного бессилия. Иногда молодой чиновник увлекается и заставляет какого-нибудь недалекого клиента с радостью «вспомнить» о своей «давнишней» встрече с господами Гомером или Донателло из Нижней Саксонии… О! Это уж слишком, и контора шипит на ухо юноше: «Запрещаю вам так бессовестно издеваться над моими клиентами!» Фред победоносно улыбается и лукаво отвечает: «Как видите, мадам, они не страдают от моих шуток. Они даже не понимают их. Кроме того, вы недооцениваете их умственные способности. Согласно „тарифу“ Готлиба Рабенера, это люди, обладающие „большим“, „проницательным“ и даже „английским“ умом. Разве это обстоятельство не подымает их в ваших глазах и не успокаивает вас?» В ответ контора угрожающе рычит и направляет господину шефу рапорт Гутмайера – Бауэра.
Фридрих-старший опускает голову и глубоко задумывается. Что стряслось с его сыном? Почему он так по-мальчишески, непочтительно и вызывающе ведет себя? Неужели открывающаяся перед ним карьера не удовлетворяет и не привлекает его? Разве большая игра с деньгами не разжигает его сердце, не доставляет пищи его фантазии? Встревоженный отец зовет сына: «Что-то не так, Фред, а? Что-то не нравится тебе, огорчает, заставляет сопротивляться…» Положив руку на сердце, сын говорит: «Вы знаете, отец, что я не хочу быть торговцем. Меня привлекают совсем другие, более возвышенные и красивые дела». «Но представь себе, дитя мое, – возражает отец, – придет день, когда ты станешь во главе фирмы. С твоим умом и энергией ты сможешь совершать чудеса…» Фред скептически улыбается: «Может быть, кто-то из моих братьев и рожден для этого, отец. У меня иной жребий. Я хочу творить, нести людям новые идеи, новые мечты…» Разговор продолжается долго и безрезультатно. Отец и сын расстаются огорченными.
«И все-таки я его поставлю на колени!» – думала контора, слышавшая разговор отца с наследником. И война, еще более яростная и ожесточенная, продолжается с новой силой. Фридрих еще молод, очень молод и потому верит, что война скоро закончится. Он не предполагает, что она может продолжаться годы, может занять всю его жизнь. Вот почему с неистовой яростью он бросается в бой, надеясь на победу. Но, увы, победа оказывается далекой, невероятно далекой, и пятьдесят лет спустя, уже постаревший, Фридрих вынужден будет признать: «Мой „египетский плен“ продолжается!»
Совершенно неожиданно «мадам Тю-тю» оказывается весьма сильным и бескомпромиссным противником, перед которым церковь и школа могут почтительно снять шляпы…
* * *
Чиновничья жизнь молодого Энгельса была бы совсем безрадостна, если бы в нее не вошел один умный и симпатичный господин, который, хотя десятью годами старше нашего героя, умеет мыслить и чувствовать словно юноша – вдохновенно и красиво. Этот господин также работает в торговой конторе, также ненавидит навязанную ему профессию и также пишет стихи. Но в отличие от своего младшего коллеги, он уже имеет громкое литературное имя, издает поэтические сборники и печатается в крупнейших рейнских ежегодниках. Это человек с живой и энергичной натурой, свободно разбирающийся в литературных и политических вопросах. Фреду нравится его открытое, приветливое лицо, обрамленное вьющейся голландской бородой, он с удовольствием слушает его бархатный голос, который всегда привносит в разговор нотку уважения и доверия. Фред с любопытством читает его произведения, следит за их достоинствами и слабостями, спорит о них. Юноше не нравятся многие его экзотически-романтические стихи, перегруженные африканскими пейзажами, бедуинами и львами, тем не менее он уважает милейшего господина, его славу и видит в нем несомненный талант художника, который уже показал свою силу. Господин вошел в жизнь Фреда вполне официально, как служащий соседней конторы, зашедший справиться о каком-то незначительном деле. Вначале он поговорил с Бауэром, затем с Гутмайером и наконец подал руку новому коллеге и с некоторым смущением скороговоркой проговорил:
– Приятно познакомиться, Фердинанд Фрейлиграт!
Никто в конторе не предполагал, что из этого короткого рукопожатия родится большая и сердечная дружба. Пока два будущих друга обмениваются первыми любезными словами, Бауэр глазеет в окно, а Гутмайер выдавливает один из многочисленных прыщиков на своем носу. Даже Фридл дремлет и не считает нужным приоткрыть серый глаз, чтобы взглянуть на эту скромную, но великую встречу. Как всегда, контора равнодушна к поступи истории…
Уже на следующий день Фред и Фрейлиграт вместе вышли с работы и провели поистине незабываемый зимний вечер. Рука об руку они медленно ходили по тихим, припорошенным снегом барменским улицам, наслаждаясь сердечной и приятной беседой. Еще в начале прогулки оба решили перейти на «ты» и с радостью обнаружили, что у них много общих интересов и мыслей, что оба любят и ненавидят одно и то же. Фридрих взволнован резким отношением Фердинанда к вуппертальской действительности, а Фрейлиграт – таким же отношением Энгельса к конторе и чиновничьей жизни. Фердинанд восхищен широкими литературными знаниями юноши, а Фред – обширными литературными планами своего коллеги. Снегу прибавляется, идти становится трудней, но приятели не расстаются, а, держась за руки, продолжают шагать, захваченные горячим и искренним чувством, удивленные схожестью взглядов. Фердинанд с увлечением рассказывает о своих встречах с Гейне и Бёрне, декламирует стихи Гюго, критикует Бека, осуждает гнусные дела прусской цензуры. Энгельс в свою очередь делится мечтами о будущем рейнской литературы, которая, по его мнению, призвана повести германский дух по новым, неведомым еще эстетическим и гражданским путям. Разговор касается многих тем и наконец постепенно сгущается вокруг нашумевшего в последнее время вопроса об экзотическом начале в новой немецкой лирике. Здесь оба придерживаются различных точек зрения и незаметно для себя переходят к корректному, но горячему спору.
Первым начал Фридрих, который сперва замедлил шаги, а вскоре и вовсе остановился под уличным фонарем. «По-моему, дорогой Фрейлиграт, – говорил он, – этот массовый „арабизм“, „отуречивание“ нашей поэзии происходит из-за соответствующих тенденций в нашей экономической жизни. Ныне германские фирмы поддерживают более оживленные связи с Алжиром, Египтом и Турцией, чем с Францией, Англией или Италией. Восток изголодался по нашим товарам, и мы поспешили повязать чалму, ревем, как львы, рисуем золотые ятаганы и пальмы. Случилось так, что немецкая поэзия оказала неоценимую услугу немецким промышленникам и торговцам, наводнившим Оттоманскую империю золингеновскими бритвами и ножницами, а Германию – кальянами, восточными туфлями и экзотическими историями. Немецкому читателю ничего другого не оставалось, как набить свою трубку гашишем, сесть по-турецки и повторять слова Карла Бека: „Я – дикий, неукротимый султан…“ А какие же мы „султаны“, когда на наших бородах звенят ледяные сосульки, а в руках вместо кривой сабли блестит лакированная тросточка!» Фердинанд тихо засмеялся и тут же заметил: «Сравнение неплохое, Фридрих, но, кажется, немножко преувеличенное. Восток всегда привлекал литературу, и она всегда находила сюжеты в его мудрости и мистике. Еще Вольтер в своем „Кандиде“ показал нам, что Европа не должна оглядываться только на Запад, что под шатрами пальм и у арабских волшебников также есть много прекрасного, достойного того, чтобы быть воспетым. Байрон не побоялся отправить своего Конрада, корсара, в объятия Гюльнар, а наш безвременно почивший Вильгельм[25]25
Вильгельм Гауф.
[Закрыть] обрел славу созданием поэтических сказок о багдадском халифе и маленьком Муке. Как видишь, восточная экзотика давно завоевала себе место в серьезной литературе, и мы не должны искусственно изгонять ее оттуда…» Энгельс нетерпеливо махнул рукой: «Я не вообще против экзотики, милый Фердинанд, но я не в силах непрестанно кутаться в белоснежные простыни и вязнуть в песках, что нам то и дело предлагается на страницах новых поэтических сборников. Кажется, что многие из наших поэтов разучились мыслить по-немецки и головы их забиты змеями и скорпионами, турецкими присловьями и арабскими сентенциями. Это нередко встречаешь и в твоих стихах, дорогой друг. Ты так часто тратишь вдохновение на раскаленные пески пустыни, что опасаюсь, как бы преждевременно не иссушил его. Я высоко ценю твой талант и просто страдаю, когда вижу, как иногда попусту растрачиваешь его. Живешь в Вуппертале, служишь в торговой конторе, в наших домах пьешь кофе, а пытаешься при этом выглядеть грозным, разыгрывать „истории со львами“, мечешь отравленные стрелы в людей и египетских верблюдов. Разве здесь, рядом с собой, ты не находишь „страшных“ тем, которые были бы достойны силы и гнева твоего пера! Неужели наш пиетист или, как ты их называешь, „зеленый дворянин“ не страшнее твоих препарированных львов и опереточных шейхов! Подумай, Фердинанд, и ты увидишь, что…» Фрейлиграт не дал Фреду договорить. Он поднял руку и ладонью прикрыл рот юноши. «Хватит, Фред, хватит, дорогой! – В голосе Фрейлиграта послышалась боль. – Ты еще очень молод, чтобы понять мое положение. Должен признаться тебе, что я обратился к экзотике не только по эстетическим соображениям. Со мной дело обстоит несколько иначе, чем с Беком или Дуллером, например. Именно потому, что я живу здесь, в этом муравейнике благочестивых и верноподданных филистеров, мне приходится обращаться к другим темам, чтобы не быть изгнанным из долины Рейна. Даже теперь, когда я прикрываю свои мысли турецкими тюрбанами и львиными шкурами, мне нередко приходится представать перед инспектором Францем и присутствовать при их обнажении. Мы только что говорили о прусской цензуре. Это страшное учреждение следит за каждым моим словом, готовое предать суду и заковать мой язык. Вот почему я не могу говорить и писать свободно, как Гёте или тот же Уланд. Вот почему я прибегаю к аллегориям и посредством их пытаюсь донести до общества смелые идеи. Каким бы неправдоподобным это ни казалось на первый взгляд, но смею заметить, что моя поэзия „львов и пустынь“ в сущности своей обличительная поэзия. Она как раз направлена против тех, о ком ты говоришь. Когда я пишу об ужасах пустыни, я имею в виду печали нашей долины, а когда заставляю моих львов рычать, я хочу припугнуть ее господ…» Фрейлиграт говорил долго, взволнованно и искренне. Наклонив голову, Энгельс слушал его с интересом и пониманием. «Извини, я не хотел тебя обидеть, – сказал он тепло. – Может быть, в моих словах и было что-то слишком резкое и неприятное. Будем надеяться, что времена изменятся, и тогда ты создашь произведения, вполне достойные нашего нового века». Фрейлиграт согласно кивнул головой, и прогулка по заснеженному Вупперталю продолжалась. В головах обоих барменских чиновников было столько огня, что ночь и холод не в состоянии были погасить его и разлучить их. И только когда городские куранты пробили двенадцать ударов, они удивленно переглянулись и подали друг другу руки. «До завтра, Фред!» – сказал Фрейлиграт. «До завтра, Фердинанд!» – ответил Энгельс. Сердечно расставшись, приятели уходили с роем мыслей, радостных впечатлений и переживаний, глубоким уважением друг к другу. На следующий день Фрейлиграт говорил жене: «Никогда еще, милая Ида, не встречал такого умного и искреннего молодого человека!», а Фред радостно делился с фрау Элизой: «Наконец и в Вуппертале нашелся талант, достойный уважения!»
За короткое время дружба между поэтом и Фридрихом превратилась в подлинное творческое товарищество, в искренний союз мыслей и идей, больших поэтических переживаний. Она помогла обоим сравнительно легко справиться с деспотизмом конторы, возвыситься над ее законами и предрассудками. Благодаря ей Фред вошел в окружение Фрейлиграта, а Фердинанд – в компанию друзей Энгельса. Благодаря ей юноша сблизился с такими умными и энергичными людьми, как учитель Генрих Кёстер и издатель Лангевише, публицист господин Пютман и коллеги Нейбург и Штрюккер. А Фрейлиграт подружился с милыми братьями Греберами, с Вурмом, Плюмахером и Фельдманом. В продолжение многих месяцев оба приятеля встречаются почти каждый вечер, всякий раз испытывая тихую радость и светлую гордость за чувства, которые их связывают. Они собираются либо в доме Фердинанда, где симпатичная фрау Ида неизменно угощает их традиционным липовым чаем и брусничным вареньем, то в редакции «Барменской газеты», где der große Bär[26]26
Большой медведь (нем.).
[Закрыть] (так называют господина Пютмана) вдохновенно читает им свои радикальные стихи, то в конторе Лангевише, где Нейбург и Штрюккер занимают их своими рассуждениями о современной драме. Фред обожает эти встречи, где каждый говорит то, что думает, и где можно услышать подлинно лирические художественные отрывки и самые язвительные политические замечания. Нередко эти встречи превращаются в маленькие праздники искусств, главными героями которых выступают Ида, Фред, Лангевише и Штрюккер. У госпожи Фрейлиграт чудесный голос, и она великолепно исполняет любовные песни Шумана, особенно когда ей проникновенно и с чувством аккомпанирует Фридрих. Лангевише мастерски владеет флейтой, а Штрюккер отлично читает монологи Гамлета и Фиеско. Иногда в «программе» участвует и Большой медведь, который неожиданно попросит тишины и своим басом негромко пропоет сентиментальный романс Вебера «На берегу, где миндаль в цвету благоухает…». Разумеется, эти домашние фестивали музыки и поэзии совсем не губили творческой сущности компании, которая поддерживалась главным образом обменом художественных идей, живыми и углубленными эстетическими раздумьями. Будучи самым молодым, Фред все же в центре внимания этого общества, его здесь все любят и уважают, всегда с интересом слушают. Никого не задевает его горячее участие в спорах, напротив, все ожидают компетентного суждения молодого человека по тому или иному вопросу. Обычно просит его об этом нетерпеливый Кёстер, который шумно хлопает в ладоши и громко говорит: «Тише, господа! Послушаем, что скажет по этому поводу дружище Энгельс…»
Фред застенчиво улыбается – ведь здесь присутствуют более зрелые господа, чем он, – но начинает говорить и, увлекшись, забывает различие в возрасте, излагает свои суждения столь же учтиво, сколь и недвусмысленно. «У меня действительно собственная точка зрения на сей счет, – говорит он. – И прошу извинить меня, господа, если мои высказывания будут хотя и не очень резкими, но совершенно категоричными…» После такого краткого предисловия компания затихает, охваченная любопытством. «Здесь, – продолжает Фридрих, – жарко заспорили о проблемах вуппертальской литературы. Господин Пютман отстаивал тезис, что эта литература имеет большое будущее, даже назвал ее „прекраснейшим цветком в рейнском венке“. При этом Лангевише многозначительно молчал. Штрюккер и Нейбург отпустили пару сердитых колкостей. А Кёстер, в отличие от них, считает, что истина где-то посредине – между „большим будущим“ и „сердитыми колкостями“. Только Фердинанд остался вне спора, он стал в позу виновного, который не имеет права обсуждать собственное дело. Кто же все-таки прав в этом горячем споре? Какое мнение следует поддержать, как самое справедливое? Если спросите меня, я ближе к „перцу“ Штрюккера и Нейбурга, нежели к „цветам“ Большого медведя. Должен откровенно признаться, господа, что я очень невысокого мнения о вуппертальской литературе. Подумайте только, кто занимается у нас художественным словом? Если не считать присутствующих в этой комнате, большинство среди вуппертальских поэтов – пасторы, богословы и отшельники. Это Карл Август Дёринг, Круг, Иоганн Поль, Монтанус Эремита и, если хотите, даже его превосходительство Круммахер. Что пишут эти доморощенные гении, зачатые от ангельского крыла и облаченные в черные мантии сатаны? Духовные песнопения и, как они любят говорить, „белые стихи“. Вспомните: „О, странница, обратись овечкой, врата рая тесны, – склони главу, молись, чтобы стать овечкой“. Это один из типичных шедевров нашей поэтичной долины. Разве подобное может стать цветком в рейнском венке! По-моему, в Вуппертале есть один истинный поэт, это наш друг Фрейлиграт. Если когда-нибудь мне доведется написать о нем, я его сравню с моряком, потерпевшим кораблекрушение и очутившимся среди песчаных дюн вуппертальской пустыни. Да, господа, только Фердинанд может спасти честь нашей убогой литературы. Думаю, излишне разбирать его интересную поэзию после обстоятельных статей Дингельштедта и Карьёра в „Литературном ежегоднике“ и в „Ежегоднике научной критики“. Единственное, что хотелось бы еще раз пожелать ему, так это не сажать больше своих деревьев на чужой земле. Его превосходный „Принц Евгений“ обязывает автора как можно чаще вспоминать, что он все-таки немец с Рейна…»
После подобных высказываний Фреда споры разгораются с новой силой – господин Пютман развязывает галстук, а господин Лангевише осушает кувшин воды. Первый настаивает, что, когда речь идет о вуппертальской поэзии, нельзя пренебрегать таким значительным талантом, как Фридрих Людвиг Вюльфинг, который, несмотря на свою слабость к прекрасному полу, знает, как «делать» стихи, а второй декламирует целые главы из своей дидактической трагедии «Вечный жид», чтобы доказать, что Вупперталь уже создал «кое-что серьезное и достойное внимания». Вскочив со стула, Кёстер заявляет, что мнение господина Энгельса, хотя оно весьма субъективно, все же представляет интерес для каждого вуппертальского литератора, желающего найти кратчайший путь к истине, а Нейбург и Штрюккер скромно замечают, что дружище Фред очень хорошо выразил их собственные мысли. В конце спора вмешивается и Фрейлиграт, который, хотя и покраснел от похвалы Фридриха, все же утверждает, что время – лучший судья произведений литературы. И тогда в спор встревает фрау Ида, которая без лишних церемоний целует Фреда в щеку и громко сообщает: «Этот мальчик, милейшие друзья, мне очень нравится!» Обычно эти смелые слова кладут конец разногласиям, и мужчины с удовольствием принимаются за горячий липовый чай. Но случается, что эти же слова подливают масла в огонь, потому что, как заметил Фред, к гостеприимной хозяйке неравнодушны все…
Дружба молодого Энгельса с Фрейлигратом и его компанией ввела юношу в гущу вуппертальской литературной борьбы, позволила ему непосредственно наблюдать развитие местных поэтических талантов. Она воздвигла между ним и конторой невидимую, но крепкую стену, которая отгородила его от убийственного однообразия чиновничьей работы, позволила ему сохранить свободу и независимость духа. Конечно же это очень злило контору, и она прилагала все усилия, чтобы оторвать Фреда от Фердинанда. Первоначальное ее безразличие сменилось грубой раздражительностью и подозрительностью. Эге-е-е, значит, сын шефа пытается водить ее за нос! Так-так. И Бауэр, и Гутмайер, словно гончие, навострили уши. Проходит неделя, и Фридрих-отец получает подробный донос об опасных связях своего сына с «коллегой Фрейлигратом», который, как это известно господину, имеет весьма свободные взгляды на некоторые стороны общественной жизни. Фабрикант не на шутку встревожен и спешит предотвратить катастрофу. Дымя трубкой, он направляется к Фреду и требует объяснений о его дружбе с этим, как его там, Фрейлигратом. Юноша возмущен грубым вмешательством отца в его личную жизнь и резко отвечает, что господин Фердинанд не какой-то вуппертальский подонок, о котором можно говорить с презрением. «Не ваши машины, отец, – бросает Фридрих, – а стихи Фрейлиграта составляют истинную славу Вупперталя, и потому вы должны с большим уважением относиться к этому человеку!» Фабрикант понимает, что спорить бесполезно, и быстро отсекает: «Желал бы почитать стихи твоего гения, мой мальчик, а тогда вновь вернуться к нашему разговору». Фред сияет от радости, убежденный, что отцу понравятся стихи Фердинанда. Гутмайер и Бауэр многозначительно склоняют головы над своими столами. И на сей раз конторе приходится делать шаг назад…
Возможно, некоторые читатели будут озадачены столь положительным отношением Фридриха Энгельса к поэту и человеку Фрейлиграту. Может быть, они вспомнят его статью «Ретроградные знамения времени», написанную в 1840 году, и его переписку с Марксом, женой Маркса и с Вейдемейером, в которых Фред критикует и разоблачает мелкобуржуазные уклоны Фердинанда, гневно называя его то «жирным филистером Фрейлигратом», то «безвольным ослом» Фрейлигратом. Может быть, они вспомнят его письмо к Женни Маркс от 22 декабря 1859 года, в котором есть слова: «На всю фрейлигратовщину я форменным образом зол…» Мы спешим напомнить этим читателям, что действие нашего рассказа развивается двадцатью годами раньше, в те далекие годы молодости, когда между Фридрихом и Фердинандом не было политических разногласий, когда их сближало высокое искусство, и только оно. Тогда Фрейлиграту было всего лишь двадцать восемь лет, а Фреду едва исполнилось восемнадцать; в то время оба они были только поэтами, любившими друг друга и влиявшими друг на друга. Мы просим читателей вспомнить известное стихотворение Энгельса «Бедуины», написанное всецело под влиянием Фердинанда, несмотря на отрицательное отношение Фреда к «поэзии со львами», а также достаточно известные стихи Фрейлиграта:
Пески уносит ветер, и вянет пальмы цвет, –
В объятья родины бросается поэт…
рожденные прямо из мысли Энгельса, что поэт не может создать ничего значительного, пока он не сроднится с настоящей немецкой поэзией. Бурные годы взаимных обвинений и обидных эпитетов еще далеко впереди, и поэтому в нашем повествовании Фред и Фердинанд по-настоящему хорошие друзья, питающие уважение и доверие друг к другу. Молодость всегда чиста и великодушна. Среди саженцев не живут дикие звери, а в цветах не бушуют метели…
«Мадам Тю-тю» отлично понимает это и пока загнала свою свору в клетки. Она терпелива и подождет. Пусть саженцы станут деревьями…
* * *
И все-таки контора совершила одно полезное дело. Она ввела Фреда в общество. Это произошло совершенно неожиданно для нее, без всякого старания с чьей бы то ни было стороны. Однажды утром она сказала молодому служащему: «Сегодня вечером торговец Якоб Зигрист из Амстердама устраивает в городском доме прием. Вы будете представлять там нашу фирму. Черный фрак обязателен!» Фридрих удивленно поднял голову. «Возлагаются ли на меня какие-то особые надежды?» – спросил он. «Нужно своей обходительностью, – строго ответила контора, – произвести хорошее впечатление. Особенно на этого господина Зигриста, с которым нам предстоит заключить сделку…» Юноша усмехнулся с чуть заметной иронией. Значит, сегодня вечером на светском рауте его подвергнут всестороннему осмотру и проверке. Ничего не скажешь, занятное дельце предстоит. И, глядя конторе прямо в глаза, Фред проговорил:
– Благодарю, мадам! Постараюсь!
После обеда Фридрих не пошел на работу, чтобы успеть подготовиться к приему. Он помылся, тщательно причесался, привел в порядок ногти. Одеваться ему помогала фрау Элиза, стараясь не помять накрахмаленной манишки и черного фрака, сшитого несколько месяцев назад в Манчестере по последнему слову английской моды. Внимательно оглядев себя в зеркало, молодой господин натянул белые перчатки, сунул под мышку тросточку и отправился в столовую, чтобы представиться отцу. Фабрикант быстро и внимательно осмотрел его с ног до головы еще когда он, сопровождаемый матерью и сестрой, спускался по лестнице и подумал, что это самый красивый из Энгельсов, который когда-либо рождался в их старом доме. Он потер в восторге руки и обратился к жене: «Должен признаться, мадам, вы создали действительно что-то прекрасное!», затем схватил сына под руку, подвел к одному из стульев, торжественно уселся против него и дал несколько банальных, но полезных советов.
– Итак, дорогой Фред, – начал ласково он, – сегодня ты самостоятельно войдешь в светское общество. Можно сказать, это будет первое боевое крещение. Хотел бы, чтобы твое присутствие на приеме сделало незаметным мое отсутствие. Держись так, чтобы все видели в твоем лице истинного Энгельса и хозяина. Забудь, что вчера ты был учеником, и думай, что сегодня ты уже что-то, а завтра будешь всем. Не говори много и без толку, не забывайся, если даже какая-либо молодая дама, прикрываясь веером, многозначительно улыбнется тебе или когда тебе предложат шоколадный торт. Все должны почувствовать, что ты господин, в кармане которого лежит не только носовой платок, но и тяжелая связка ключей. Думаю, что внешность твоя произведет впечатление, но важно не быть рассеянным и непрерывно следить за собой. Надеюсь услышать утром достойный отзыв о моем сыне и наследнике…
Фридрих учтиво поклонился, что-то невнятное пролепетал в ответ на отцовские наставления и направился к выходу. Там его обняла мать, поцеловала в щеку и нежно шепнула:
– Желаю успеха, Фред!
Как только сын вышел, отец устало опустился в кресло и тихо проговорил:
– В добрый час, коллега!
В парадный зал городского дома Фред вошел без предварительного объявления о прибытии. Почти все гости уже собрались и стоя тихо беседовали, разбившись на небольшие группы у столов и белых мраморных колонн. Юноша легко поклонился собравшимся и направился в центр зала, где находился господин Зигрист, организатор этого строго делового вечера. С важностью стоя между супругой и дочерью, голландец смотрел на приближающегося молодого гостя, явно любуясь его стройной и элегантной фигурой. Фридрих остановился в двух шагах от хозяев, еще раз поклонился и проговорил на чистом голландском языке:
– Имею честь представлять фирму «Эрмен и Энгельс», производящую хлопчатобумажную пряжу и ткани. Приветствую вас от своего имени и от имени отца, главного акционера фирмы. Позвольте отрекомендоваться: Фридрих Энгельс-младший.
Все Зигристы от удивления широко раскрыли глаза. Обе дамы одновременно произносят восторженное «О-о-о…», а господин коммерсант поспешно протягивает Фреду обе руки.
– Вы превосходно владеете голландским. Позвольте пожать вам руку…
Фред здоровается с коммерсантом, целует руку его супруге и сдержанно кланяется дочери. Очарованная его манерами, фрау Зигрист любезно говорит:
– Вы заставляете меня вспомнить Париж, месье. Приемы в «Пале рояль» и молодых аристократов из Версаля…
Энгельс взглянул на хозяйку, затем окинул взором дочь и ответил уже на французском:
– Две такие прекрасные женщины, как вы, мадам, заставляют быть парижанином…
Фрау Зигрист громко засмеялась, а фрейлейн Зигрист зарделась от смущения. Захохотал и господин Зигрист, который тут же обратился к своему молодому гостю:
– Буду рад, господин, если моя дочь проведет этот вечер в вашем милом обществе.
Фридрих вновь перешел на голландский:
– Благодарю за высокое доверие, уважаемый господин. Надеюсь, что фрейлейн не будет скучать и сожалеть.
И юноша подал руку фрейлейн Зигрист. Пересекая рядом с ней залитый светом зал, он мысленно говорил себе: «Думаю, отец будет доволен!»
Появление Фреда в светском салоне вызвало неожиданное волнение приглашенных вуппертальцев. Среди гостей прокатился общий тревожный шепот, заставивший дрожать маленькие огоньки множества свечей в серебряных подсвечниках. Десятки холеных рук поднесли лорнеты к глазам. Дамы и барышни ахнули от удивления и восхищения, а мужчины поглядывали на все происходящее с нескрываемым недоумением. «На прием без папы и мамы? – шепчут женщины. – О-хо-хо, значит, юноша уже совершенно самостоятелен!», а мужчины острят: «Как видно, старый дьявол пускает в обращение сына. Еще один Энгельс вступает в бой…» И имя Фреда не сходит с уст собравшихся. Благоухающее общество на все лады склоняет его, готовое сжевать, как сочный бифштекс, или обсосать, как лакомую косточку. Это имя – главное блюдо на этом вечере, и любители полакомиться, не церемонясь, занялись «делом». Чихая, кашляя, они перемывали его косточки.
– Надо отдать должное, выглядит он безупречно…
– Отец не дал ему полного образования, чтобы двинуть его против нас…
– Говорят, что знает двадцать пять языков…
– Представьте, пишет стихи и считает, как Пифагор…
– Но мальчишка дружит с Фрейлигратом и Штрюккером…
– Настоящий кавалер, с хорошими манерами…
– Слишком красив, чтобы быть умным…
– Нам нечего опасаться, у нас тоже есть сыновья…
– Пасторы утверждают, что он не порадует отца…
– Похоже, собирается вскружить голову фрейлейн Зигрист…
– Давненько старый Энгельс не наносил такого удара…
Языки мелят вовсю, и по залу идет приглушенный, но довольно сильный шум. То один, то другой прильнет к уху соседа, уши шевелятся, как флюгера, и до Фреда гул докатился в тот момент, когда юная Зигрист оперлась на его руку. Непринужденно улыбаясь, молодой человек предупредительно спросил свою даму:








