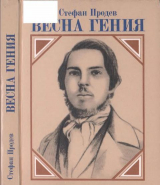
Текст книги "Весна гения: Опыт литературного портрета"
Автор книги: Стефан Продев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 15 страниц)
Постепенно разговор зашел о компромиссах в искусстве и в жизни, о моральной чистоте художника, о конфликтах между ним и обществом.
– Я отвергаю, – возразил Йонгхаус, – как несостоятельные, любые попытки заглядывать в интимный мир художника и всякие предположения и заключения, построенные на этом основании. Частная жизнь – одно, а искусство – другое. В истории немало примеров, подтверждающих это. Одно дело Аристотель-рабовладелец и совсем другое – мыслитель. Одно дело Бомарше-спекулянт и совсем другое – писатель. Нет нужды рыться в белье гениев, ибо, каким бы оно чистым ни было, это все же белье…
Вильгельм Гребер тихо кашлянул. Это значило, что он хотел высказаться.
– Видишь ли, Петер, искусство – это вдохновение души, и потому оно зависит от ее чистоты. Разве солнце могло бы слать нам тепло, если бы оно само не имело его? Если согласимся, что искусство существует, чтобы делать людей более совершенными, тогда мы должны признать, что те, кто причастен к нему, – лучшие из лучших. Иначе мы придем к абсурду…
– Извини, Вильгельм, – прервал Вурм младшего Гребера, – но и на солнце, как известно, есть пятна. Думаю, что ни лишний поклон, ни торговая сделка не убивают величия художника. На то он и художник, что стоит выше глупостей обыденщины…
– Можно ли допустить, чтобы вершину Монблана загрязнили сточные воды, – в сердцах заметил Вильгельм.
– Верно, Вилли, ни к чему нечистоты на Монблане! – отозвался Фред, бросаясь в новую атаку. – Я согласен с Гребером! Искусство нельзя создавать грязными руками. Правда, бывают случаи, которые говорят, что и такое возможно, но они суть не правило, а исключение из него. Петер попытался подкрепить свою точку зрения двумя такими примерами, но крайне неудачно. Повторяю, неудачно, ибо рабовладелец Аристотель ничем не помог Аристотелю-мыслителю, а спекулянт Пьер Огюстен Карон де Бомарше – писателю Бомарше. Не случайно первый так и не достиг величия Сократа, а второй – литературной славы Мольера. И оба преуспели бы гораздо больше, если бы не пытались делать сомнительную карьеру, если бы один презрел двор Александра, а второй – двор Людовика XVI. Искусство, большое, подлинное искусство, не приемлет двойственной жизни. Нельзя днем быть Шейлоком, а вечером – Шекспиром. Талант слишком хрупок. И тот, кто пытается обмануть его, лишается его навсегда. Прекрасное тем и замечательно, что не терпит ни фальши, ни корысти. Красота несовместима с какой бы то ни было грязью…
Фред говорил горячо и страстно. Он доказывал, что художник не должен обольщаться мелкими выгодами, ибо это развращает его, делает льстецом пред сильными мира сего. Нет ничего более жалкого, чем торговля своим талантом, компромиссы в творчестве ради титула или мошны.
– Общество и его институты, – продолжал Фред, – весьма коварны, и одаренные люди должны остерегаться их. Некий тщеславный министр хочет обедать с известным писателем. Это не столько оригинально, сколько забавно. Ну что хорошего в пересудах, как министр М., например, спорил на бутылку вина и жареного цыпленка с господином Вольтером? И самое чудовищное в том, что завтра же весь город узнает о великодушии министра и о слабости к гастрономии писателя. Согласитесь же, что это более чем недостойно! Разве допустимо, чтобы творцы прекрасного играли роли жалких шутов, собутыльников, услужливых девиц, которых достаточно поманить пальцем? По-моему, нет, нет и нет! Для меня они так же велики, как и герои, и поэтому должны сторониться всякой салонной мишуры. Одаренным людям гордость приличествует куда больше, чем любые ордена, почести и блестящие кареты. Я уважаю только тех из них, которые сохраняют свою гордость. И, разумеется, чистоту. Первозданную чистоту снегов на вершинах гор…
Тихий стук в дверь прервал монолог Фреда. Послышался голос матери:
– Фред, родной мой, уже за полночь!
Молодые люди вскочили словно ужаленные и стали торопливо прощаться со своим другом. Они должны немедленно идти, ибо домашние наверняка ждут их. Как быстро прошло время! Фридрих искренне сожалеет, что разговор остался незаконченным.
– Но ничего, друзья! До завтра. В то же время и на ту же тему… Спокойной ночи!
•
Комната Фреда помнит много подобных бесед и споров между друзьями, хранит их тени и звуки, мысли и страсти. Это делает ее особенно счастливой и богатой, просто неповторимой. Ночью, когда Фред задует свечу и заберется в постель, ее потемневшие стены рассказывают всему дому, что слышали и что видели.
Дом потрескивает от удовольствия и слушает удивительные истории о друзьях. «Взгляни на этих молодых господ! Думается, что мы с трудом можем теперь вспоминать своих первых владельцев, которые читали только Библию и пили простую водку». «Как быстро меняются люди!» – философски заметил старый дом, погрузив свое деревянное тело в теплые объятия ночи…
Разумеется, не следует думать, что прекрасные качества Фреда проявляются только в жарких спорах. Ведь кроме науки и искусства бог, дабы не оставить без дела дьявола, создал еще игры. Буйные, чудесные, грандиозные вуппертальские игры, бросающие благочестивых граждан в нервную дрожь и повергающие их в страх перед усатыми питомцами господина Франца. Это разудалые игры, которым нет равных во всей Рейнской долине и которые даже не снятся самым отчаянным сорванцам. Молодой Энгельс не может представить себе жизнь без этих игр и самозабвенно участвует в них, отдавая им все силы своей страстной души. В водовороте игр он освобождает все «склады» своей энергии, дает полную свободу своей незаурядной силе и огненной фантазии. В их вихре он забывает все на свете, даже книги, забрасывает элегантный костюм и становится простым парнем, властно увлекающим гурьбу друзей через сады и огороды, ловко преодолевающим высокие каменные заборы и с ходу очищающим чужие силки, поставленные для ловли щеглов.
Фред не умеет щадить себя, и потому все шалости, в которых он участвует, превращаются в феерические праздники юношеской удали. Выбежавшие с ним на улицу вуппертальские юноши наперед знают, что им предстоит поистине веселая игра, что час-другой они будут где-то между небом и землей, околдованные его поэтическим воображением. Прежде, когда они были помоложе, это воображение крепко привязывало их к своим крыльям и уносило в чудесные путешествия. Теперь оно превращает их в рыцарей и заставляет искать по чердакам и подвалам старые заржавленные мечи. В другой раз он со всей ватагой бросается в окрашенные воды Вуппера, внушив им, что они индейцы из племени, прославившегося своей смелостью, и им нужно переплыть священный Юкон. В третий – прямиком приведет к обрушившейся стене нижне-барменского кладбища. Здесь они непременно разделятся на две группы и начнут играть во «французскую революцию». Любая из этих игр – прелюбопытнейшее зрелище, в котором ребята участвуют увлеченно, искренне переживая свои роли. Они носятся по садам, путаясь в своих картонных латах, ныряют в реку, украшенные перьями и ивовыми ветками, взбираются на кладбищенскую стену и ведут бои на деревянных рапирах. В центре игр – их режиссер, дружище Фред, всецело захваченный собственным воображением, размахивающий своим мечом или рапирой, разгоряченный и воодушевленный. Он всегда впереди, выкрикивающий боевой клич, громящий воображаемого противника и немного сожалеющий, что мама или Мария не имеют возможности хотя бы издали взглянуть на него. Игры не исчерпываются сражениями, в ходе которых, случается, кому-нибудь разобьют нос или в клочья разорвут штаны. Их репертуар бесконечно богат, и никто не огорчается, если игра прерывается, ибо все знают, что фантазия Фреда безгранична и сразу же может начаться новая, еще более интересная игра. Надоест им вести «кровавые битвы», они сбрасывают с себя ненужные доспехи и предаются другим, не менее захватывающим занятиям. Бегают наперегонки на ходулях, бросают тростниковые кольца, ходят на руках, пускают бумажных змеев, гоняют голубей, дрессируют щенят. Юноши взрослеют, и воображение Фреда всякий раз ведет их к не игранным еще играм, новым проказам. Изменившись сам, он изменяет и всех своих друзей, придумывая для них все более трудные, а главное, более мужественные развлечения. Недавних «рыцарей» и «индейцев» Фридрих превращает в отличных игроков в мяч, в кегли, в мастеров плавания и фехтования, в страстных шахматистов и шашистов. Теперь они идут в поле не для ловли певчих птичек, а посмотреть, чему Фред учит своего вороного Фараона, как выполняет на нем сложнейшие фигуры верховой езды.
Смена игр не убивает романтической жилки Фреда, не притупляет его интереса к их живой, подвижной стихии. И сейчас, как и прежде, повзрослевший Энгельс отдается им всем сердцем. Молодежь и сейчас восхищается его стремительностью, когда в руках он держит шпагу, его решительностью, когда он ныряет в Вуппер и переплывает реку под водой. Они и сейчас кричат «ура», когда Фред перепрыгивает на коне через плетни и заборы и на бешеном карьере перегоняет мчащийся в Эльберфельд почтовый дилижанс.
Да, Фридрих уже не ребенок. Но он по-прежнему самозабвенен и подвижен, все так же способен играть дотемна, до полного изнеможения. Он по-прежнему любит вольные вуппертальские игры, отдает им весь свой жар, свою фантазию, всю свою окрыленность и чистоту.
Но вуппертальская молодежь ценит Энгельса не только за эти качества. Особенно высоко она ценит его за другое – за то, что в их глазах возвышает Фреда и делает его самым желанным участником их шалостей, – за его общительность. В отличие от других сыновей местных фабрикантов и торговцев, он не кичится своим происхождением, не выделяет себя из общей массы, не вносит в игры высокомерия своего класса. Очутившись на улице или в поле, наш герой становится самым обыкновенным юношей, таким же, как все его товарищи. Фридрих просто не терпит скучных и надутых молокососов, которые с малолетства силятся выглядеть «господами», предпочитают мальчишеским компаниям общество благовоспитанных гувернанток и вместо вольного воздуха игр дышат пыльным воздухом контор. Он смеется над их рыхлостью, неуклюжестью, над их задранными носами и почерневшими от сладостей зубами. Он знает, насколько праздна и пуста их жизнь, и никогда не общается с ними, не участвует в их «парадных» прогулках по улицам, запруженным зонтами и экипажами, шумными толпами пасторов и воспитателей, лакеев и голодных родственников. Нет, Фред предпочитает своих обыкновенных, но веселых друзей – увлеченных, сердечных и разбитных. Вот почему он с ними всегда нежен и ласков, счастлив их доверием, их молчаливой, но искренней любовью. Даже строгие внушения отца не в состоянии отделить его от шумной гурьбы этих чудесных юношей, которые очень хорошо знают цену честному слову и подлинной дружбе. На гневные отцовские слова: «Ты часто забываешь, кто ты есть, Фред!» – сын всегда спокойно и решительно отвечал: «Я обыкновенный человек, отец! Самый обыкновенный, и только!..»
* * *
– Если хотите еще что-нибудь узнать об ученике Фридрихе Энгельсе-младшем, обращайтесь к доктору Клаузену, его учителю по литературе. Их уважение друг к другу безгранично…
После этих любезных слов старый школьный сторож Эльберфельдской гимназии подробно объясняет нам, где, когда и как мы можем найти господина Клаузена:
– Обычно он дома, сидит в небольшой садовой беседке и читает толстые книги.
Мы сердечно благодарим «господина вице-Ханчке» (так ученики называют веселого сторожа), опускаем в его руку два талера и отправляемся искать учителя.
Третий старший учитель доктор Клаузен живет где-то позади известного эльберфельдского казино, на небольшой тихой улочке в скромном аккуратном домике с медным петушком на коньке крыши. На побеленных стенах его резко выделяются старые, почерневшие от времени балки, образующие традиционные крупные квадраты и ромбы. Островерхая крыша покрыта разноцветной жестяной чешуей, а окна – узкие, высокие, с легкими деревянными жалюзи. Это старый вуппертальский дом, пахнущий воском и цветами, располагающий к покою и смирению. Тот самый дом, в котором Гофман или братья Гримм могли бы с удовольствием сочинять свои фантастические сказки…
Хозяин дома, доктор Клаузен, – сухой, высокий старик, чуть сгорбившийся, с по-детски ясными глазами. Лицо испещрено глубокими морщинами, которые придают ему подвижность и выразительность.
– Позвольте пригласить вас в беседку, господа. Там мы сможем поговорить более приятно…
Голос доктора Клаузена мягкий, чарующий, отражающий его внутреннюю чистоту, успокаивает и привлекает собеседника. Это голос, который не любит крика, не режет уха и заставляет слушать внимательно.
Садовая беседка Клаузена невелика, но на редкость поэтична и как бы дополняет сказочную атмосферу дома. Потонувшая в благоухающих волнах распустившихся кустов роз, она манит отдохнуть в ее тени, за решеткой тонких березовых веток. Осведомившись о цели нашего визита, Клаузен, польщенный оказанной ему честью, с сердечностью пригласил нас присесть. В отличие от доктора Ханчке, он не задавал нам излишних вопросов, что позволило вести разговор искренне и свободно. Учитель говорил медленно, тихо, с нескрываемым внутренним достоинством, посасывая крепко сжатую в кулаке трубку.
– Фред – моя гордость, господа, и я всегда волнуюсь, когда говорю о нем. Простите меня, если несколько увлекусь, это ведь естественно для учителя моих лет, всю жизнь учившего увлеченности других…
Доктор Клаузен на мгновение замолк и, как бы собираясь с мыслями, смотрит на свои белые руки, устало опущенные на колени.
– Любой учитель, – продолжает он, – ищет, так сказать, своего «настоящего ученика», того доброго и умного юношу, которому отдаст все свое сердце. Многие годы я искал «своего ученика» и наконец нашел его в лице Энгельса-младшего. Мы с Фредом поняли друг друга на первых же уроках в минувшем учебном году, когда изучали старых немецких классиков. Никогда не забуду, как Фридрих опроверг содержащуюся в учебнике трактовку творчества Мошероша и Гриммельсхаузена. Там сказано, что оба эти имени не стали значительными в литературе, а произведения этих авторов отличаются больше язвительностью, чем эстетическими достоинствами. Фред с отличным знанием предмета доказал, что это совсем не так, сделав блестящий критический анализ «Солдатской жизни» и «Симплициссимуса». Вопреки строгим канонам нашей педагогики я поддержал этот открытый спор с учебником, так как мысли ученика в точности совпали с моими собственными. С тех пор между нами установились полное доверие, творческая дружба, которой я очень горжусь…
Клаузен остановился, чтобы разжечь потухшую трубку, и продолжал:
– Неукротимый, независимый ум Фреда производит на меня самое сильное впечатление. С абсолютной уверенностью могу вам сказать, что у сына Энгельса своя голова на плечах. Фридрих изучает немецкую литературу по оригиналам и открывает учебник только для того, чтобы поспорить с ним. Он не терпит официальных установок и рецептов и часто признавался мне, что ненавидит причесанную историю литературы, этакую педантичную подгонку по ранжиру талантов и произведений, превращающую учебник в сверкающую чистотой литературную аптеку. Ученик – это человек, говорит мой любимец, поэтому он должен не механически зазубривать материал, а рассуждать, иметь личное мнение, свою эстетическую позицию. Сам Фред – образец такого ученика, и это ставит его намного выше всех остальных. Его домашние и классные работы – это готовые литературные трактаты, в которых излагаются собственные воззрения и обоснованные возражения признанным авторитетам. Однажды подобная его работа попала в руки школьного инспектора Граббе, который пришел в ужас от мыслей, изложенных в ней, и потребовал самого строгого наказания «для умного, но невоздержанного ученика». Помнится, это был домашний разбор драм Августа фон Коцебу. В нем Фред решительно выступил против пошлой морали Николаи, Штернберга и Клаудиуса, пытавшихся примирить разум с религией. Драматургию Коцебу он назвал сентиментальной и реакционной – драматургией королевских указов и тайной полиции. Отвергая этого автора, пропитанного идеологией Священного союза, Фридрих выражал восхищение совместным сочинением Гёте и Шиллера, которое явилось ударом по модному романтизму начала века; его домашнее сочинение содержало волнующие слова о революционном движении студентов того времени. Вместе с тем он спорил с Менцелем и Круммахером относительно их оценки Коцебу. Как видите, вместо школьного сочинения Фред написал целое литературно-критическое исследование, которое могло быть напечатано в самом солидном рейнском общественно-политическом журнале. А так как я дал этой работе отличную оценку, Граббе сделал мне строгое внушение и вписал неприятное замечание в мой послужной аттестат. Это не должно удивлять вас, ибо здесь, в Вуппертале, нам, учителям, запрещено иметь свое мнение.
В светлых глазах доктора Клаузена появилось выражение грусти. Мы видим, как сильно обескуражен учитель грубым вмешательством Граббе, и пытаемся успокоить его.
– Что вы, прошу вас, господа, – оживился Клаузен, – за своего Фреда я готов на все. Вопреки Граббе и ему подобным я делаю все возможное, чтобы разжечь в юноше любовь к литературе, привить способность мыслить самостоятельно. В моем ученике проступают могучие, неудержимые силы, и я хотел бы дать им верное направление, цель, крылья. Это желание воодушевляет, не позволяет отступиться, заставляет мечтать, смело смотреть в будущее. Фридрих пытается писать стихи, и я ему всячески помогаю в этом. Правда, это еще не бог весть какие стихи, они слабы, наивны, рождены под сильным влиянием нашего Фрейлиграта, но и в них нередко сверкает яркий образ, глубокая мысль, что дает мне право увлекать их автора вперед, вселять в него уверенность. Каждая почка, каждый его стебелек должен развиваться свободно, чтобы вызреть. А я, как садовник, уничтожаю вокруг него сорняки и учу тянуться к солнцу. Не пророчествуя, как герр Юргенс, например, могу смело заявить, что, если Фред сохранит свою горячую любовь к литературе, завтрашней Германии будет кем гордиться…
– А что бы вы сказали, любезный доктор, об отношении Энгельса к другим школьным предметам: математике, физике, языкам?..
Старый учитель не спеша пододвинул большую оловянную пепельницу, выбил трубку, потом заговорил:
– Этот ваш вопрос несколько затрудняет меня, уважаемые друзья, ибо я не связан с этими предметами. Но с удовольствием могу отметить, что некоторые из моих коллег также весьма довольны Фридрихом и относятся к нему с чувством симпатии. Преподаватель математики не раз говорил мне, что мой любимец – способный математик, а учитель психологии Верне просто поражен проявляемым им интересом к философии. Но наибольшие успехи, разумеется после литературы, молодой Энгельс пожинает в изучении иностранных языков. Здесь у него воистину удивительные способности. Советую вам поговорить с его недавним учителем французского языка доктором Филиппом Шифлином, он вам лучше расскажет об этом. Что же касается меня, то могу сказать еще о познаниях Фреда в области древней истории. Мы часто беседуем с ним на подобные темы: ведь наука о прошлом человечества – моя вторая специальность. На мой взгляд, юноша эрудирован здесь не меньше меня. Увлекательно и без повторений он может часами рассказывать о каком-нибудь событии времен Перикла или Марка Аврелия. Только несколько дней назад здесь, в этой беседке, он блестяще развивал свои взгляды на историю Пунических войн, которые, право же, с успехом могли быть изложены с высокой кафедры Кёльнского университета. У меня случайно осталась его тетрадь по истории. Если господа желают, я могу показать ее, это весьма интересно…
Через несколько минут тетрадь Фреда, бережно раскрытая тонкими, дрожащими руками доктора Клаузена, лежала перед нами. Глубоко взволнованные, мы перелистываем ее страницы, исписанные хорошо знакомым, нервным почерком Энгельса.
С первых же строк нам стало ясно, что в ней собраны конспективные записи Фреда о всех значительных событиях «от сотворения мира до Пелопоннесской войны». В одних местах они более подробны, в других – беглы, но повсюду дополнены множеством превосходных иллюстраций, исполненных талантливой рукой юноши. Вся тетрадь испещрена чертежами, планами, схемами и рисунками, великолепно дополняющими текст, делающими его не только наглядным, но и привлекательным.
Здесь можно видеть зарисовки развалин Карфагена и Рима, виды Иерусалима, Дельф, Фермопил, пирамид и сфинксов Египта. Графически изображены походы Александра Македонского и Ганнибала, Цезаря и Аттилы. А на полях – наброски греческих и индийских колонн и оружия воинов Александра Македонского, эскизы портретов вавилонских воинов и изображений египетских богов. Все это говорит не только о гимназическом прилежании Энгельса, но и о его беспредельной любви к исторической науке, скрупулезном внимании к фактам. Каждый лист этой тетради свидетельствует о незаурядных исследовательских способностях ее владельца, его страстном и романтичном проникновении в суть предмета. Тут Фридрих не просто хороший ученик. Здесь мы видим в нем сразу и пытливого ученого, и увлеченного поэта, человека, наслаждающегося творческим поиском и, да простит читатель авторскую вольность, находящего удовольствие в отыскании золотых пылинок на босых ступнях Клио…
Доктор Клаузен пристально смотрит на нас.
– Да, в нем борются две силы: литература и история. Очень хотел бы знать, какая из них победит?
Мы не стали отвечать на вопрос славного учителя.
– Лично я хотел бы, чтобы верх одержала первая, но…
Доктор Клаузен, весьма довольный нашим интересом к Фреду, проводил нас до ворот. Он горячо пожал всем руки и еще раз напомнил:
– Непременно побывайте у господина Шифлина. Он вам также немало поведает о нашем любимце…
•
Учитель французского языка живет в центре Бармена, в новом солидном доме, не имеющем ничего общего с поэтичным домиком Клаузена. Здесь всегда многолюдно и шумно, так как рядом расположены самые большие в городе магазины и наиболее влиятельные торговые конторы. Мы медленно пробираемся сквозь поток пешеходов и экипажей, запрудивших улицу, и, усталые, поднимаемся по широкой лестнице. На двери ярко начищенная медная табличка: «Здесь живет месье Ф. Шифлин, доктор романской филологии, специалист по французской грамматике». Отряхиваем с одежды пыль и дергаем длинную цепочку звонка. За дверью раздается мелодичный перезвон колокольчика.
Второй старший учитель доктор Филипп Шифлин церемонно приглашает нас в кабинет. Перед нами предстал крупный пятидесятилетний мужчина, с пышными русыми бакенбардами и мопассановскими усами. Во рту его дымилась сигара, а на большой округлый живот свисал старый позолоченный монокль. Под голубыми глазами выделялись мягкие аристократические мешочки, а голос часто прерывался из-за приступов астмы. И все же облик доктора говорил о том самодовольстве, которое не отталкивало, а привлекало и располагало к общению. Пока мы усаживались в кожаных креслах, господин Шифлин извлек из письменного стола бутылку старой малаги, наполнил хрустальные бокалы и с добродушной, приветливой улыбкой сказал:
– Prosit, господа! Добро пожаловать…
Учитель закрыл глаза и залпом выпил свой бокал, несколько раз громко причмокнул толстыми губами и сел напротив, готовый к разговору. Узнав, зачем нас прислал к нему старый Клаузен, он сразу же перешел к теме, интересовавшей нас.
– Слышал я, что бывают чудо-дети, вундеркинды. Думаю, что одним из них был Моцарт. Не преувеличивая, господа, могу сказать, что Энгельс-младший один из таких детей… Подумайте, ему только семнадцать лет, а он уже практически владеет пятнадцатью иностранными языками. Свободно говорит и пишет по-латыни, на древнегреческом, испанском, французском, английском, голландском, итальянском. В то же время юноша хорошо справляется со скандинавскими языками, с португальским и, если хотите, с польским, который сейчас изучает. Однажды в его тетради для домашних заданий по французскому я нашел несколько листов, исписанных на неизвестном мне языке. Когда я спросил, что за фантасмагория, он, смеясь, объяснил, что это какое-то ирландское наречие, если не ошибаюсь, североирландское, на котором говорят сейчас пятьсот пятьдесят человек на всей земле. «Но на что сдалось вам это наречие, молодой человек?» – удивленно спросил я его. «Как на что? – лукаво ответил Фред. – Представьте, что я плыву на пароходе, случилось кораблекрушение и волны выбросили меня на ирландский берег. Как же я попрошу кусок хлеба у добрых рыбаков, говорящих только на этом дьявольски трудном наречии?»
Месье Шифлин засмеялся своим сердечным, веселым и заразительным смехом.
– Да, да, господа, именно так ответил мне этот юноша, который знает языков больше, чем я. Уверен, что он самый что ни на есть полиглот, феномен. По секрету скажу, что иногда побаиваюсь его. Подымаясь на кафедру, я знаю, что он внимательно следит за каждым моим словом и, как он сам мне признавался, за правильностью моих объяснений. Иногда даже пытался спорить со мной перед всем классом, что, конечно, не очень педагогично, но весьма интересно с точки зрения филологии. Во время одного из таких споров я, например, лучше уяснил произношение некоторых слов, перекочевавших из немецкого во французский через тоннель эльзасского наречия. Вот почему я всегда с удовольствием вызываю его к доске. Он не мямлит под нос, словно последний вуппертальский осел, а говорит свободно, со знанием дела, а главное – интересно. Опять же по секрету признаюсь вам, что всегда на него полагаюсь, когда в класс пожалует какой-нибудь незваный гость из барменской общины или педант-инспектор из Дюссельдорфа. Тогда мы с Фредом начинаем веселый диалог по-французски, что заставляет пожаловавшее «высокое лицо» напрягать до предела мозг и делать вид, что «во всем разбирается». Однажды Энгельс так увлекся, что выпалил по-старофранцузски: «Очень мне не нравится вон то лицо в углу». А в углу, представьте себе, сидел за партой сам господин Граббе, инспектор, так глубоко обидевший нашего доброго Клаузена…
Доктор Шифлин повторно наполнил бокалы, снова любезно проговорил «Prosit, господа!» и несколько раз почмокал губами.
– A propos, эта малага выписана прямо из Испании. К сожалению, у наших рейнских виноделов не получается такой чудесный южный напиток… Вспоминается, как однажды Фред принес мне свой перевод со староиспанского какой-то поэтичной андалузской песни-легенды. В ней говорилось, что смерть не коснется того, кто выпьет бокал малаги – живой крови земли и солнца. Перевод был сделан с большим вкусом и хорошим чувством поэзии. Я был так восхищен, что тут же послал издателю Брокгаузу заказ на сборник испанских романсов и, получив его, преподнес Фреду с дарственной надписью. Подарку Фридрих очень обрадовался, но после с огорчением мне говорил, что переводы неудачны. А он, надо отметить, умеет отличать фарфор от глины и, между прочим, никогда ничто не принимает на веру, все подвергает самой тщательной проверке. Только на одной странице его хрестоматии французского языка я как-то увидел двенадцать вопросительных знаков. Я, конечно, тут же спросил, что это значит, и услышал в ответ: «Сомневаюсь во всем, что мне не ясно». Иногда этот девиз доставлял ему много хлопот, но он никогда не изменял ему. «Лучше, – говорил он, – искать истину всю ночь, чем сомневаться в ней всю жизнь». Согласитесь, господа, что подобный афоризм достоин самого Сократа или Галилея, но не этого буйного вуппертальского молодца, который толком еще и не знает, чему посвятить свою жизнь…
Хозяин но-настоящему гостеприимен, и мы выпиваем по третьему бокалу малаги. К чести испанских погребов, вино поистине превосходно. Филипп Шифлин, явно очарованный редкими способностями Фреда в изучении языков, продолжал:
– Больше всего меня радует то, что Фридрих изучает французский по моей испытанной методе – по классикам. Нет лучших учителей этого совершенного языка, чем его создатели: Рабле и Лафонтен, Буало и Корнель, Расин и Вольтер, Лабрюйер и Мольер. Они воспитывают у человека вкус к изящной фразе и благородное остроумие, столь присущие не только французской литературе XVII – XVIII веков, но и французскому характеру вообще. Их произведения – подлинная школа для шлифовки мысли и стиля, обогащения разговорного словаря. Прогуливаясь как-то по берегу Вуппера, Энгельс признался мне, что Вольтер научил его понимать французский сарказм, а Лабрюйер – тому безграничному, чисто французскому острословию, которые крапят язык, словно черный перец, и делают его необыкновенно пикантным. И я просто счастлив, что Фред по достоинству оценил мое «Руководство» но французской грамматике и добросовестно пользуется собранным там материалом. Буду рад, если это руководство еще больше повысит интерес юноши к языкам и окончательно направит его к богатствам филологической науки. Случись это, можно будет спокойно умереть, с сознанием, что дал немецкому языковедению подлинно великий ум…
Наступил час обеда, и мы пожимаем руку увлекшемуся доктору. Он огорчен расставанием, дружески хлопает нас по плечу и советует заглянуть на постоялый двор «Три шляпы» и заказать там тушеного зайца и вино, подобное его малаге.
– Попросите подать зайца с томатным пюре и в вишневом соку. Прикажите кельнеру сделать это по рецепту Шифлина. Останетесь довольны. До свидания!
– Всего наилучшего, будьте здоровы, месье Шифлин!
– Мерси, господа!
С теплым, светлым чувством выходим на шумную барменскую улицу. Мы благодарны доктору Клаузену и доктору Шифлину за их сердечное гостеприимство и единодушную восторженную оценку, данную ученику Энгельсу. Они безусловно первыми «открыли» юношу, его только что проявившиеся гениальные способности. Теперь нам понятно, почему Фред всегда будет с глубочайшим уважением вспоминать о них, почему он с благодарностью пишет о единственном человеке, умеющем пробуждать у молодежи вкус к поэзии (Клаузене), и авторе одного из самых лучших учебников французского языка (Шифлине). Понятно, почему много лет спустя титан Энгельс признается, как многим обязан он этим вуппертальским педагогам, этим прекрасным и мудрым людям…
В разговорах с обоими вуппертальскими учителями мы обратили внимание на две короткие, но характерные фразы, выражающие фактически одну и ту же мысль, – на слова, сказанные доктором Клаузеном: «У сына Энгельса своя голова на плечах» – и фразу доктора Шифлина: «Он ничего не принимает на веру…» В этих двух фразах заключена вся сущность ученика Фреда, его бурного и вечно ищущего духа. В них скрыта сложная загадка конфликта между юношей и вуппертальской школой, между силой, рожденной, чтобы творить, и силой, существующей, чтобы подавлять. Или, прибегая к афористическому образу Бенджамина Франклина: между кровью крыла и железом решетки. Да, эти две фразы выражают все своеобразие молодого Энгельса, которое выделяет его среди массы учеников и оставляет один на один с суровой «альма-матер», с ее каменными стенами и дубовыми головами учителей, со всем адом пиетистского просветительства.








