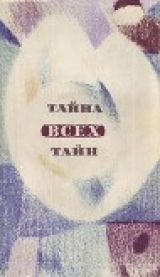
Текст книги "В мире фантастики и приключений. Выпуск 7. Тайна всех тайн"
Автор книги: Станислав Лем
Соавторы: Сергей Снегов,Георгий Мартынов,Илья Варшавский,Геннадий Гор,Лев Успенский,Аскольд Шейкин,Александр Мееров
Жанры:
Научная фантастика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 45 страниц)
Глава третья
1
– Много позже, – закончил Нестеров свой рассказ, – к нам попали два партизана из отряда Добронравова. От них мы узнали ошеломившую нас новость – Николаи Михайлов жив! Он появился в их отряде примерно так же, как появился у нас. И воевал с такой же беззаветной смелостью. И так же, как мы, Добронравов представил его к той же награде, что меня нисколько не удивляет.
– Это мне известно, – сказал Афонин. – Вы не знаете, где сейчас находится ваш бывший комиссар?
– Лозовой? Он жив. В одном из последних боев нашего отряда Александру Петровичу оторвало ступню. Нам удалось переправить его в медсанбат армейской дивизии, это и спасло ему жизнь. Сейчас он живет в Москве.
– Его адрес вам известен?
– Конечно. Мы часто встречаемся.
Афонин записал адрес и поднялся.
– Мне остается поблагодарить вас, Федор Степанович, – сказал он. – И извиниться за беспокойство.
– Мой рассказ прояснил что-нибудь?
– Очень мало, но спасибо и на том. В таком деле сведения приходится собирать по крохам. В сумме они могут кое-что дать. И помочь следствию.
– Сейчас вы, наверное, направитесь к Добронравову?
– Нет, сначала к Лозовому. Добронравов живет не в Москве. Он должен приехать сегодня вечером.
– Понимаю.
– И вот еще что, Федор Степанович. Прошу вас никому не сообщать о нашем разговоре. Если речь зайдет о Михайлове, а это обязательно случится, то скажите, что вы знаете о его смерти, но не говорите о самоубийстве. Я начинаю думать, что об этом не будет сообщено вообще.
Нестеров пристально взглянул на Афонина:
– Почему вы так думаете? Если это не секрет.
– Есть кое-какие соображения на этот счет.
– Значит, секрет. Ну что ж, вам виднее. Со своей стороны, обещаю молчать.
– Благодарю вас! Пока до свидания!
– Пока? Значит, вы думаете, что я могу понадобиться?
– Всё может случиться.
– Всегда к вашим услугам.
Сев в машину, Афонин попросил шофера снова ехать на Большую Полянку.
Надо предупредить Иванова о том, что необходимо молчать о самоубийстве Михайлова. А затем придется ехать в гостиницу «Москва» и постараться пресечь слухи.
Чутье оперативного работника подсказывало Афонину, что в деле Михайлова лучше сохранить в тайне обстоятельства его смерти.
Он не мог бы сказать, что именно в рассказе Нестерова насторожило его, но был уверен – что-то тут неладно.
Разбираться сейчас в своих подсознательных ощущениях Афонин и не пытался. Он знал, что ясность придет сама собой потом, когда мозг как бы переварит сообщенные ему сведения. Так бывало у Афонина всегда.
Сделать вес возможное, чтобы сохранить тайну, – ближайшая задача. Ну а если впоследствии окажется, что он ошибся и хранить ее нет никакой необходимости, то ничего плохого от его действий произойти не может.
Иванова он застал дома и тотчас же получил его обещание молчать. При этом бывший комиссар не задал даже ни одного вопроса.
В гостинице Афонин с удовлетворением узнал, что фамилии самоубийцы никому не сообщали, да никто ею и не интересовался. Проинструктировав директора о том, как он должен поступать в дальнейшем, если появятся корреспонденты газет, Афонин ненадолго заехал в управление, пообедал, а в пять часов дня вошел в подъезд дома па бульваре Гоголя, где жил Лозовой.
Дверь открыла пожилая женщина, как выяснилось потом, – мать Лозового.
– Александра нет дома, – ответила она на вопрос Афонина. – Немного не застали.
– Вы не можете сказать, когда он вернется?
– Думаю, что не скоро. Он ушел в гостиницу «Москва» повидаться с товарищем.
– А с кем именно, вы случайно не знаете?
– Знаю, с Николаем Михайловым. Воевали вместе. А вы, очевидно, тоже его фронтовой товарищ?
Афонии улыбнулся. Просто удивительно, как все, с кем бы он ни встречался, безошибочно угадывают в нем недавнего фронтовика.
– Нет, Александр Петрович меня не знает, – сказал оп. – Я действительно фронтовик, вы угадали. И мне очень, просто до зарезу, нужен товарищ Лозовой. Давно он ушел?
– С полчаса.
– А больше он никуда не собирался пойти?
– Кажется, никуда.
– В таком случае разрешите мне подождать его. Я думаю, что он скоро вернется.
Женщина с удивлением взглянула на Афонина.
– Пожалуйста, войдите! – сказала она. – Но я не думаю, чтобы он скоро вернулся. Фронтовые друзья…
– Видите ли в чем дело, – сказал Афонин. – Я точно знаю, что Александр Петрович не застанет Михайлова.
– Вы у него были?
– Нет, но я знаю точно.
– Если так, то конечно. Вот сюда, пожалуйста!
Она провела гостя в чисто прибранную комнату и оставила его одного.
– Уж извините! – сказала она. – Но у меня обед на кухне…
– Не церемоньтесь со мной, – попросил Афонин.
Как он и предполагал, ожидать пришлось недолго. Лозовой явился через пятнадцать минут. Афонин слышал, как мать, открыл ему дверь, сказала о нем. Ответа он не расслышал.
Лозовой пошел в комнату быстрой походкой, высокий, по-военному подтянутый, не только не на костылях, как ожидал Афонин, но даже без палки. Видимо, протез был сделан хорошо, и Лозовой успел к нему привыкнуть. На вид ему было лет тридцать, может быть даже меньше. Молодое лицо старила глубокая морщина между бровями и седая прядь в густых каштановых волосах, зачесанных на косой пробор.
Афонин сразу понял, что его визит неприятен Лозовому. Было очевидно, что он сильно расстроен и не расположен беседовать с кем бы то ни было.
Первые же его слова подтвердили это.
– Простите меня… – начал он, но Афонин поспешно перебил его.
– Я всё понимаю, – сказал он. – Вас расстроило известие о смерти вашего друга. Но я явился к вам как раз по этому самому поводу.
– Кто вы такой?
Афонин протянул свое служебное удостоверение. Брови Лозового сдвинулись, и складка между ними стала еще глубже.
– Мне сказали в гостинице, что Николай Михайлов скоропостижно скончался.
– Вам сказали правду.
– Тогда при чем здесь вы?
– Мне нужно, даже необходимо поговорить с вами. Если разрешите, сядем вот тут.
– Ах да, конечно! Извините меня. Я совсем забыл о том, что вы стоите.
– Ничего! Мне это понятно.
Когда оба сели, Лозовой нервным движением потер лоб.
Афонин вспомнил, что об этом жесте упоминал в своем рассказе Нестеров. Видимо, это была постоянная привычка Лозового.
– Вчера вечером, – сказал он, – Николай позвонил мне, сообщил о своем приезде в Москву и просил зайти. Мы договорились встретиться сегодня около пяти.
– В котором часу он вам звонил?
– В начале двенадцатого.
– Каким тоном он говорил с вами?
– Не понимаю вашего вопроса. Самым обыкновенным.
– Его просьба о свидании не звучала так, что ему необходимо видеть вас как можно скорее?
– Нисколько! Я же сказал, что мы договорились встретиться в пять часов.
– Он согласился на это охотно?
– Даже предложил сам. Я звал его к себе с утра, но он сказал, что раньше пяти не сможет освободиться.
– Почему же вы пошли к нему, а не он к вам?
– Право, не знаю, так вышло.
– Это очень важно, то, что вы рассказали!
– Почему важно?
– Это доказывает, что Михайлов вчера вечером не думал о смерти. Не удивляйтесь моим словам. Через несколько минут вы поймете всё. Вам сказали, от чего он умер?
– Ничего не сказали. Даже в какую больницу отправлено тело, они не знают. Возмутительное равнодушие! Я откровенно высказал директору гостиницы всё, что о нем думаю.
– Напрасно! Администрация гостиницы выполняет пашу просьбу. Я сам просил их никому ничего не сообщать. Так что дело не в равнодушии. Должен вас предупредить, Александр Петрович, что наш разговор не подлежит оглашению. Вы дадите мне слово.
– Да, конечно, – явно машинально сказал Лозовой. Он посмотрел на Афонина, и только тогда до него, видимо, дошел смысл слов гостя. Недоумение, растерянность, любопытство – всё сразу отразилось на его лице. – Но почему? Разве смерть Николая Михайлова тайна?
– Пока да. Нас никто не может услышать?
– Никто. В квартире никого нет, кроме нас и моей матери. Она на кухне, это далеко.
– Тогда слушайте.
Афонин подробно рассказал бывшему комиссару обо всем, что случилось утром в номере гостиницы «Москва». О своем визите к Иванову и Нестерову он не заикнулся.
Лозовой долго, очень долго молчал. Казалось, он, как и Нестеров, погрузился в воспоминания, забыв о госте. Афонин подумал, что отношение к Михайлову обоих этих людей одно и то же, что явствовало и из рассказа Нестерова.
– Странное дело! – сказал наконец Лозовой. – Но мне кажется, что такой конец логичен. Вас, конечно, удивляют мои слова, им ничего ни знаете, но это так…
Афонин ничего не сказал. Он знал достаточно, чтобы понять мысль Лозового, но хотел услышать от него рассказ о Михайлове еще раз. В изложении двух людей одни и те же события могут быть различно окрашены. Сопоставление этих рассказов может кое-что дать.
– Я понимаю теперь, – продолжал Лозовой, – цель вашего прихода ко мне. И готов рассказать всё, что знаю о Николае Михайлове.
– Я вас слушаю, – сказал Афонин.
Еще из рассказа Нестерова капитан составил себе ясное представление о характере Лозового. Теперь, даже после столь короткого знакомства, он был совершенно уверен – с таким человеком не нужны наводящие вопросы, Лозовой расскажет всё сам и именно так, как это нужно Афонину. Школа политработы на войне не проходит дня человека даром, она оставляет след в характере на всю жизнь.
Афонин почти не ошибся. Почти, потому что самый рассказ Лозового о появлении в их отряде Михайлова, о его поведении и о предполагаемой гибели ничем не отличался по существу от рассказа Нестерова. Но бывший командир отряда на этом и закончил, а Лозовой, как и надеялся Афонин, перешел к своим выводам, что было для капитана самым интересным.
– С самого начала, – говорил он, – я был уверен, что в жизни Николая есть какая-то тайна. И ясно было, что эта тайна относится не к довоенному времени, а к его боевой жизни. В то, что он действительно забыл о своем пребывании в партизанском отряде до того, как попал в плен, я не верил, хотя и должен был признать, что это возможно, учитывая контузию… И так же было ясно, что именно там, в том партизанском отряде, зародилась эта тайна. Не желая ее раскрывать, или потому что он не мог ее открыть, Михайлов был вынужден притворяться, что всё забыл. II эта же тайна заставляла его кидаться навстречу смерти. То, что он остался жив до конца войны, – не его «вина». Михаилов делал всё, чтобы быть убитым в бою. Именно в бою. Покончить с собой он мог и любую минуту. Мне кажется, что вам надо обратить особое внимание на это обстоятельство.
Афонин кивнул. Он не хотел прерывать мысли Лозового своими репликами. Пусть говорит всё, что думает. Слабые места в его рассуждениях капитан отмечал про себя.
– Я много думал о тайне Михайлова, – продолжал Лозовой, – особенно после его «смерти». И чем больше я думал, тем больше крепло во мне убеждение, что он… – Лозовой, словно споткнувшись на этом слове, тревожно посмотрел на Афонина. – Я еще раз заявляю вам, что наградной лист на Михайлова я подписал, придя к окончательному выводу. Я считал и считаю, что Николай Михайлов заслужил награду.
– Полностью с вами согласен, – сказал Афонии.
– Как много советских людей проявили малодушие в начале войны, и как много из них последующей жизнью заслужили полное прощение. Так что же могло произойти с Михайловым? – круто вернулся Лозовой к прежней теме. – Он попал в плен… Право, мне очень неприятно говорить вам про всё это, – к досаде Афонина, которую он, впрочем, ничем не показал, Лозовой снова свернул в сторону, – но вы должны знать всё. Иначе вы никогда не установите причину смерти Михайлова… Я думаю, он попал в лапы гестапо и не выдержал. Согласился сотрудничать, спасая этим свою жизнь. Но он не намеревался действительно служить гестапо. Его мучили угрызения совести. Этим объясняются его дальнейшее поведение и поиски смерти. И вот, оставшись чудом жив, узнав о высокой награде, он кончает самоубийством, не прощая себе проявленного малодушия и считая себя недостойным награды. Мне кажется, было так.
Лозовой замолчал, всё с тем же выражением тревоги на лице глядя на Афонина. Капитану было ясно: его собеседник искренне верит в правильность своей догадки и боится, что следственный работник может с ним не согласиться. Вероятно, Лозового даже оскорбляет мысль, что к его фронтовому товарищу, которого он любил и уважал, могут отнестись не так, как относится он сам. Когда несколько минут назад Афонин согласился с мнением Лозового, он говорил не совсем то, что думал, не хотелось спорить. Ему было важно узнать мысли Лозового, а свое мнение он не считал нужным высказывать. Его выводы из двойного рассказа о Михайлове были почти противоположны выводам бывшего комиссара.
– Если позволите, я задам вам несколько вопросов, – сказал он. – Но сперва я должен заметить, что вы напрасно стараетесь реабилитировать Михайлова в моих глазах. Поверьте, в этом нет никакой нужды. Я, так же как и вы, вполне убежден, что он был безусловно достоин… награды.
Лозовой не заметил легкой заминки перед словом «награда», тревога в его глазах исчезла.
– Первый вопрос. Чем вы руководствовались, когда противились расстрелу Михайлова в день его появления в вашем отряде? Тем более, что, по вашим же словам, вы не поверили тому, что он действительно всё забыл.
– В тот день, – ответил Лозовой, – вернее, на второй день, я не был уверен, что он помнит. Это пришло потом. А во-вторых, было совершенно очевидно, что Михайлов не агент гестапо, или, судя по его дальнейшему поведению, не намерен быть агентом. Слишком нелепо для гестаповца он себя вел. Я же говорил уже об этом, – немного удивленно сказал Лозовой.
Вопрос действительно мог показаться странным, но Афонин не хотел объяснять, чем он вызван, – это не входило в его планы. Поэтому он притворился, что не заметил удивления своего собеседника (пусть думает, что хочет), и задал второй вопрос:
– Михайлов бежал из лагеря для военнопленных с тремя товарищами. Я понял из вашего рассказа, что этот факт сначала вызвал у вас сомнения, но потом они отпали. Так вот, пытались ли вы узнать у него фамилии тех трех? И что вы думаете об этой детали сейчас?
– Да, пытался. Но он назвал только имена. Фамилий он не помнил, или никогда не знал. Не знал, конечно, потому что не бежал из лагеря, в котором никогда не был.
– Почему вы отказались от мысли, что он мог где-нибудь по пути получить чистую одежду?
– Потому что он сам как-то, месяца через три после прихода к нам, рассказал, что, идя на восток, не заходил никуда, прячась от людей.
– И вы оставили этот факт без внимания?
– К тому моменту у меня сложилось о нем твердое мнение. Если бы это выяснилось раньше – другое дело, а тогда я считал, что такая мелкая деталь не меняет общей картины. Я уже вполне был уверен, где он был.
– А где, по-вашему?
– Служил в полицаях. И находился как раз в том селе, на которое мы совершили налет в то утро. Это и объясняет – как он оказался в бою вместе с нами.
– Совершенно верно! – вырвалось у Афонина.
Но он тут же постарался замаскировать свой промах. В намерения капитана совсем не входило выдавать Лозовому свое согласие с его выводами. А это неизбежно случилось бы, обрати тот внимание на эти слова и начни расспрашивать Афонина. Поэтому он поспешил пояснить их сам:
– То есть, мне кажется, что это верно. Иначе трудно объяснить появление Михайлова в ваших рядах. Вы сами говорили, что присоединиться к отряду до нападения на опорный пункт он не мог.
– Никак не мог. В конце войны у нас было несколько бывших полицаев. И, как правило, они воевали, не щадя себя. Но Михаилов воевал геройски!
Лозовой так нажал на последнее слово, что Афонин понял: тревога за репутацию Михайлова еще не совсем покинула его.
«Велика сила боевой дружбы», – подумал Афонин.
Всё же он не удержался от реплике:
– Как бы хорошо ни воевал бывший полицай, мне кажется, что награда, к которой вы его представили, чрезмерно велика.
Он сказал это потому, что хотел выяснить до конца предположения Лозового.
Лозовой ответил так, как и ожидал Афонин:
– Мы с Нестеровым считали, что Михайлов только числился в полицаях. Допускали возможность, что он оказался в этом селе только потому, что отсюда гестапо намеревалось перебросить его к нам в качестве своего агента. Никаких преступлений против нашего народа Михайлов не совершил. Согласился только затем, чтобы скорее и любым путем попасть к нам. Мы были уверены, что его не в чем обвинить. И исходили из того, как оп воевал у нас. И то, что мы были правы, доказывает факт представления его к той же награде в отряде Добронравова.
– Это логично, – согласился Афонин. – Еще один, последний вопрос. Что вы подумали, когда узнали, что Михайлов жив и находится в отряде Добронравова?
– У нас, – ответил Лозовой, – Михайлова называли везучим. Я подумал тогда то же, что думали и другие: снова ему повезло. Я никогда не поверю, что он мог оказаться вторично в плену по своей воле.
– Я тоже так думаю, – на этот раз вполне искренно сказал Афонин. – Ну что же, Александр Петрович, спасибо за сведения. Я доложу начальству вашу точку зрения. Думаю, что с ней согласятся.
– А вы сами разве сомневаетесь?
Афонин решил покривить душой.
– Нет, не сомневаюсь, – сказал он. – Я считаю, что вы правильно разгадали причину смерти Михайлова. Но мое мнение не решающее. Я человек маленький.
Провожая своего гостя, Лозовой осведомился, когда состоятся похороны.
– Пока не знаю, – ответил Афонин. – Надо еще выяснить, есть ли у Михайлова родственники в Свердловске.
– Нет, – сказал Лозовой. – Николай несколько раз говорил, что он один на свете.
– Он мог жениться после войны.
– Думаю, что я знал бы об этом.
– Вы с ним переписывались?
– Он знал мой адрес. И одно письмо я от него получил.
– Это письмо вы сохранили? – с живостью спросил Афонин.
– Да, и могу вам его отдать. Но в нем нет ничего интересного для вас. Уверен.
– Не потеряйте его. Возможно, что оно еще пригодится.
По дороге в управление Афонин думал: «Лозовой скоро встретится с Нестеровым, а возможно, и с Ивановым. Разговор у них, безусловно, коснется смерти Михайлова. Лозовой узнает, что я был у них до него. Вряд ли они скроют это от Лозового. Им и в голову не придет, что моя просьба молчать может относиться и к нему. И сам Лозовой расскажет по той же причине. Нет, именно он, наверное, промолчит. Но не это важно. Главное то, что Лозовой выложит им свою версию».
2
Полковник Круглов любил свет. Зимой, к концу рабочею дня, и в летнее время, если ему приходилось задерживаться и управлении допоздна, его кабинет был ярко освещен.
Так было и сейчас. Когда Афонин вошел, горела большая люстра и настольная лампа под светлым, почти прозрачным абажуром.
«Хоть киносъемку производи», – поморщился капитан. В отличие от своего начальника он предпочитал мягкое и несильное освещение.
– Заждался тебя! – сказал Круглов, увидя в дверях Афонина. – Думал уж домой уезжать. Садись, Олег Григорьевич, устал наверное. И рассказывай.
– Я мог бы заехать к вам домой, Дмитрий Иванович, – заметил Афонин, поняв, что начальник задержался на работе только из-за него.
Круглов снял очки и принялся протирать стекла.
– Добился чего-нибудь? – спросил оп.
– Очень немногого. Появился небольшой просвет, но туман легко может сгуститься еще плотнее.
– Утешил! – Круглов надел очки. Это означало, что с посторонними разговорами покончено и наступает деловая часть беседы. – Недавно звонили из Свердловска. В комнате Михайлова не оказалось ни паспорта, пи фотографий. Ни документов, ни записок – ничего!
– Прекрасно!
– Что же тут прекрасного?
– Разрешите ответить на этот вопрос несколько позднее, – попросил Афонин. – Это очень важный факт и расширяет тот просвет, о котором я говорил.
– Прибавив при этом, что туман может сгуститься еще больше, – усмехнулся полковник. – Ну, ну! Давай рассказывай!
Слово «рассказывай» всегда заменяло у Круглова «докладывай», хотя он требовал от своих помощников не рассказа, а именно доклада. Афонин пришел в управление сравнительно недавно, но уже хорошо это знал.
– Разрешите вопрос?
– Да.
– Михайлов жил один?
– Один. Ключи он увез с собой. Дверь и ящики стола пришлось открывать, взламывая замки.
– Взламывая?
– Так мне сказали товарищи из Свердловска. Возможно, они имели в виду «вскрывая».
– Ни в вещах, ни в карманах Михайлова ключей не было, – сказал Афонин, мысленно прикидывая, насколько этот новый факт укладывается в составленную им для себя версию.
– Знаю, что не было. Начинай! – приказал полковник совсем другим тоном.
Афонин обладал хорошей памятью. Не заглядывая в блокнот, он сжато, но с необходимыми подробностями пересказал начальнику всё, что услышал от Нестерова и Лозового, не пропустив и версии последнего.
На версию полковник реагировал одним словом:
– Нелогично.
– Я сразу обратил на это внимание, – сказал Афонин.
Он замолчал, выжидательно глядя на начальника, не зная, нужно ли продолжать.
– Давай дальше! – сказал Круглов. – Выкладывай теперь свою версию, гипотезу, предположения – в общем, всё, что у тебя в голове. А я буду отмечать нелогичности у тебя. Говори так, как если бы я ничего не знал. Согласен?
– Конечно, товарищ полковник!
Афонин не сумел скрыть одобрительной улыбки. Такой метод был самым плодотворным и быстрее всего мог привести к цели. Впрочем, это было не ново, в управлении часто прибегали к такому способу обсуждения при расследовании уголовных дел, которые нередко бывали еще более запутанными, чем дело Михайлова.
– Ни Лозовой, ни Нестеров не обратили внимания на два очень важных факта, – начал Афонин. – Третьего они не знали, но его знаем теперь мы. Этот третий факт, не менее важный, чем два других, заключается в том, что Михайлов не хранил никаких фотографий, никаких писем, вообще никаких бумаг. Те, что у него были, он уничтожил перед смертью. Обычно люди так не поступают. На это должны быть серьезные причины. Можно было бы подумать, что и паспорт им уничтожен. Но это не так. Отсутствие паспорта ничего не значащая деталь. Уничтожать его Михайлову не было никакого смысла. Он просто потерял его в дороге, вместе с ключами, которые не мог выбросить, так как о самоубийстве не думал, а намеревался, получив награду, вернуться в Свердловск. Паспорт обязательно найдется…
– Пока еще не нашелся, – вставил Круглов.
Эта реплика сразу показала Афонину, что в своих умозаключениях полковник шел с ним параллельным путем, хотя до приезда Афонина и не знал того, что рассказывали Нестеров и Лозовой. Было очевидно, что Круглов давно отдал приказ искать потерянный документ по линии Свердловск-Москва.
– Фотографии на паспортах, как правило, очень плохи, – продолжал Афонин. – Таким образом, у нас нет ни одной хорошей фотографии Михайлова. Это не может быть случайностью.
– Пока не вижу основания для такого заключения, – сказал Круглов. – Михайлов пришел с войны недавно. То, что у него было до войны, могло пропасть, а новым он не обзавелся. Из Свердловска сообщили, что в его комнате вообще почти нет никаких вещей, она имеет вид случайного жилья. По словам Лозового, у Михайлова нет родственников, потому и нет писем. Многие люди не хранят разные бумажки, а уничтожают их. Паспорт, как ты сам говоришь, потерян. Вот всё и становится на место. Продолжай! Погоди! А те фотографии, которые ты видел у Нестерова?
– Совершенно непригодны для опознания. Они очень плохого качества. Только потому, что Нестеров сказал, что на них изображен Михайлов, я и смог узнать его. Но с равным основанием можно сказать, что там снят не он, а похожий на него человек.
– Так! Теперь продолжай!
– Перехожу к двум другим фактам. Лозовой, да, видимо, и Нестеров, хотя он и не говорил об этом, считают, что Михайлов намеренно скрыл от них свою тайну, заключавшуюся в том, что он малодушно изменил родине и согласился служить немцам. Отбросим вопрос о искренности его согласия, о том, имел ли он намерение действительно служить им или хотел только получить возможность перебежать к партизанам. Не будем придираться к тому, что гестаповцы не столь наивны, чтобы поверить на слово. Допустим, что Михайлову удалось обвести их вокруг пальца. Примем как факт, что план его удался и он достиг своей цели. Михайлов у партизан. Что же дальше? Во время войны мне много раз приходилось допрашивать перебежчиков, в том числе полицаев. И я не помню ни одного случая, чтобы раскаявшийся предатель пытался скрыть правду. Наоборот, они рассказывали всё, не щадя себя, и это вполне естественно и единственно правильно. Тем более не было смысла скрывать правду Михайлову, когда прошло время и его боевая жизнь заслужила всеобщее уважение в отряде. Я уже не говорю о том, что в самом начале скрытность угрожала ему почти неминуемым расстрелом. Чистая случайность, что он попал к такому комиссару, как Лозовой. А когда тот же Лозовой вторично заговорил с ним о его прошлом, Михайлов должен был полностью открыться. Иначе он просто не мог поступить. Однако мы видим, что он продолжает ту же линию, снова заявляет, что ничего не помнит. Такое упорство можно было бы объяснить тем, что преступление Михайлова настолько тяжко, что рассчитывать на прощение он не мог, несмотря на всё его геройство. Но тут возникает противоречие. Тяжкую измену совершают исключительно трусы, люди, для которых собственная шкура дороже всего. Трусам же не свойственно искать смерти, как это делал Михайлов, и уж, конечно, трус не покончил бы с собой, когда высокая награда начисто перечеркнула все его грехи. Одно с другим не вяжется, – это очевидно.
– Давай второй факт! – Брови полковника сошлись в одну линию, лицо было хмуро, а огромные за стеклами очков глаза возбужденно блестели.
– Второй факт еще резче бросается в глаза, и просто непонятно, как мог Нестеров, опытный партизанский командир, не обратить на него внимания. Когда Михаилов остался прикрывать отход отряда, у него был пулемет и семь гранат, из которых он использовал шесть. Как использовал? Судя по внешним признакам (при этих словах Круглов пристально посмотрел на Афонина сузившимися в щелку глазами), он использовал их, когда каратели подбирались к нему слишком близко. Пулемет также должен был нанести им значительный урон. Командир карателей, по словам Нестерова, – снова оговорился Афонин, – намеревался преследовать отряд с целью полного его уничтожения. Он должен был торопиться, так как приближалась ночь. И, несмотря на всё это, немцы даже не пытались покончить с одним человеком артиллерийским снарядом или миной. У них была артиллерия и были минометы, но, отходя, Нестеров не слышал ни одного выстрела из орудия или миномета. Окончились снаряды и мины? Маловероятно! А если прибавить к этому, что Михайлов оказался жив, то остается одни вывод – фашисты стремились во что бы то ни стало захватить его живым, что им и удалось в конце концов. К нему сумели подобраться и схватить раньше, чем он успел воспользоваться седьмой, последней гранатой. Так рисуется картина этого боя из рассказов Нестерова и Лозового.
– А по-твоему?
– Мне трудно в это поверить. Зачем было нести лишние потери роди захвата одного человека? Что он мог им дать, если по числу убитых, оставшихся на месте боя, они видели, что отряд почти целиком уничтожен? Какие ценные сведения они могли получить от Михайлова? Игра явно не стоила свеч. Не дураки же они в конце концов! К тому же Михайлову удалось вторично бежать из плена. Это уже вовсе странно. Не в обычае фашистов оставлять в живых партизана, нанесшего им тяжелые потери и попавшего в их руки.
– Когда он попал в плен в первый раз, они его также пощадили, – заметил Круглов.
– Да. А мы знаем, что партизан, как правило, вешали.
– Дальше!
– Видимо, именно Михайлов был почему-то очень им нужен. По известным нам фактам можно заключить, что командир карателей узнал, кто остался прикрывать отход отряда…
– Например, рассмотрел его в бинокль.
– Возможно и это.
– А что еще?
– Не знаю. Так или иначе Михайлова узнали и опять-таки почему-то должны были схватить живым. Командир карателей от кого-то получил такой приказ. И выполнял его, не считаясь с потерями.
– Что же дальше?
Чуть насмешливая улыбка полковника показала Афонину, что его ответ уже не нужен. Но он счел себя обязанным ответить, раз начальник спрашивает:
– Дальше, если мы хотим сами быть логичными, возможен единственный вывод. Всё это настолько неправдоподобно, что не может быть правдой.
– Кто же лжет?
– Конечно, не Нестеров и не Лозовой.
– Ты считаешь их обоих неспособными к логическим выводам?
– Отнюдь нет. Но со стороны всегда виднее. Оба говорили мне, что весь отряд «влюбился» в Михайлова. И они сами были «влюблены» в него. Вот поэтому-то они и не заметили очевидных неувязок.
– Несмотря на то что многий факты, в их же изложении, говорят не в пользу Михайлова?
– Да, несмотря на это. Только бывший педагог и секретарь райкома комсомола (им был до войны Лозовой), люди глубоко гражданские, могли так легко поверить, что немцы не сумели в течение почти тридцати минут справиться с одним человеком при наличии у них минометов и артиллерии.
– А как же с двумя другими случаями, когда Михайлов оставался прикрывать отход и успешно справлялся с задачей?
– К сожалению, я не догадался спросить, сколько времени выполнял он эти задачи.
– Значит, инсценировка, так я тебя понял?
– Выходит, так.
Полковник с минуту размышлял.
– По существу мне возразить нечего, – сказал он. – Хотя твоя версия кажется мне ошибочной. Я не буду напоминать о том, что Михаилов искал смерти. Ты это и сам хорошо помнишь. Но твое восклицание в самом начале нашего разговора «прекрасно!», видимо, следует понимать так, что дальнейшее следствие надо передать в Госбезопасность?
– Да!
– А к чему оно, если Михайлов мертв? – На этот раз полковник посмотрел на Афонина, не скрывая насмешки. – Не является ли эта весьма остроумная версия результатом твоего стремления избавиться от этого дела?
Афонина передернуло. Круглов не подал вида, что заметил.
– Я прекрасно понимаю, что мое предположение, – Афонин не сказал «версия», – шатко и можно найти веские возражения. Но иначе я не могу объяснить историю боя Михайлова с батальоном карателей.
– На мой вопрос ты не ответил, – констатировал Круглов. – Госбезопасность откажется от расследования, раз объект мертв.
– Если он мертв, – как бы поправил полковника Афонин.
– То есть как это «если»? Нестеров узнал Михайлова по фотографии.
– Фотография, снятая с мертвого… Похожие люди встречаются более часто, чем принято думать.
– Ты это серьезно, Олег Григорьевич?
– За это говорят факты, – уклончиво ответил капитан.
– Отсутствие фотографий и бумаг?
– Именно.
– Кто был человек, застрелившийся в гостинице?
Афонин молча пожал плечами.
В кабинете снова наступило молчание. На этот раз оно было продолжительным.







