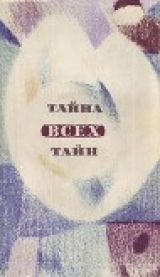
Текст книги "В мире фантастики и приключений. Выпуск 7. Тайна всех тайн"
Автор книги: Станислав Лем
Соавторы: Сергей Снегов,Георгий Мартынов,Илья Варшавский,Геннадий Гор,Лев Успенский,Аскольд Шейкин,Александр Мееров
Жанры:
Научная фантастика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 45 страниц)
Зачем он это сделал в уже не слишком для него благоприятной ситуации? Может, из гордости, не хотел даже себе признаться в поражении, может, особенно уязвило его то, что он приписал мне ясное понимание обстановки, которого у меня не было. Он наверняка сделал это не из страха, я не верю, будто Кэлдера пугал ничтожный шанс благоприятного прохода сквозь щель. Он вообще не фигурировал в его расчетах; то, что Куину удалось нас провести, – о, это была чистая лотерея!..
Если бы Кэлдер обуздал свое желание отомстить мне – ведь я сделал его смешным и собственных глазах, поскольку мою тупость он принял за проницательность, – он не стал бы чересчур рисковать; что ж, попросту вышло бы по-моему: своими поступками, недисциплинированностью Кэлдер подтвердил бы правильность моего мнения, а именно этого он не хотел, с этим не мог согласиться. Он предпочитал любой другой выход…
Всё-таки это странная история, я так хорошо понимаю его поведение и по-прежнему беспомощен, пытаясь объяснить собственное. Рассуждая логически, я могу воссоздать каждый его шаг, но не в состоянии объяснить собственного молчания. Сказать, что я был просто в нерешительности… Нет, это не соответствовало бы истине. Так что же, собственно, произошло? Сработала интуиция? Предчувствие? Где там! Просто эта возможность, подсунутая мне аварией, очень напоминала игру краплеными каргами, грязную игру. Я не хотел ни такой игры, ни такого партнера, а Кэлдер становился им, стоило мне отдать приказ. Тем самым я как бы одобрил возникшую ситуацию, а значит, согласился с ней. Я не мог решиться ни на это, ни на приказ о возвращение, о бегстве, хотя такой приказ был бы самым правильным, – но как бы я его потом сумел мотивировать? Всё мое сопротивление, мои сомнения базировались на смутных представлениях о честной игре… Совершенно не материальных, не поддающихся переводу на профессиональный язык космонавтики… Только представьте себе: Земля, комиссия, расследующая инцидент, и я, объясняющий, что не выполнил поставленной задачи, хотя, по моему мнению, это было технически возможно, так как подозревал первого пилота в такого рода саботаже, который должен облегчить мне дискредитацию части команды. Разве это не прозвучало бы как нелепейший бред?
Вот я и медлил – от растерянности, от чувства беспомощности, даже отвращения, и при этом своим молчанием давал Кэлдеру – так мне казалось – шанс на реабилитацию. Он мог доказать, что подозрение в умышленном саботаже несправедливо; он должен был обратиться ко мне с просьбой отдать приказание… Человек на его месте, несомненно, сделал бы это, но его первоначальный план такой просьбы не предусматривал. Вероятно, поэтому он казался Кэлдеру более чистым, элегантным: произвести экзекуцию над собой и своими товарищами я должен был сам, без единого слова с его стороны. Больше того: я должен был еще и принудить его к определенным действиям, как бы вопреки его знаниям, превосходящим мои, вопреки воле; а я продолжал молчать. В конечном счете нас спасла – а его погубила – моя нерешительность, моя медлительная «порядочность», та самая человеческая порядочность, которую он так беспредельно презирал.
Октябрь 1967 Краков
Перевод с польского Дм. Брускина
Сергей Снегов
ОГОНЬ, КОТОРЫЙ ВСЕГДА В ТЕБЕ

Создателем индивидуальной музыки общепризнан Михаил Потапов. Лишь на концерте Потапова – концерт состоялся первого мая 2397 года по старому летосчислению – изумленное человечество познакомилось с этой повой и такой ныне популярной формой музыкального самозвучания (сам Потапов употреблял, как известно, термин «музыкальное самопознание»). Вместе с тем не следует думать, что новая форма музыки появилась сразу готовая, как древняя религиозная деятельница Афродита из морской пены. У великого творения Потапова есть не только история, повествующая о том, как оно заполнило в короткий срок умы и чувства, но и предыстория – и, к сожалению, трагическая.
Недавно разбирали архив известных физиков прошлого века, единоутробных братьев Генриха Васильева и Роя Рупперта. Среди прочих документов нашли и материалы, бросающие свет на истоки индивидуальной музыки. Материалы эти будут опубликованы в сорок седьмом круге пленок «Классики науки», а здесь мы воспроизведем лишь речь Роя на собрании членов Общества классической музыки. Речь эта никогда не передавалась в эфир и не печаталась в официальных пленках общества. Возможно, это объясняется тем, что классическая музыка, имеющая сегодня немало поклонников, в те годы почти полностью была забыта: собрания ее немногочисленных адептов не привлекали широкого внимания.
Ниже дан сохранившийся текст речи, – начало, к сожалению, утрачено.
1
…Это произошло незадолго до последней болезни Генриха. Он уже прихварывал: ранения, полученные при загадочной аварии звездолет на Марсе, – тайна, впоследствии им же с таким блеском распутанная, – были залечены, но полное выздоровление еще не наступило. Внешне Генрих оставался бодрым, красивым, быстрым, но я уже смутно догадывался, куда идет дело, и в один нехороший день – я потом объясню, почему он нехорош, – силой вытащил брата из лаборатории.
– Ты дурак, Генрих, – сказал я. – А я скотина. Не спорь. Я не терплю преувеличений и что говорю, то – объективная истина.
– Я не спорю, – возразил он кротко. – Но я хотел бы знать, чего тебе от меня надо?
– Сейчас мы выйдем наружу. И будем ходить по городу. И погуляем в парке. А возможно, слетаем на авиетках к морю и покувыркаемся на волне. И если мы этого не сделаем, я буду чувствовать себя уже не скотиной, равнодушно взирающей, как брат неразумно губит себя, а прямим убийцей.
Он с минуту колебался. Он глядел на приборы с грустью, словно расставался с ними надолго. Мы в это время расследовали записи второго механика звездолета «Скорпион», единственного человека, оставшегося в живых после посадки галактического корабля на планетку Аид в системе Веги. Загадок была масса, многие не разъяснены и поныне, а тогда всё казалось чудовищно темным. Генриху не хотелось бросать эту работу, мне тоже не хотелось, но это было необходимо, так ослабел Генрих. И я бы за шиворот оттащил его от приборов, если бы он не уступил.
Но он покорился, и мы вышли в город.
Я не буду описывать прогулку, самым важным в ней, как вскоре выяснилось, было то, что мы – на общую нашу беду – повстречали в парке Альберта Симагина.
Он несся по пустынной аллее, словно запущенный в десять лошадиных сил. У него был полубезумный вид, рот перекосился, он молчаливо, без слез, плакал на бегу. Генрих остановил Альберта.
Брат дружил с ним еще в школе. Мне же не правились в Альберте несдержанность, слишком громкий голос, глаза тоже были нехороши: я не люблю хмурых глаз.
– Откуда и куда? – добродушно спросил Генрих. Я особо подчеркиваю добродушие тона, с Альбертом Генрих всегда разговаривал только так. Я и сейчас не понимаю, чем этот шальной фантазер привлекал Генриха.
Альберт закричал, будто о несчастье:
– Из музея! Откуда же еще?
– Зачем же бежать из музея? – Как вы понимаете, это спрашивал Генрих, а не я. Я лишь молча рассматривал Альберта.
– Ничего ты не понимаешь! – Альберт яростно поднял мизинец. – Вот ни столечко! Просто удивительно, до чего люди бестолковы.
– Объясни – пойму.
Объяснением путаную, шумную речь Альберта можно назвать лишь условно. Я понял одно: и музее Альберт рассматривал недавно законченную картину Степана Рунга – четверку несущихся коней, не то «Фаэтон на взлете», не то «Тачанки в походе», названия не помню. Лихие лошадиные копыта сразили Альберта. Он ошалел от облика коней, его истерзала экспрессия бега, опьянила музыка спружинившихся мускулов, – именно такими словами он описал свое состояние. Картина ему звучала, он не так видел, как слышал ее, он сказал: «Трагическая симфония скачки». С этого и начался его спор с Генрихом. Генрих удивился:
– Вещь Степана я знаю, во мне она вызывает иные ассоциации. И если уж оперировать музыкальными терминами, то я бы сказал, что картина звучит весело, а не трагически.
– Чепуха! – прогремел Альберт.
Черноволосый, лохматый, с очень темным лицом, с очень быстро меняющимся выражением диковатых глаз, то вспыхивающих, то погасающих, он всегда казался мне малость свихнувшимся, а в этот день особенно. Колокольно гремящий голос его меня раздражал. И я опасался, что разговор взволнует Генриха, а ему было еще очень вредно волноваться. Генрих, правда, улыбался, а не сердился.
– Ты примитивен, – продолжал греметь Альберт. – Ты не понимаешь главного. Каждый слышит в картинах свою собственную музыку.
– Ты отрицаешь объективную реальность?..
– Я не отрицаю, я утверждаю. Отрицают люди, не умеющие создавать. Я создатель. Я утверждаю, что там, где тебе послышится хохот, мне раздастся плач.
– Но это и есть отрицание объективной всеобщности восприятия…
– Вздор. Это есть утверждение объективной всеобщности своеобразия. Ты проходишь мимо тысяч женщин равнодушно, а одна потрясает тебя, та самая, мимо которой равнодушие прошли все твои товарищи. Она зазвучала тебе, а другие не зазвучали. А если бы прав был ты, то все парни влюблялись бы в одних и тех же женщин, в тех, в которых больше объективных женских совершенств. Но ты ищешь в женщине свою музыку, а не глухие объективные добродетели.
– Странный переход от картины в музее к влюбленности в женщин!
– Нормально. Живопись – музыка красок, а любовь – музыка чувств и поступков.
– Короче, всё звучит?
– Всё звучит! Всё музыкально: вещи и дела, слова и чувства. И каждый человек воспринимает мир по-своему – музыка мира у каждого своя. Для тебя скачка коней на картине Рунга – веселая пляска, для меня – мрачный реквием.
Генрих радовался диковинам. Он лукаво поглядел на меня.
– Выходит, я услышу в пятой симфонии Бетховена шаги судьбы, а ты, Рой, драку у кабака.
– Не говори о Бетховене! – зарычал Альберт. – Древние мастера писали принудительную музыку. Они бесцеремонно навязывали слушателям созданные ими мелодии. Я же толкую о свободной музыке, которой звучат в твоей душе вот эти тучи, это солнце, эта зелень, эти дома, эти прохожие, сам ты, наконец, хотя, сказать честно, ты не очень хорошо звучишь!
Запальчивость Альберта всё больше веселила Генриха. В ту минуты и я порадовался, что он с увлечением спорит, я и догадаться не мог, к чему приведет этот странный спор.
– Как жаль, что твоя индивидуальная музыка – нечто абстрактное, ни па каком инструменте не услышать.
– Опять врешь! Такой инструмент есть! Я его сконструировал сам. Он записывает музыку моего восприятия. Я бежал из музея, чтоб не потерять ни одной ноты из зазвучавшей во мне мучительной симфонии бега. Встреча с тобой спутала гармонию инструментов моей души: вместо симфонии получится какофония. Идете оба к чертям! До нескорого свидания!
Генрих помахал ему рукой, я сказал:
– До свидания, Альберт! – И это были единственные слова, произнесенные мной за всё время встречи.
2
А на другой день мы узнали, что Альберт умер. И еще оказалось, что мы были последними, кого он видел перед смертью, это засвидетельствовал он сам, прокричав роботу-швейцару: «Поистрепал Роя и Генриха, вот же бестия Генрих, он жутко меня расстроил дурацкими сомнениями, но теперь я ему покажу, теперь я ему покажу!»
После этого он заперся в кабинете, оттуда послышались непонятные звуки, тоже запечатленные на пленке швейцара, а часа через два наступило молчание. Робот воспринял молчание Альберта как сон, но это была смерть.
Утром Генриха и меня вызвали в квартиру Альберта.
Он лежал на полу около неисчезнувшего силового дивана, – очевидно, скатился в агонии, так и не успев ни крикнуть на помощь, ни выключить интерьерное поле. Я часто видел мертвых и на Земле, и в космосе, в последние годы нам с Генрихом приходилось распутывать загадки многих непонятых смертей, но такого странного трупа мы еще не видели. Тело Альберта свела жестокая судорога, а руки и йоги были столь невозможно выкручены, что казалось, это немыслимо сделать, не ломая костей. Но кости были целы, – так установила медицинская экспертиза. Первым, что бросалось в глаза, был этот ужасный вид тела, молчаливо кричавший о безмерном страдании. И вот тут начинается странное – на лице Альберта закоченело выражение счастья: он радовался своей гибели, он ликовал, он восхищался, – такое у меня создалось впечатление, и чувство, возникшее у Генриха, было такое нее. И другой странностью было почернение тела: Альберт словно бы обгорел и закоптился.
Я стоял с минуту около трупа, потом отошел. Мне страшно было глядеть на Альберта. Я не дружил с этим человеком, как Генрих, но неожиданная его гибель была так ужасна, что разрывалось сердце.
– У тебя губы трясутся, Рой, – сказал Генрих. Он сам еле держался на ногах от волнения. – Мне кажется, тебе плохо.
– Не хуже, чем тебе, – возразил я, силясь улыбнуться. – На тебе тоже лица нет. Смерть есть смерть, ничего не поделаешь. Это единственное, чего нельзя перенести.
В комнате уже были следственные врачи, я обратился к ним:
– Что случилось с Альбертом?
Один из врачей ответил:
– Похоже на отравление каким-то ядом, вызывающим гибельное повышение температуры. Ожоги на теле, судя по всему, произошли от внутреннего огня. Точно узнаем на вскрытии, а пока скажу: в моей практике еще не было столь загадочной смерти.
– В моей тоже, – сказал я. Генрих молчал и осматривался. Не помню случая, чтобы Генрих сразу высказал свое мнение в трудных ситуациях, ему надо было предварительно сто вещей посмотреть, сто мыслей продумать, прежде чем он решится выговорить хотя бы одну фразу.
В комнате стоял незнакомый аппарат, и вокруг него стал кружить Генрих, после того как справился с первым волнением. Труп отнесли в морг, я отвечал и за себя и за Генриха на вопросы следователей-врачей, сам задавал им вопросы – на три четверти они ответить не смогли, – потом поинтересовался, что обнаружил Генрих. Ничего важного он не открыл. Аппарат был усилителем электрических потенциалов, довольно сложное сооружение, но для чего он предназначен и как действует, понять из осмотра было непросто, а отпечатанной схемы ей на приборе, ни в комнате мы не нашли.
– По-моему, эта штука связана с работой мозга, – проговорил наконец Генрих. – Вот эти гибкие зажимы накладываются на руки, эти на шею…
– А эти проглатываются, – хмуро сострил я, показывая на два небольших шара. – Закуска неудобоваримая, что, впрочем, Альберт и доказал своей гибелью. Но ты прав: в момент смерти Альберт держал зажимы…
Так мы еще некоторое время перебрасывались словами, а потом на стереоэкране зажглась картина вскрытия трупа, и мы, не выходя из комнаты Альберта, стали свидетелями того, чти происходило в морге. Вывод прозекторов был таков: Альберт скончался от ожога, охватившего всё его тело, это был редчайший случай внутреннею самовозгорания, гибель от пламени, промчавшегося по нервам, бурно закипевшего в артериях и венах, безжалостно обуглившего кости и мышцы. Один из медиков сказал, что в древние времена насквозь проспиртованные алкоголики, у которых в крови было больше спирта, чем кровяных шариков, вот так же воспламенялись, когда к ним подносили спичку. Другой возразил, что Альберт алкоголиком не был и горящей спички к нему не подносили.
Этот медик считал, что гибель – от электрического тока: если на тело наложить электроды, подвести напряжение в несколько тысяч вольт, то сквозь ткани промчится ток такой (или, что порожденная им теплота изнутри убьет человека. Третий медик заметил, что электрической казни Альберта не подвергали, а сам он не смог бы выбрать подобный вид самоубийства, ибо у него не было высоковольтной аппаратуры. Этот рассудительный медик собственного суждения о причинах смерти Альберта не имел.
Я попросил следователя, вместе с нами наблюдавшего стереокартину вскрытия:
– Разрешите нам остаться в квартире Симагина. Мы хотели бы на месте трагедии поразмыслить о ее причинах.
Он ответил, по-моему, с большим облегчением:
– О, пожалуйста! Мы будем признательны, если вы прольете свет на загадку этой смерти.
3
– Ну? – сказал Генрих, когда мы остались одни. – Не сомневаюсь, что у тебя уже готова версия драмы, и настолько невероятная, что только она одна справедлива. Ибо ты не раз говорил, что загадки потому только и загадки, что в основе их лежат редкие причины, а мы чаще всего ищем тривиальностей. Или не так?
Он шутил с усилием, у него было грустное лицо. Вы понимаете, что и мне было не легче. Но я поддержал его иронический тон, чтоб не дать расходиться нервам. Меня всё больше беспокоило состояние Генриха. Мы в свое время раскрыли тайну гибели Редлиха, были свидетелями трагической кончины Андрея Корытина, очень близкого нам человека. Всё это были грустные истории, наш успех в распутывании тех тайн не доставил радости ни Генриху, ни мне. Но еще ни разу я не помнил Генриха таким подавленным. Теперь я знаю, что он уже скрыто был болен, но тогда еще не понимал этого, сверхмудрые медицинские машины тоже не оказались проницательными. Одно я представлял себе отчетливо: Альберта уже не воскресить, нужно, чтоб рана, нанесенная его гибелью Генриху, не оказалась непосильной тяжестью для брата.
– Искал, конечно, невероятного, но в голову лезут одни тривиальности, – сказал я.
– Ладно. Объяви свою тривиальность, если на невероятное стал не способен.
Всё было в манере наших обычных разговоров. Генрих часто издевался над моим методом работы, хотя все важные идеи, принесшие этому методу известность, принадлежали ему, а не мне. Он был такой – сперва насмехался, потом загорался.
И в тот день, начиная рассуждение, я не сомневался, что где-то в середине он, увлекаясь, прервет меня и продолжит сам – и гораздо лучше продолжит, чем мог бы сделать я.
– Альберта сжег внутренний пламень, – сказал я. – Так установили медики. Остается раскрыть, что породило губительный пламень. Алкоголь отпадает, электрический разряд тоже. Тем не менее был какой-то физический агент, породивший испепеляющий огонь.
– Иначе говоря, смерть чудом не произошла. С таким проницательным выводом согласиться можно.
Я спокойно продолжал:
– Итак, глубинное потрясение. Что могло потрясти Альберта? Он умер через несколько часов после встречи с нами. Робот свидетельствует, что, раздраженный твоими возражениями, Альберт собирался тебе что-то показать. И оно, это пока непонятное нам «что-то», его доконало.
– Стало быть, я косвенно являюсь причиной его смерти?
– Не ты, а то, чем он собирался побить тебя в споре. Какой-то неопровержимый аргумент против тебя, который он разыскал, – вот что погубило его.
– Постой, постой! – сказал Генрих. Брошенная мной – и неясная мне самому, признаюсь честно, – мысль ужо прекращалась у него во всё одаряющую идею. Так и раньше бывало, так было и в тот раз. – Давай вспомним, о чем мы спорили с Альбертом. Я утверждал, что музыку великих композиторов все люди воспринимают, в общем, одинаково, а он возражал, что у каждого в душе создается своя особая музыка и что при помощи такой индивидуальной музыки люди познают мир. «Всё звучит – вещи, слова, чувства», – разве не так он сказал?
– Именно так. Но чем он мог опровергнуть тебя? Я говорю об этом: «Теперь я ему покажу!»
– Только одним: показать физически, что вещи и события создают в его психике музыку! Он сказал, что картина Рунга воображается ему трагической симфонией, неким мрачным реквиемом. Я был бы опровергнут, если бы ему удалось записать эту симфонию, и не просто записать, как нечто им сотворенное, – так работают все композиторы, но и показать, что каждый звук порожден картиной.
– Итак, Альберта сожгла музыка, порожденная картиной Рунга. А накал ее вызван страстным желанием убедить тебя, что музыка вещей реально существует. Но как и где зазвучала убийственная музыка?
– Этого пока не знаю. Надо думать.
Генрих быстро заходил по комнате. Он всегда молчаливо, возбужденно бегал взад и вперед, когда его озаряла новая идея.
– Вот он, убийца Альберта! – сказал Генрих и показал на аппарат, возвышавшийся посреди комнаты.
4
Мне тот аппарат тоже казался подозрительным, но утверждать, что в нем корень несчастья, я бы не решился. Ни одно из моих сомнений Генрих не опроверг. Он умоляюще поднял руки:
– Не требуй от меня слишком многого. Я еще не нашел, а ищу. Это пока голая идея.
– Любые идеи, голые или наряженные, надо доказывать. Лишь диспетчерам, возглашающим посадку в планетолеты, верят на слово.
Мы опять с осторожностью осмотрели аппарат. Оп не кусался, но и яснее не стал. В нем таилось, по крайней мере, две загадки: непонятно было, для чего он, и еще темнее – как он действует. Генрих стоял на воем: в аппарате материализовалась музыка, испепелившая беднягу Альберта. И до самой кончины несчастный не понимал, что гибнет, вот отчего на лице его окаменело выражение счастья, когда тело перекрутила судорога паралича.
– Я приду к тебе на помощь, – сказал я Генриху. – Я знаю, где источник питания таинственного аппарата. Если в нем создавалась музыка души Альберта, то питался он жизненной энергией его тела. Не надо искать подключений к внешним энергетическим станциям. Аппарат – вампир, высасывающий тело, чтоб усладить душу.
Генрих задумчиво смотрел на гибкие провода с зажимами на конце.
– Это можно проверить, Рой. Если я закреплю зажимы на своих руках…
– Ты их не закрепишь там, Генрих. Ты меня часто раздражаешь, это верно, но погибнуть на моих глазах я тебе не разрешу.
– Если это будет на твоих глазах, я не погибну. А ты должен понять, что иного способа проверки не существует.
Тут я приближаюсь к самому трудному пункту моего рассказа. Как и осмелился поставить такой опасный эксперимент на человеке с расстроенным здоровьем, к тому же на моем брате?
Ответить на этот вопрос сейчас, после всем известных событий, не просто, тем более что я хочу объяснить факты, а не оправдываться.
В продиктованной мной большой биографии Генриха, где я подробно рассказывал о наших совместных работах, я уже отмечал, что Генрих бывал невыносимо упрям.
Он мог кричать и упрашивать, был то мучительно молчалив, то еще мучительней красноречив, умел находить такие неожиданные аргументы, что парировались они лишь с трудом, если их вообще удавалось парировать. Об этой особенности его характера часто забывают историки наших работ, но я не мог с ней не считаться.
Но главное было всё-таки не в том. С упрямством Генриха я как-нибудь справился бы, противопоставив ему собственное упрямство. Была и другая причина, почему я согласился, – и очень важная причина, смею вас уверить! Вначале мы ставили опыты над собою попеременно, даже чаще подопытным бывал я, с детства у меня здоровье крепче.
Ничего хорошего из этого не вышло. Генриху не хватало хладнокровия, чтоб руководить рискованными опытами. Он то увлекался экспериментом и забывал обо мне, то, пугаясь моего состояния, раньше времени обрывал опыт. В твоей выдержке я был уверен больше. Вы вскоре убедитесь, что если, в общем, это правильно, то в конкретном том случае я переоценил себя, и это едва не породило новую трагедию.
– Согласен, по ставлю жесткие условия, – объявил я. – Первое: мы раньше обследуем этот прибор в нашей лаборатории. И пока не получим его подробной схемы, никаких экспериментов не будет. Второе: если в этом дьявольском сооружении создается музыка, то ее должен воспринимать не ты один, но и, но крайней мере, второй слушатель – я. Стало быть, раньше разработаем приставку, делающую явными неслышные внутренние звуки, потом начнем вызывать их к жизни или, вернее, к смерти, ибо звуки эти – убийцы. И последнее: чтоб установить, насколько музыкальна продукция этого треклятого аппарата, мы пригласим на испытание еще двух человек – толкового медика из породы тех, которые не только лечат болезни, но и привлекают к ответственности объекты, вызывающие заболевания, и настоящего музыканта, умеющего и воспроизводить музыку, и критически в ней разбираться.
– Медика ты найдешь легко, – сказал Генрих, усмехаясь. – Но отыщешь ли столь всесторонне одаренного музыканта?
– Уже отыскал. И могу тебя заверить – парень что надо!







