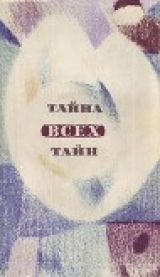
Текст книги "В мире фантастики и приключений. Выпуск 7. Тайна всех тайн"
Автор книги: Станислав Лем
Соавторы: Сергей Снегов,Георгий Мартынов,Илья Варшавский,Геннадий Гор,Лев Успенский,Аскольд Шейкин,Александр Мееров
Жанры:
Научная фантастика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 45 страниц)
– Времени ушло слишком много. Особенно на проверку последней серии облучений. Сколько вам нужно еще?
– Я попытаюсь… попытаюсь в течение ближайших двух… трех месяцев…
– Двух, – отрезал директор.
– Хорошо.
Вот только тогда, стараясь сделать это незаметно, Крэл посмотрел на Нолана. По лицу Нолана невозможно было определить, какое впечатление на него произвел поступок Крэла.
* * *
Конец недели Крэл обычно проводил в Асперте. Ехать туда приходилось долго: электропоездом, затем автобусом. Крэл попадал в пансионат только поздно вечером, однако мирился с этим неудобством. Его привлекала дешевизна уютного пансионата, красота гор, окружающих маленькую долину, и прелесть кристального синего озера у самого Асперта. Тихий захолустный поселок обладал еще одним преимуществом, которое Крэл особенно ценил: в Асперте можно было отдохнуть, не рискуя встретить кого-нибудь из знакомых. Но однажды, вскоре после совещания у Оверберга, в один из субботних вечеров, такая встреча всё же произошла. Совершенно неожиданная, она и насторожила Крэла, и обрадовала.
Наступала ночь. Прохладная, безветренная. На террасе, обращенной к горам, за маленькими, на двоих, столиками народа было немного. Кто-то потягивал коктейль, кто-то склонился над шахматной доской. Под низкими, разноцветными абажурами, стремясь к свету, роилась мошкара, незлобивая здесь, в предгорьях, плохо приспособившаяся к отсутствию ночного тепла. Горы были совсем близко, но они не теснили приветливую долину, а, казалось, защищали ее от неспокойного мира. Крэла всегда тянуло в горы. Лейкемия в последние годы донимала всё больше, а в Асперте ему становилось значительно легче, Асперт давал зарядку на неделю.
Здесь, под боком у вечных исполинов, представлялись незначительными, легко преодолимыми. Однако в последнее время даже привычный отдых в горах плохо помогал отключиться от настойчивой, постоянно беспокоящей мысли: «Как распорядиться открытием?»
В Асперте – там уже погасли огни, – на островерхой колоколенке пробило одиннадцать. Кофе остыл, книга лежала закрытой – сосредоточиться мешала будоражащая джазовая музыка, которая непрестанно лилась из репродукторов, – и Крэл уже собрался встать, как вдруг у столика появился Альберт Нолан.
– Можно? – Нолан показал на свободное место.
Крэл впервые встретился с Альбертом Ноланом вне института и почувствовал некоторую скованность, неловкость в его присутствии. Прежде всего удивительным показалось, почему Нолан приехал в Асперт, хотя обычно он отдыхал в более комфортабельных местах. Случайно это или намеренно?
Крэла всегда тянуло к Нолану, он ценил каждую возможность общения с этим обаятельным и утонченным человеком. Часто хотелось, прервав деловую беседу, вызвать на разговор, совсем не касавшийся работы, но мешала суховатость Нолана, казалось, оберегающего в себе что-то потаенное, недоступное.
Нолан сел за стол и заказал ужин. Говорил он непринужденно, остроумно, и Крэл увидел в нем совершенно не знакомого человека. Таким его не знали в институте. Но вскоре неторопливые рассуждения профессора о новеллах Тенеллана стали раздражать его, и он прервал игру:
– Остался месяц.
Нолан сразу понял и замолчал. Он продолжал курить свою длинную, удивительно приятную по форме трубку. Потом достал узкий конверт и протянул Крэлу. На конверте, запечатанном перстнем Альберта Нолана, тонким пером было написано: «Доктору Арнольдсу». И всё.
– Я это приготовил для вас, Крэл. Может случиться, что в институте… Нолан, видимо, с трудом подыскивал подходящее слово, – в институте ваша… медлительность покажется подозрительной, и вас уволят. В этом случае, разумеется, получить работу будет очень трудно. Вот тогда, если хотите, поезжайте к «старику». Он возьмет вас к себе…
– Это тот самый Арнольдс?
– Да, тот самый, – понимающе улыбнулся Нолан.
Крэл едва пришел в себя: ведь попасть к «старику», в его знаменитую, известную всему миру школу-лабораторию – это значило получить огромные возможности для работы, это давало такую обеспеченность, какой мог позавидовать любой ученый. Это предвещало славу!
– Не могу! – Крэл возвратил конверт Нолану. Нолан оставался внешне спокойным, он только зачем-то стал разжигать непотухавшую трубку, а Крэл продолжал уверенней. – Сделать так, как предлагаете вы, поступиться честью? Нет, нет…
Нолан резко выпрямился в кресле. Крэл смешался и заговорил совсем тихо:
– Я не хотел вас оскорбить, поверьте, но утаить открытие?.. Как можно! Ведь всё нужное для работы мне предоставлял институт, я получал деньги и вдруг не отдам то, за что мне уже заплатили… Но, разумеется, главное в другом. Прежде всего я – ученый, и, следовательно, сделанное мною принадлежит не мне одному.
Было поздно. Взошла луна. Теперь она освещала не только вершины Навреса, а и спокойное море тумана, надежно укрывавшего спящий внизу Асперт. Сейчас поселок казался погруженным в тихие воды, замерзшим, сказочным. На террасе одна за другой гасли разноцветные лампы над столиками. Нолан, помешивая остывший кофе.
– Кому должно принадлежать открытие? – проговорил он. – Кому отдать то, во что вложен ум, душа, наконец, жизнь? Тому, кто заплатил? А может быть, гораздо выше, значительней и безмерно ценней именно то, что купить нельзя, – творчество? Кто же, кроме самих ученых, вправе распоряжаться этим?
Крэл впервые увидел, что Нолан, мнение которого обычно воспринималось окружающими как нечто безапелляционное, сам ищет, пытаясь решить задачу, сложную даже для него. Крэл уже справился со смущением, старался противиться внутренней силе Нолана, огромному влиянию, какое он всегда умел оказывать на собеседника, и вопрос задал твердо:
– Неужели и вы разделяете заблуждение тех ученых, которые считают, что наука должна, вернее, может стать над или вне политики?
– Ответить на это трудно. Да, я считаю, что ученые могут много. Очень много, и я надеюсь… А вот порой… Я устал, слишком устал, и, может быть, поэтому мне иногда представляются тщетными всё наши усилия. Но я креплюсь… Знаете, Крэл, я не люблю бесплодно терзаться по поводу зол нашего плохо устроенного мира и не принадлежу к числу тех ученых, которые негодуют, возмущаются, просто в ужас приходят, когда их открытия вдруг – какая наивность! – политики используют для того, чтобы мир наш, и без того устроенный плохо, сделать еще страшней, еще отвратительней. Совесть у таких ученых очень чувствительна, стремление быть объективными безудержно. Совесть они успокаивают в доверительных беседах с единомышленниками, объективность проявляют, время от времени подписывая какое-нибудь очередное воззвание, и… и усердно продолжают плоды трудов своих вкладывать в пасть чудовища, именуемого милитаризмом. Что же касается честных ученых, то… Считается аксиомой: голод и любовь движут людьми. Совершенно верно, но этого мало. Человек прежде всего созидатель, а ученые – наиболее характерная в этом отношении резко выраженная часть человеческого общества – самое сильное, ни с чем не сравнимое удовлетворение они получают в процессе созидания, в творческом процессе, то есть открывая новое. А дальше получается совсем просто: сделанные учеными открытия входят в мир и начинают существовать уже независимо от ученых и даже от тех, кто стремится овладеть открытиями… Вот только те открытия, которые не делают мир чище и лучше, рождаться не должны. А если они и возникают, то их надо…
– Убивать или прятать? А кто возьмет на себя ответственность и смелость решать, какое открытие можно отдавать людям, а какое следует убить, как только оно родилось? Я думал: способен ли я на это? Нет. Не могу. А в данном случае я не только не счел себя вправе принимать решение, но, к стыду своему, впервые в жизни задал себе вопрос: кому нужны мои работы? Согласитесь, решить, сколь опасно открытие, можно только при условии, когда известно, кого именно открытие может заинтересовать.
Крэл пытливо посмотрел на Нолана, ожидая, что он хотя бы теперь приподнимает завесу. Нолан молчал.
– Я мучился все эти недели. Вам нельзя не верить, но поймите… Словом, я должен был разобраться во всем этом… Забросил опыты – мне противно стало прикасаться к гиалоскопу – и начал поиски. С энтомологии, конечно. Казалось, уж если научился влиять на ферментативные процессы при метаморфозе, то где же как не у энтомологов разыскивать вероятного заказчика. Таковых не обнаружилось. Тогда пришлось расширить круг поисков, влезть в области самые разные, вплоть до пищевой промышленности и технологии производства парфюмерных отдушек, понадобилось даже обратиться к патентной литературе, изучить спрос, стараясь выявить, кого может заинтересовать новый способ синтеза ферментов. Ничего. И вместе с тем – тема заказная. Кто же заказчик? Узнать об этом в институте…
– В институте, – сказал Нолан, – заказчик не известен никому, кроме доктора Оверберга.
– И вас, конечно.
– Я знаю о нем не потому, что работаю у Оверберга.
– Потому что занимались этим раньше?
– Да!
– Оверберг дал мне два месяца сроку, – напомнил Крэл. – Остался один. Не так много времени, чтобы изменить свои убеждения. Я всегда был уверен: опасных открытий не существует, а есть опасные способы их применения. И еще одно. Мне кажется, чем значительней открытие, тем ярче проявятся обе его стороны.
Нолан опустил веки и медленно потер указательным пальцем висок.
– Вы правы, – Он открыл глаза и положил сухую, горячую ладонь на руку молодого человека. – Хорошо сказано: ярче проявятся обе стороны. Хорошо… Но, дорогой мой, вы рассуждаете как хомо сапиенс – человек Земли. Мыслите, и это, конечно, естественно, категориями земными, думаете об открытии, сделанном человеком и касающимся только человека. Но учтите: открытое нами – мной двенадцать лет назад, вами теперь – способно, в конечном счете, повлиять на общее состояние биосферы нашей планеты, способно разбудить силы, которые, быть может, окажутся враждебными человеку, чуждыми Земле. Но главное не в этом. Решая вопрос, будить ли эту силу, мы должны учитывать и другое: сумеем ли сдержать то страшное, что еще живет в людях?
Нолан поднялся, рассеянно оглядываясь. Терраса была пуста. Кроме их столика, нигде не горели теплые огоньки ламп. Звездная ночь выдалась не по сезону холодной, и он зябко стянул на груди борта пиджака. Крэл понял, как измучен Нолан, как трудно ему сейчас. Захотелось быть участливей, сказать о своей готовности помочь, но не то от смущения, не то из-за ложного стыда, он так и не сумел произнести нужных в такую минуту слов. Да этого и не потребовалось. Нолан, словно что-то внезапно распрямилось в нем, опять ожил, стал привычно подтянутым и уже ясными, чуть задорными глазами смотрел на собеседника.
– Значит, искали, говорите? Пытались установить, кто заказчик. Не нашли?
– Не нашел.
– Вы получаете ежемесячный энтомологический справочник?
– Да, конечно.
– Просматриваете его внимательно?
– Если говорить откровенно – нет, – немного помедлив, ответил Крэл и подумал, что Нолан не упускал ничего, учитывал в его работе, даже частности.
– Вы не пытались, Крэл, обстоятельней заняться энтомологией?
– Пытался, – вздохнул Крэл. – Безуспешно. Если бы удавалось вызывать сдвиги синтеза фермента при облучении каких-нибудь других животных, я бы вовсе оставил возню с насекомыми. Терпеть не могу насекомых. Любых. Всё они вызывают у меня гадливое чувство, а некоторые, признаться стыдно, отвращение, порой просто боязнь.
– Ну что же, это естественно, – медленно ответил Нолан, – и даже в какой-то степени подтверждает правоту Ваматра.
– Ваматра?.. Очень знакомое имя. Кажется, энтомолог?
– Совершенно верно.
– Теперь я вспоминаю – несколько лет назад мне попадались его статьи, а потом я уже не встречал их. Он умер?
Нолан не ответил.
– А вы не задумывались, почему только у насекомых можно вызвать сдвиги, получить совершенно необычные типы ферментов? Впрочем, вам, как биофизику, трудно было бы разобраться во всем этом. И всё-таки без энтомологии, Крэл, вам, пожалуй, не обойтись. Пойдемте…
Они поднялись на этаж, где были их номера. Нолан дышал тяжело, но одышка была вызвана скорее волнением, чем необходимостью преодолевать довольно крутую лестницу. В номере Нолан вынул из портфеля пакет и передал его Крэлу:
– Здесь статья Ваматра. Она написана им вместе с доктором Бичетом… Бичет… Бичет не уцелел, погиб, как и Эльда… Прочтите. Статья нигде не опубликована.
* * *
Работа Ваматра и Бичета увлекла Крэла. Гипотеза их была настолько сумасшедшей, что могла показаться гениальной. Поначалу Крэл не без труда пробирался через дебри энтомологических определений и описаний, но выводы… Выводы, сделанные Ваматром и Бичетом, заставили Крэла перечитывать их работу вновь и вновь. Теперь он уже совсем иначе воспринимал описания, раньше казавшиеся многословными, излишне подробными. Крэл стал понимать, что в каждом разделе обстоятельной статьи авторы очень умело приводят доводы, помогающие уверовать в их гипотезу. Педантично, вместе с тем совершенно по-новому открывают читателю мир насекомых.
Мир этот огромен. Больше миллиона видов! Цифра внушительная, однако впечатляла не она, а сопоставление, иллюстрирующее статью: «Видов мух в одной только Франции больше, чем видов всех млекопитающих, населяющих земной шар, причем мухи разных видов отличаются одна от другой в большей степени, чем мышь от слона».
Не меньше восьмидесяти процентов видов животных – насекомые!
Только одна пятая часть приходится на всех остальных.
Крэл никогда раньше не задумывался над этими цифрами. Выходило, что человек живет в мире насекомых. Они проникли всюду, заполнили весь мир, однако… не стали главенствующими на Земле.
Ваматр и Бичет не только обосновали сделанное ими заключение, но и показали, каким путем пришли к нему. Начали они свои исследования, занявшись вопросами «социологии» высших насекомых. Здесь еще сомнения и поиск: «А может быть, насекомые – это неудавшийся эксперимент природы? Может быть, ставка жизни на Земле делалась на них, а не на человека?!» Их не миновало увлечение, свойственное многим энтомологам, которые, наблюдая общественных насекомых, старались найти сходство между «цивилизациями» насекомых и цивилизацией, созданной человеком. Вскоре они, как и другие ученые, пришли к выводу, что «логика» насекомых совершенно отлична от нашей логики. И вот первый, пожалуй, фундаментальный вывод, сделанный в результате долгих наблюдений и тщательно поставленных опытов: «Мы различны по самой своей природе». Почему?..
И снова исследования, теперь предпринятые для изучения психики этих загадочных для человека существ. «Да, насекомые подчинены общему закону развития в сторону повышения уровня психики. Но на этом пути встретилась одна серьезная помеха – размеры насекомых. Насекомые так малы, что у них неизбежно должны существовать ограничения в числе нервных элементов. Как обойти это препятствие? В какой-то мере задачу решили общества насекомых – переплели в одно целое крошечные индивидуальные мозги, способами, в тайну которых человек только начинает проникать. Так, у насекомых, например, муравьев, создалась основа для головокружительного взлета: развилось земледелие, скотоводство, сбор и создание запасов продовольствия, возникли войны.
А затем всё остановилось. В чем дело? Ведь, казалось бы, оставалось сделать один только шаг. Но насекомые продолжают стоять на месте… Миллионы лет… Кто знает, не пошло ли всё по иному пути на других планетах?..» К этому выводу пришел Реми Шовен. А Ваматр и Бичет? Они рискнули пойти дальше. Работы Реми Шовена, несомненно, помогли им сформулировать гипотезу, так как они приводят в своей статье его слова об обществе насекомых: «Здесь мы сталкиваемся с посрамлением всяческих теорий. Может быть, пределы нашей планеты и нашей науки слишком ограничены. Если бы нам были известны пути, по которым развивается жизнь в других точках Вселенной, эта проблема, несомненно, показалась бы менее запутанной».
Узел этот разрубили Ваматр и Бичет. Показав, как мало насекомые имеют генетических связей с другими представителями живого мира планеты, изучив всё, что может подтвердить их гипотезу, они пришли к заключению, что насекомые чужие!
«Да, бесспорно, – говорилось в статье, так и не увидевшей свет, – на нашей планете жизнь зародилась и развивалась на нашей планете. Уже теперь ученые могут проследить, как разрастались ветки земного древа жизни, могут показать, как шла эволюция. Но все ли ветви? А не стоят ли насекомые особняком этаким загадочным и совсем не похожим на это дерево кустом, а может быть, даже не кустом, а цепкими лианами, оплетающими, пронизывающими всё живое в своей борьбе за место на непривычной планете? Насекомые и родственны нашему миру, как родственны между собой углеродистые существа, в каких бы мирах они не зародились, и вместе с тем уж очень отличны от того, что не входит в их особую, во многом таинственную группу жизни».
И авторы делают вывод: «Можно предположить, что каким-то путем, например с метеоритами, на Землю попали зародыши. Они не нашли у нас подходящих для себя условий, не смогли развиться полностью, достичь высших, может быть, даже разумных форм, каких достигли на своей планете, а лишь распространились беспредельно и проявили некоторые необычные свойства, порой ставящие в тупик земных ученых».
Множество примеров приводят энтомологи, подкрепляя свою мысль об исключительности этого класса живого, убеждая, что насекомые действительно стоят особняком от растений и животных. И авторы идут дальше: «Две жизни у насекомых: одна – которую они вели у себя, на родной им планете, другая, которую они вынуждены вести здесь, на Земле, представляя собой промежуточную стадию, так и не достигшую на чужбине нужного развития». Отсюда очень логичной представляется их догадка: «А что, если создать условия, близкие к господствующим на той, гипотетической планете, родине этих странных и очень жизнеспособных пришельцев? Попытаться искусственно воспроизвести среду, в которой некоторые виды насекомых развивались бы так же, как в породившей их среде?» И дают ответ: «Тогда появятся новые формы, которые, постепенно усложняясь, (недаром для насекомых – и только для насекомых! – характерен метаморфоз: яйцо-личинка-нимфа-имаго), дойдут до той формы, которая существует в далеком от нас мире. А что, если она главенствует там?» Ваматр и Бичет широко и смело использовали право ученых прибегнуть к фантазии, этому ядру всех открытий: «Что, если эта форма проявит свойства еще более удивительные, чем у известных нам насекомых, такие, о которых мы не имеем никакого представления? Существа эти, развившись в подходящих условиях, будут обладать более тонкими и эффективными способами воздействовать друг на друга» – и тут же ставили вопрос: «А может быть, и на другие виды животных?» Это уже настораживало.
Предположений в статье высказывалось много, но одно, самое фантастическое, произвело на Крэла особенное впечатление.
Способность насекомых общаться между собой, преодолевая огромные расстояния, общеизвестна. Что, если новые существа проявят эту способность в неизмеримо большей степени? Что, если их чувствительность окажется настолько большой, что они способны будут получать биосигналы из своего мира? Не откроет ли это для ученых возможность снестись с далеким, не известным Земле миром?..
Крэла не ограничился статьей Ваматра-Бичета. Он обратился к трудам других энтомологов. Вскоре он с огромным удовлетворением выискивал в них различные подтверждения идей, высказанных в статье. Теперь он совсем по-иному перечитал всё, начиная от Реомюра, Линнея и Дарвина до Карпентера и Шовена. Некоторые места в их работах поразили Крэла: их наблюдения порой самым лучшим образом подкрепляли оригинальную гипотезу.
Крэл прочел, например: «Особенно сильно поражает нас в истории насекомых их громадный геологический возраст. В мезозойскую эру, когда млекопитающие, владычествующие ныне на суше, еще были мелки и только начинали борьбу за свое существование, а гигантские пресмыкающиеся, затем и вовсе вымершие, господствовали над миром, – насекомые тех самых высших отрядов, которые живут и в наши дни, уже летали в воздухе… Мы знаем, что в Девонском и даже Силурийском периодах уже жили крылатые насекомые (350 миллионов лет назад!)… Мы считаем горы символом вечности и говорим о несокрушимости скал, между тем даже самые новейшие отряды насекомых древнее, чем, предположим, меловые обрывы Южной Англии. Крылатые насекомые порхали уже по берегам озер, на дне которых накапливались, обломок за обломком, гальки и песчаники палеозойских отложений… Гуляя по холмам, мы спугиваем пчел с цветков и стрекоз с былинок. Жизнь каждого из этих насекомых коротка, но они лишь последние звенья длинной цепи жизней, уходящей в глубь времен, когда не существовало тех холмов, на которых живут современные насекомые».
В таком же духе, если не более определенно, ставя под сомнение наличие связи насекомых со всем остальным миром живущего на Земле, пишет другой автор: «Термиты – вот насекомые, пренеприятные для сторонников чрезмерного упрощения теории эволюции… Термиты существуют с давних времен во всей сложности своих инстинктов. Эпоха, в которую эти насекомые появились, точно не определена… Им по меньшей мере 300 миллионов лет. Появлению термитов должна была предшествовать длительная эволюция в невообразимо далекие от нас времена… Никаких следов ее нет». «И не может быть, – добавляют Ваматр и Бичет, – так как они эволюционировали, от простой клетки дошли до высокоразвитого организма, не в нашей солнечной системе, во всяком случае, не на нашей планете».
Крэл обращался к самым различным источникам и везде находил что-нибудь интересное для подтверждения гипотезы Ваматра и Бичета. Оставалось… Оставалось сделать то, что в науке признается решающим: подтвердить гипотезу опытом. Что удалось энтомологам? Сумели они хотя бы в какой-то мере подкрепить свои догадки? В статье об этом ничего не говорилось.
Крэл с нетерпением ждал, когда представится возможность расспросить обо всем у Альберта Нолана, надеясь на встречу в Асперте.
В субботу Нолан в Асперт не приехал.
Лето подходило к концу. Вечера в горах становились прохладными, а ночи холодными. «Может быть, это помешало ему?» – утешал себя Крэл, всё еще надеясь на появление Нолана.
Воскресное утро выдалось теплым, прозрачным, однако Нолан не приехал и в воскресенье. Крэл отправился на прогулку один. Шел он излюбленным маршрутом, по которому они не раз ходили вместе, и частенько оглядывался: а вдруг появится на зеленом склоне статная фигура в безукоризненном, модном костюме.
Крэл любил уединенные прогулки, но в этот день бродить одному не хотелось. Начинало припекать солнце. Против обыкновения дышалось трудно, и стало раздражать всё: одиночество, неровности тропинки, прилипающие к ногам, промокшие в росяной траве штанины, назойливость мошкары.
Крэл присел на валун, вероятно, лежащий здесь сотни тысяч лет. Рядом в траве сияли эдельвейсы. Над ними кружили стрекозы. Он изловчился и поймал одну, почти не повредив ей крылышек.
Какие огромные, занимающие большую часть головы глаза. Пожалуй, самые поразительные органы насекомого. У некоторых стрекоз до двадцати тысяч фасеток, у некоторых насекомых по пять глаз! У кого еще из живущих на Земле есть такое?.. Стрекоза извивалась в пальцах, вибрировала своими слюдяными, филигранно выделанными крылышками, а глаза ее, казалось, устремлены были на него. Жутковатые, уж очень чужие. Что и как она видит?.. А может быть, правы Ваматр и Бичет, может быть, ее далекие-далекие предки воспринимали этими удивительными приборами совсем иной мир?
Стрекозу он выпустил и долго еще сидел неподвижно, чувствуя на пальцах холодное, податливое, очень всё же противное тельце. «Глупо, конечно», – вяло подумал Крэл и вздрогнул: к нему подходил Нолан. Он, видимо, старался не показать, с каким трудом преодолел подъем. Крэл сразу забыл о нетерпеливом ожидании и радостно приветствовал его.
Боясь, что Нолан заговорит о ком-нибудь из своих любимых новеллистов, тогда свернуть его на другую тему будет почти невозможно, – он поспешил задать вопросы, относящиеся к гипотезе Ваматра и Бичета.
На этот раз Нолан и не пытался переменить тему разговора, но вел его как-то необычно. Он хотел, чтобы Крэл узнал о работах, намеченных неопубликованной статьей, узнал о Бичете и Ваматре. Особенно о Ваматре. Несколько раз он начинал о нем и прерывал рассказ, не в силах справиться с волнением, опасаясь показаться пристрастным. Он, как бы идя по эллиптическим орбитам, то приближался, то удалялся от трудной для него темы.
– Знаете, Крэл, у меня порой возникают странные ассоциации. Я, например, убежден, что электричество – желтого цвета, что теорема Прени, если ее переложить на музыку, звучала бы в тональности фа-диез, что созвездие Цефея пахнет резедой, а со словом «дьявол» у меня связывается образ плаща. Черный плащ. Помните, это как у Ларм: «Неся в бездонных складках сомненье, ненависть и смерть…» Ваматр носит под плащом еще и скрипку. Говорят, у него настоящий Гварнери. Я уверен, Крэл, вы никогда не бродили ночью в мрачных кварталах Родега?
– Я не бывал в Родеге и днем. Это где?
– У самого порта. Там, в кривых грязных уличках живет народ привлекательный и страшный. Труд и голод. Удаль и разврат. Бесконечная ширь простого человеческого сердца и злоба отчаяния. Всё, всё, что есть в человеке, здесь доведено до едва переносимой концентрации, втиснуто в мерзкие, подозрительные щели. Поножовщина и смех, молитвы и отвратительная брань, страх и отвага. Туда океан выбрасывает намытое во всех портах мира. Там приютились притоны, молельни, кабачки, ночлежки. Но и в Родеге не живут, не могут жить без музыки. В любой харчевне, самой заплеванной, смрадной, – музыка… Несколько ночей я провел на площади Олинор. Это последний рубеж. Площадь залита светом, по ней снуют благополучные люди, а совсем рядом, словно в бездну, спускаются улочки Родега. В укромном месте я поджидал, когда на площади остановится автомобиль Ваматра. И дождался. Я сам видел, как он, почти неразличимый, закутанный в плащ, отделился от своей черной машины и юркнул в переулок. Я следил за ним, оставаясь незамеченным.
– Но для чего?
– Чтобы послушать его музыку.
– Ничего не понимаю. Где же он играл?
– В тот раз в подвальчике Марандини. Ваматр, тайно от всех надев костюм старого итальянца, иногда выступал по ночам в самых захудалых портовых заведениях. В более приличные его не пускали. Выпроваживали даже из третьесортных, несмотря на то, что за свои выступления…
– Он брал немного…
– Нет, платил. И платил порядочно. Музыка – его страсть. Неукротимая, неуемная. Волны звуков – его стихия, в которой он только и живет, считая себя музыкантом. Талантливым и… непризнанным. А Ваматр честолюбив. Все его успехи, всё, что ему удалось сделать в науке, он готов отдать за признание публики, за успех, выпадающий на долю знаменитого композитора. Когда-то он мечтал о мировой славе, о блеске огромных концертных залов, о признании публики, о цветах, о ласках, даримых почитательницами за счастье послушать его. Но этого не произошло. Никто не понял его сумбурных, диковатых, почти всегда раздражающих композиций. Слушатели не переносили его дьявольскую музыку. Озлобленный на весь мир, ненавидящий людей, он вынужден был довольствоваться насекомыми и только по временам, когда, вероятно, ему было совсем невмоготу сдерживать свою страсть, он отправлялся в портовые кабаки. Тогда он снова перед публикой. Со скрипкой. И ловит, жадно ловит хотя бы взгляд одобрения, ждет рукоплесканий забывшихся в пьяном угаре людей. Но не понимают его и там. Смятый, опустошенный, клянущий всех, жалкий, неудавшийся музыкант возвращается к своим насекомым – неудавшемуся эксперименту природы… Дьявол со скрипкой…
– Странный человек, – нерешительно начал Крэл. – Но говорите вы о нем так, что мне многое неясно. Ну, увлекается музыкой, ну не в силах бросить ее, жалок в своем стремлении блистать, но что же в нем дьявольского?
– Сама сущность. И вряд ли я ошибаюсь, Крэл. Музыка способна передавать движения души исполнителя так, как не передает и поэзия. Ваматр всё же художник, но вот только творчество его носит печать какого-то проклятия. Я сам видел, как в подвальчике Марандини пьяная публика воспринимала его музыку. Возбужденные алкоголем, эти люди выражали свои чувства бурно и бесконтрольно. Поначалу сумбурные и, признаться, очень сильные его импровизации завладевали слушателями, затем начинали сковывать их, но и они, опьяненные, старались вырваться из-под злобной и отвратительной власти ваматровской музыки. При мне здоровенный грузчик, только что ливший пьяные слезы, вдруг хватил табуретом об стол и выбежал из харчевни. Матрос запустил в Ваматра помидором, кто-то, изрыгая ругательства, шатаясь, уже продирался к выходу. Здоровое начало жило в этих людях, бесхитростных, не извращенных, просто хвативших слишком много горя в жизни и скрашивающих свою тяжкую долю спиртным. Не было в них испорченности, которая заставляла бы тянуться к изуверским творениям Ваматра. Здоровый инстинкт оберегал их от его колдовского творчества, и они бежали из подвала. Кончалось это обычно тем, что хозяин, не желая терять своих посетителей, отказывал Ваматру… – Нолан помолчал, потом спросил: – Вы, вероятно, недоумеваете, почему я так много говорю о музыке Ваматра? Не удивляйтесь – она имеет отношение к тому, о чем вы прочли в статье.
– К гипотезе Ваматра?
– Бичета и Ваматра, – твердо поправил Нолан. – Да, несомненно это связано в какой-то адский узел… Тогда, двенадцать лет назад… Замечательное было время, неповторимое. Мы были моложе, полны надежд и очень привязаны друг к другу. Все. Все четверо.
– Вы работали вместе с Ваматром?
– Да, у Арнольдса, в его маленькой, еще не прославившейся на весь мир лаборатории. Жили скудно, безденежно и весело. Бичет и Ваматр начали раньше, чем мы с Эльдой, на два-три года. Идея, собственно, принадлежала Бичету. Он первый высказал предположение: насекомые чужие. Нужно сказать, поначалу никто, кроме Ваматра, не подхватил эту идею. Эльда даже считалась противником ее, а Ваматр, с присущей ему страстностью и отчаянием, начал работу и с тех пор не прекращает ее.
– Значит, и сейчас?..
– Да… Следует отдать ему справедливость: он сделал много. Наиболее значительна его работа над протоксенусами. Насекомые обычно плохо воспринимают красный цвет, хорошо различая остальные части спектра, вплоть до ультрафиолетовой. Зная это, Ваматр предположил, что спектральный состав излучения Звезды, согревающей породившую насекомых планету, отличается от спектра нашего Солнца. Ваматр учел и другое – поразительную хладостойкость насекомых – и поставил любопытные эксперименты…







