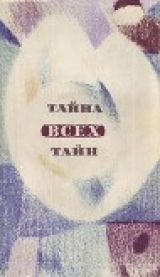
Текст книги "В мире фантастики и приключений. Выпуск 7. Тайна всех тайн"
Автор книги: Станислав Лем
Соавторы: Сергей Снегов,Георгий Мартынов,Илья Варшавский,Геннадий Гор,Лев Успенский,Аскольд Шейкин,Александр Мееров
Жанры:
Научная фантастика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 45 страниц)
ТАЙНА ВСЕХ ТАЙН (Антология)

Лев Успенский
ЭН-ДВА-О ПЛЮС ИКС ДВАЖДЫ
ПОЛУФАНТАСТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

ЛЮДА БЕРГ И ПРОФЕССОР КОРОБОВ
Прежде, чем начать самостоятельную жизнь, ты должен выдержать маленький экзамен.
А. Чехов
– Ну что ж, милая барышня, – проговорил профессор Коробов, с сомнением глядя на Люду Берг, – что ж будем делать? Опасаюсь, что ваш коллега, – он покосился на застывшего на стуле Игорька, – знает всё это основательней… Но на то он и горняк. Он всё это небось Константину Федоровичу Белоглазову давным-давно сдал. А, что там: понимаю я вас! Год рождения? Ну вот! Оно и видно! Химиком быть не собираетесь? Ну вот… Нет у вас других дел, как растворы титровать… Сергей Игнатьевич! Разве я не прав?
Люда Берг, студентка третьего курса Первого медицинского, сидела, как пушкинская муза – «под лавку ножки, ручки в рукава». Игорь Строгов, явившийся вместе с ней только для храбрости, понимал ее: хвост с первого года, и напросилась сдавать на дому! Ужас! От одного кабинета поджилки трясутся…
Профессорский кабинет был, как Игорек определил его внутренне, не от мира сего. Огромная комната, щедро освещенная майским солнцем. В открытое окно заглядывает ветка сирени: там – сад. На стене портрет дамы в очень открытом платье: масло… и подпись: «Кончаловский». С ума сойти!
Впервые в жизни горняк Строгов попал в такой кабинет, видел живьем профессора (да пуще того: членкора!) не на кафедре, не в лаборатории, а у себя дома…
– Так как же, Сережа? Зачтем, что ли? Полный, с не вполне обычным важным щегольством одетый, русобородый человек, лениво читавший английскую газету в дальнем углу, чуть пошелестел страницами.
– Я же не химик, Павлик… Я сопроматчик, – высоким капризным тенором проговорил он. – Я в химии ничего не понимаю.
Чем-то он был недоволен, бесспорно, но, пожалуй, не ответами студентки Берг. Он опустил на миг газету, и у Игоря сердце екнуло: «Еще того не легче! Это же Сладкопевцев, из Техноложки… Из зверей зверь! Ну влипли!» Доктор технических наук Сладкопевцев поверх своей газеты взглянул на Люду. «Да махни ты на нее рукой, Павлик! – написалось на его лице. – Посмотри на ее нос. Разве он из тех носов, которыми фосфористые соединения отличают от мышьяковистых? Отпусти ее подобру-поздорову…»
У него были основания досадовать. Сговорились отправиться сегодня на машине на Пюхя-Ярви на рыбалку. Погода – прелесть! А старик не предупредил вчера. Он, оказывается, назначил зачет этому мимолетному виденью. Хвост у нее, видите ли: неорганика! Теперь какая же поездка!
– По-моему… коллега знает вполне удовлетворительно! – неожиданно добавил он и спрятался за газету. Профессор Коробов через пенсне (пенсне!) подозрительно поглядел в его сторону: – Вполне, по-твоему? Ну что же быть по сему… Вообще-то говоря, на большинство вопросов мы как будто ответили… Вот только с закисью азота у вас почему-то нелады. С веселящим газом… Как-то он вас, по-видимому, не слишком развеселил… Проскочили мимо в пылу зубрежки?
Люда Берг умела краснеть, как опоссумы умеют притворяться мертвыми, необыкновенно, не так, как все. Даже враг номер один, Вадик, двоюродный, признавал: «Когда Людка краснеет, у нее, наверное, и пятки становятся розовыми, как у новорожденных!» А что? Очень возможно!
– Ой, Павел Николаевич, что вы! Я просто… как-то так… Я подумала – закись… Она же теперь почти не применяется… Медику с ней вообще никогда не придется встретиться…
Она сказала так потому, что вообразить себе не могла, какое действие произведут эти ее легкомысленные слова. Членкор Коробов за секунду перед этим уже взял в мягкие пальцы великолепную паркеровскую вечную ручку, уже развернул Людочкину зачетку, уже занес перо над страничкой, на которой было помечено: «Фармакология – уд.; пат. анатомия – хор», и вдруг замер, точно споткнулся. Хуже того: он положил ручку на стол. Он прикусил нижнюю губу и даже часть аккуратной седенькой эспаньолки и уставился на Люду так, точно тут только заметил, что она внезапно появилась и сидит против него.
– Ах вот как вы полагаете, коллега! – каким-то совершенно новым, зловещим голосом протянул он, рассматривая Людочкину прическу, Людочкину блузку, Людочкину сумочку на коленях. – Не придется встретиться, говорите? Это – с закисью азота? С эн-два-о? Сергей Игнатьевич, ты, я полагаю, слышал? Ну а если, паче чаяния, всё же столкнетесь?
В случаях крайней опасности – «мрачной бездны на краю» – Людмила Берг применяла улыбку. Ту, которую тетя Соня именовала «сё сурр наф»[1]1
Эта наивная улыбочка (франц.).
[Закрыть] (Вадька свирепо переводил это как «подсмешка юной идиотки»). На любого фрунзенца, даже старших курсов, такой «сурир» действовал как команда «Ат-ста-вить!». Но бело-розовый старичок в черной шелковой тюбетеечке видывал, должно быть, на своем веку всякие «суриры». Он взял ручку со стола и безнадежно навинтил на нее колпачок. И, навинтив, опустил ее, колпачком вверх, в хрустальный стакан. И откинулся в кресле.
– А если всё-таки придется вам с ней встретиться, уважаемая коллега? – с непонятной настойчивостью повторил он. – Сереженька, ты слышал: Она ее не встречала, а?! А ну-ка, если ты сам не позабыл, припомни, голубчик, где и как мы с тобой на нее впервые напоролись, на закись-то эту самую? На ЭН-ДВА-О, да еще ПЛЮС ИКС ДВАЖДЫ? Сохранилось это событие в твоей памяти?
МИНА ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ
Человек в кресле преобразился. Он шумно швырнул на ковер толстую стопку газет. Лицо его оживилось, точно он вдруг очнулся от спячки.
– Было бы по меньшей мере странно, Павлик, – высоким бабьим голосом, но с чрезвычайной энергией заговорил он. – Было бы нелепо, если бы мы с тобой это запамятовали! Удивительно уже и то, что мы с тобой о нем так давно не вспоминали. Скажу сейчас! Мы шли на Щукин рынок, за яблоками для Анны Георгиевны… Нет! Для Лизаветочки! Был ветер, конец августа, по Забалканскому несло пыль…
– Не нынешнюю, Сереженька, тогдашнюю, желтую… Измельченный конский навоз! – со странным энтузиазмом подхватил Коробов…
– Как охра желтую! И вот как раз, выйдя на Фонтанку…
– Ей-богу, всё верно! Всё точно, молодые люди! – Членкор Коробов развел в стороны недлинные свои ручки. – Фонтанка, угол Забалканского! Обухов, следовательно, мост! На крышах: «Пейте «Майский бальзам»!» На воде – тысячи барок. Десятый год нашего удивительного века! Третья, не тем будь помянута, Государственная дума! Блерио перелетает Ла-Манш. Граф Роникер убил миллионера Огинского. Никаких вам газовых войн, никаких атомных бомб… А! Какие там атомные! Вон эту штуку именовали не «свет», а «электричество». Машину называли «мотором». Машиной тогда простонародье звало поезд. Простонародье, Сереженька, а? Ведь было же такое?!
Вот в этот-то день она и наскочила на нас… Прямо по Фонтанке, со стороны электрической станции Бельгийского общества. Как – кто? Она! Он! Закись азота…
– Он бегом бежал…
– Ну, скорее, шел очень быстро. На нем был старый морской офицерский плащ, с львиными мордами на застежке…
– И узкие брючки. И чудовищные лакированные башмаки: каблуки набок, но лакированные. И – усы…
– Усы?! Ну какие же усы, Сергей Игнатьевич? Я его и не видел с усами: он уже носил бороду! Припомни: борода, как у царя Дария, и страшные глаза. Факирские глаза. Ужас, дорогая коллега! «Закись» тогда приняла обличье студента-технолога, каким были и мы оба. Ничего, это к ней шло, получилось нечто вроде писателя Гаршина перед кончиной – вид одухотворенный и не вполне здоровый…
Ну вот… Бородатый питерский студент шел нам навстречу по Фонтанке. Под мышкой у него были три толстенные тома: на переплетах тисненные золотом орлы, следовательно – из Академической библиотеки. В левой руке он держал ломоть ситного (тогдашнего, его продавали караваями, величиной с прачечное корыто), в правой – фунта два чайной колбасы по восемь копеек фунт, на ней следовало бы ставить череп и кости для предупреждения… Зубы у него были белые, как у крокодила, он вгрызался ими поочередно то в растительную пищу, то в животную. Он был голоден.
– Павлик, а ты не перепутал? – улучил момент Сергей Сладкопевцев. Это не десятый год – одиннадцатый… Еще Тамара пела в «Летнем Буффе». Шляпы были аршина полтора в поперечнике…
– Да оставь, Сергей Игнатьевич, какая Тамара, какой одиннадцатый?! В августе одиннадцатого Петра Столыпина – уже тово, в Киеве. А тут – вспомни конец истории: «Подлинный скрепил Председатель Совета Министров…»
– «Петр Столыпин!» Ты прав, как всегда, Павлуша… Август десятого!
– Конечно. А ты не забыл его первые слова? Он увидел технологов, вынул колбасу изо рта и на ходу: «Слушали фан дер Флита о коллоидах? Спорно? Споры – бессмысленны. Коллоиды – чушь. Есть вещи поважнее».
– Да. И ты еще спросил его не без яда: «А может быть, вы сообщите нам, какие вещи вы имеете в виду, милостивый государь?»
– А он, опять набив рот полуфунтом студенческой, уже разминувшись с нами, этак нечленораздельно, через плечо: «Жкишь! Жкись ажта! Эн-два-о… Не интересуетесь? Ничего, придется заинтересоваться!»
– И ведь что ты скажешь, Павлушенька: жаинтере-шовались! Еще как!
– Да-с, милая барышня: встретились мы с этой закисью, не станем скрывать – встретились! И в неблагоприятных условиях. Ну… Вы теперь нам, двум почтенным склеротикам, вправе и не поверить, но ведь сколько нам тогда лет было? Да не намного больше, чем сего дня вам. Ему двадцать, мне двадцать один. «Жакиши» этой самой, ему, и то было не больше двадцати трех… Хотя… За него никто и ни в чем не мог бы поручиться… Но так или иначе – молодо-зелено! Вроде вас, вроде вас…
Павел Коробов, доктор, членкор, лауреат, остановился па полуслове, как язык прикусил. Как-то понурясь, он облокотился, положил подбородок на руку и уставился вдаль, не то на сиреневую ветку, не то па портрет на стопе… Дама с портрета улыбалась странной, не очень доброй улыбкой…
Профессор Сладкопевцев, встав с кресла, подошел к двери на маленький балкон, взялся за притолоку и тоже молча задумался.
«Вот на кого он похож: на Стиву Облонского!» – обрадовался Игорь.
Было неловко прервать это малопонятное молчание старших. «Семьдесят лет? – вдруг подумала Людочка. – Ужас какой! А были студентами, за яблоками бегали…» Ей стало холодновато…
Деликатно прикрыв рот ладошкой, Люда осторожно зевнула. Фрунзенцы и дзержинцы любого курса содрогнулись бы от такого сдержанного зевка «Людочке скучно!» Но профессор Коробов безусловно привык считать девичьи зевки тысячами, он даже по заметил этого. Тем не менее он вдруг встрепенулся:
– Вот что, дорогие коллеги и, главное, ты, Сергей Ипполитыч! Что там ни говори, а молодые люди эти разрушили наши с тобой планы. Вдребезги. До основания! Ты всю ночь лелеял каких-то там своих упарышей или занорышей, мормышки точил… Я тоже спал беспокойно. А вон – двенадцатый час, куда же ехать? Всё убито, как мой лаборант говорит…
Да нет, мои юные друзья, судите сами. Двое старцев собрались в кои-то веки на лоно. Он половить лососей или там омулей, не знаю кого. Я – с кукушкой поконсультироваться, сколько она мне лет накукует… И вот… Ну… «Мне отмщение, и аз воздам!» Сейчас мы им воздадим, Сереженька! Казнь я уже придумал – такую казнь, чтоб царь Иван Василич… Мы и сами никуда не поедем и их не пустим. Мы повелим, чтобы Марья Михайловна распаковывала твой «Мартель» и мои эти… как их? Ну, ну, не бутерброды, а… сэндвичи, а то ты меня убьешь, и еще хороший кофе. И заставим мы их разделить с нами трапезу. Но главная пытка не в этом. Мы усадим их и поведаем им всё про закись азота. Всю историю, грустную, но поучительную, и в то же время правдивую от первого слова до последнего. «Нет повести печальнее на свете», чем повесть о Венцеслао Шишкине, о Сереженька! Ведь я не преувеличиваю? Об одном из величайших химиков того мира, о человеке, достойном мемуаров и памятников, если бы… О судьбе поразительной и невнятной. О том, что было и чего не стало…
Сергей Игнатьевич, ты только подумай! Та наука, к служению которой готовились мы с тобой когда-то, – разве она похожа па нынешнюю? Совершенно не похожа. Те проблемы, которые были для нее передовыми, – где они теперь, в каком далеком тылу мы их оставили?..
Те методы, которыми тогда работали ученью, – кто теперь применяет их? Так пусть же они заглянут в то наше «тогда». Пусть они увидят, каким оно было… Отказываться? Ничего не получится, милая барышня… Матрикул-то ваш… Прошу прощения, зачётка-то ваша – вот она! И он ее еще не подписал, этот вздорный старик Коробов. Так вот: с закисью азота вы еще как-нибудь разберетесь, а с Коробовым не советую конфликтовать…
Решено? Принято? Сережа, будь другом: сходи к Марье Михайловне на кухню…
БАККАЛАУРО В ГОДУ ОДИННАДЦАТОМ
То был еще не старый мужчина, готовый ко всяким неожиданностям…
Дж. Хантер. «Охотник»
В те весьма далекие годы – молодые люди, не заставляйте себя угощать! – я, студент третьего курса Санкт-Петербургского имени императора Николая Первого Технологического института, снимал комнату на Можайской улице, неподалеку от своей альма-матер… Годы были глуховатые, жизнь спокойная, к лету на трех четвертях питерских окон появлялись белые билетики – сдавались квартиры, комнаты, углы.
Мне повезло: вот уже три года, как мне попадались чудесные хозяйки, менять местожительство – никаких оснований.
Глава семьи – сорокапятилетняя вдова полковника, убитого под Ляояном, моложавая еще дама, с чуть заметными усиками, с таким цветом лица, что хоть на обертку мыла «Молодость». При ней – дочка, Лизаветочка, прямая курсистка из чириковского романа. Рост – играй Любашу из «Царской невесты». Русая коса ниже пояса, глаза серые, строго-ласковые, сказал бы я. И туповатенький, несколько даже простонародный мягкий нос… В общем, на что хочешь, на то и поверни: можно Нестерову любую кержачку в «Великом постриге» писать, можно Ярошенке – народоволку-бомбистку. Кто их знает, каким образом появлялись тогда в русских интеллигентских семьях этакие удивительные девы, среднее пропорциональное между Марфой у Мусоргского в «Хованщине» и Софьей Перовской. Такие – то сдобные булочки с тмином пекли, вспыхивая при слове «жених», то вдруг уезжали по вырванному силой паспорту в Париж, становились Мариями Башкирцевыми или Софьями Ковалевскими, стреляли в губернаторов, провозили нелегальщину через границу… Знаете, у Серова – «Девушка, освещенная солнцем»? Вот это – Лизаветочкин тип…
Жил я у них с девятьсот восьмого, холерного года, стал давно полусвоим. Ну чего уж на старости лет кокетничать: да, нравилась мне она, Лизавета… Но время-то было, молодые люди, какое? Вам этого и не понять без комментариев. Нравилась, нравилась, а – ком у? Студен ту без положения… Э, нет, таланты, способности не котировались… Человек – золотом по мрамору в учебном заведении на доске вырезан, а тело его лежит в покойницкой, и на него бирка «в прозекторскую» повешена, потому что востребовать тело некому. Или, кашляя кровью, обивает со своим патентом министерские пороги: «Сколько раз приказывал – не пускать ко мне этих санкюлотных Невтонов!» Нет, студент – это не «партия».
Впрочем, и сама Лизаветочка тоже летала невысоко: бесприданница. Во «Всем Петербурге» – справочнике, толщиной с Остромирово евангелие, но куда более остром по содержанию, – значилось: «СВИДЕРСКАЯ, Анна Георгиевна, дворянка, вдова полковника. Можайская, 4, кв. 37».
Ox, как много таких дворянок, с дочерьми, тоже столбовыми дворянками, перекатывались из кулька в рогожку по Северной Пальмире. Заводили чулочно-вязальные мастерские. Мечтали выиграть двести тысяч по заветному билету. В великой тайне работали белошвейками или кружевницами на какую-нибудь «мадам Жюли». Поступали в лектрисы к выжившим из ума барыням, или – всего проще и всего вернее – сняв барскую квартиру, превращали ее в общежитие, сдавая от себя комнаты жильцам.
Так вот шла жизнь и на Можайской, 4, – с хлеба па воду, на какой-то таинственный «дяди Женин капитал», который не мог же быть вечным. А когда дядя Женя иссякнет, тогда что?
Лизаветочке нашей к одиннадцатому году стало – сколько, Сережа? – да, верно, уж двадцать, а то и двадцать один год: без пяти минут вековуша. Но в то же время – какой у нас с ней мог быть выход? Соединить два «ничего»? И в учебнике латинского языка утверждалось: «Экс нгило – нгиль фит!» – «Из ничего ничего и не получится»… Да, но жили-то мы рядом. Так – ни за что ни про что – сдаться? Этого молодость не терпит… И получилось из нас нечто вроде родственников, вроде как двоюродные брат и сестра. А была и такая французская на сей раз – пословица: «Кузинж – данжерё вуазинж!»[2]2
Двоюродный брат – опасный сосед! (франц.)
[Закрыть] «Ой, Анечка, милочка, смотрите… Теперь за молодыми людьми глаз да глаз нужен!».
Комнатушка моя, под стать хозяйкам, была типичным студенческим честным обиталищем. Студенческим, но, по правде говоря, из наилучших: о таких боялись даже мечтать наши матери где-нибудь там над Тезой или над Сюксюмом…
Пятый этаж. Дальше – крыша. Метров? Ну на метры тогда счета не было: полагаю, пятнадцать, что ли, на нынешний счет. А, Сережа? Узкое длинное пристанище. Чистота идеальная, не моя, хозяйская, – следили. Направо железная кровать, никелированную тогда студенту было как-то неприлично поставить: вроде намек какой-то. Насупротив – утлый диванчик с серенькой рипсовой обивкой. В углу за дверью рукомойник с педалью, с доской фальшивого мрамора…
Единственное окно выходило на юго-запад. По горячему от солнца железному подоконнику целый день, страстно воркуя, топотали жирные – на Сенной питались – питерские голуби. Направо виднелся брандмауэр бокового флигеля. На соседнем окне был укреплен зеленый ларь «для провизии», с круглыми дырками в стенках – вместо холодильника. Теперь такие лари редко увидишь, а слова «провизия» и вовсе не услышишь. А мы бы тогда вашего «продукты» не поняли. Вон у Даля как сказано: «Продукт – противоположно «эдукт» – извлечение!»
У окна, помнится, стояла хрупкая этажерочка. На ее верхней полке, над томиками «Шиповника», «Фьордов», да курсом химии Меншуткина-старшего, заботами Лизаветочки обыкновенно устраивалось этакое «томленье умирающих лилий» – два-три подснежника или ночная фиалка в простенькой вазочке. За окном – то пыльное марево душного петербургского полдня, то таинственная, непривычная для саратовца или полтавца белая ночь. Купола Троицкого собора рисуются на белесом небе, как из темной бумаги вырезанные. Правее – не слишком яркая на свету Венера. Простенькие обои странно серебрятся. И Лизаветочкино широкоскулое милое лицо начинает представляться лицом этакой гамсуновской Эдварды, а может быть, какой-нибудь Раутенделейн. До химии ли тут?
Сергей Игнатьевич, друг мой, скажи: ведь, наверное, вон они и сейчас всё это видят? Такой же свет в мире?
Почему же он от нас ушел? Возраст, возраст! Несправедливо это!
Ко мне на это мое «пятое небо» охотно забредали товарищи: вот он, Сладкопевцев, совсем иного круга человек, сын фабриканта, коллега солидный, Петя Ефремов такой, Толя Траубенберг и он же почему-то Лапшин – оп теперь, кстати, крупный юрист в Киеве, Сереженька! – Сёлик Проектор – ныне, не поверите, говорят: мультимиллионер в бельгийском Конго, скотом торгует, гуртовщик… Всем нравились чистота, уют, обстановка, и семейная и студенческая. Ну и подруги Лизаветочки – стебутовки – курсистки сельскохозяйственных курсов Стебута, художницы от Штиглица, консерваторки – тоже, конечно, занимали, надо думать, воображение… Вместе мерзли зимними ночами в уличных очередях на Шаляпина или на «Художников», вместе с шумом ходили в «Незабудку» – смертоубийственную «греческую кухмистерскую» на углу Клинского… Вот сейчас вспомнил про нее, и как-то странно под ложечкой сделалось – подходящее было название! Ну и говорили, говорили, говорили – без конца! К великому моему сожалению, не могу знать – о чем и как беседует теперь между собою ваше юное поколение. Думается, замечательные должны быть у вас разговоры, не нашим тогдашним чета… Но, грех отрицать, и мы дерзали высоко. Посягали, как говорится, на всю Вселенную, от зенита до надира. Помнишь, Сергей Игнатьич, как тебе Севка Знаменский, «поэта максимус», в письме написал:
…Давай беседовать об этом и о том:
О Ницше пламенном, о каменном Толстом,
А – хочешь? – о любви. А то – о Метерлинке?
Об аналитике, о глине и суглинке,
О Чарльзе Дарвине иль о «Поэм д’экстаз»,
Но альма-матер пусть совсем оставит нас…
Так вот и ширяли от одного к другому. Начнем, бывало, со Сванте Аррениуса, пройдем, сравнительно мирно, через анаэробных бацилл, коснемся опытов Шмидта по анабиозу, и вдруг – как обрушимся на господа бога и всех святых! А то – на господина Бердяева и Зина иду Гиппиус (почему это все Гиппиусы всегда бывают рыжие?)… Или сцепятся декаденты и читатели «Вестника Европы»… И всё вызывало шум, перепалки, хрипоту в горле, восторг и негодование…
Сегодня собирают деньги на стачечников в Казани, а завтра терзают друг друга по поводу андреевской «Бездны». Нынче Анна Павлова, покорив Европу, воротилась в родную Мариинку, а там всё внимание отдано капитану Льву Макаровичу Мациевичу, первой трагической жертве воздушной стихии. Это мы собирали деньги на венок летчику Мациевичу – венок с красными лентами. Это мы, в другой день, выпрягали лошадь у извозца и везли на себе в гостиницу Лидочку Липковскую, знаменитое колоратурное сопрано и прелестную женщину… Мы протестовали против Кассо, министра народного образования, сверхмракобеса… Мы декламировали крамольные стихи Саши Черного. Мы ломились на лекции Бальмонта, на концерты, Скрябина, на «Недели авиации»… До всего нам было дело, во всё студенчество совало нос. И как-то странно, что многие из нас – и мы с тобой, друг Сереженька! – при таком шумстве самого главного, того, к чему всё это шло, и не разглядели. Не заметили. Уж чего там говорить: да!..
Казалось бы – буйная деятельность. Но в то же время, что это был за медленный, почти неподвижный первобытный мир вокруг нас! «Как посмотреть, да посравнить век нынешний и век минувший…» Сам себе не веришь!
Только за три года до этого в Питере пошел трамвай. Буквально вчера появились первые «синематографы», они же «иллюзионы», они же и «биоскопы»: не сразу придумалось, как это чудо называть. Фонари на улицах были где газовые, а где и керосиновые, электричество горело на десятке улиц.
Читая Уэллса, все понимали: это – фантазия, всякие тепловые лучи да черные дымы. А реальный мир в чем? Вот он – в городках Окуровых, в их пыли, в одичавших вишневых садах с натеками клея на заскорузлых стволах. Реальный мир – никем не тревожимые версты то щей ржи, перемешанной с пышными васильками и куколем, прорезанной узкими межами. Вот это – реальность, это – навсегда. И так тяжко лежало на нас сознание незыблемости, неотвратимости, предвечности дворянских околышей на станционных платформах, жандармских аксельбантов рядом с вокзальными колоколами, жалобных книг и унтеров пришибеевых всюду, от погоста Дуняни до Зимнего дворца в Петербурге, что волей-неволей все мы – интеллигенты! – душами тянулись ко всему необычному, новому, неожиданному, дерзкому, откуда бы оно ни приходило к нам: с неба или из преисподней…
Я думаю, именно в связи с этим нашим свойством, в своем неоспоримом качестве странного человека, оригинала, таинственной личности, овладел всеобщим вниманием и студент-технолог Вячеслав Шишкин. Вскоре после той памятной первой встречи с нами на Фонтанке он неожиданно, без всякого уговора или приглашения, заявился на моем тихом пятом этаже.
Надо признать: он мог-таки произвести немалое впечатление. Он не укладывался ни в какие рамки, воспринимался как исключение и загадка: ни богу свечка, ни черту кочерга, капитан Копейкин какой-то…
Он носил цыганскую фамилию, потому что родился от матери-цыганки и никогда не был узаконен отцом. Отец был генерал в отставке, владел какими-то тысячами десятин в краю толстовского Мишуки Налымова, носил странную фамилию Болдырев-Шкафт и при огромном беспорядочном состоянии обладал огромным беспорядочным нравом. Сам Шишкин отзывался о нем неясно, больше вертел пальнем передо лбом: «Старик – ничего. Но этого бог ему не дал!»
Юный Шишкин стал Вячеславом по прихоти отца. А вот в Венцеслао – так он всюду подписывался – он превратился по особым причинам и много позже.
Однажды Сёлик Проектор – теперь респектабельный конголезец, а тогда скромнейший и прилежнейший студент Техноложки, – копаясь в Публичной библиотеке в книгах по истории химии, наткнулся на изданную года три назад в Мантуе на сладчайшем италийском языке тощенькую, но презанимательную брошюру: «Кмика, дльи, тмпи футри» – «Химия будущего» именовалась она. Под заголовком, на титульном листе, – это редкость на Западе – стояла дата: 1908 год, а наверху было скромно обозначено:
ВЕНЦЕСЛАО ШИШКИН
(баккалауро)
Сёля Проектор оторопел. Едва встретив в институте нашего бородача, он кинулся к нему:
– Скажите, коллега… Это случайно не вы? Шишкин не сморгнул глазом. Взяв на секунду брошюрку в руку, он равнодушно положил ее на стол.
– Почему – случайно? Я! Старье! Не интересно. Всё будет иначе, ответил он.
Естественно, на него насели:
– Слушайте, Шишкин, но почему же? Почему Мантуя? Почему итальянский язык? Расспросы ему не понравились.
– А не всё ли равно какой? – пожал он плечами. – Ну, Мантуя… Это мне Гаврила Благовещенский устроил…
Мы так бы и остались в неведении – кого он так именовал, если бы некоторое время спустя в институт не пришло на имя Венцеслао Шишкина письмо из Фиуме. На конверте был обратный адрес: «Рма, такая-то гостиница. Габриэль д’Аннунцио, король поэтов». Аннунцио по-итальянски и есть «благовещенье», а Габриэль д’Аннунцио был в те дни «величайшим», «несравненным», «божественным» итальянским декадентом. Это позднее он стал фашистом и другом Муссолини.
Мы так никогда не узнали, как и почему «баккалауро» свел знакомство со столь шумной и пресловутой личностью, о чем тот писал ему в письме, почему прислал с полдюжины своих фотографий с напыщенными и трудно переводимыми надписями. Но имя Венцеслао, так же как и звучное звание баккалауро, закрепилось за технологом Шишкиным навсегда.
Венцеслао был юношей среднего роста. Предки-цыгане наградили его тонкой, как у восточного танцора, поясницей, при сравнительно широких и мускулистых плечах. Руки и ступни ног у него были малы, точно у непальского раджи, но тонкими пальцами своими он, если находился меценат, склонный оплатить дорогостоящий опыт, без особого труда сгибал пополам серебряные гривенники.
К смуглому красногубому лицу его – интересно, что бы сказали о нем вы, коллега Берг? – по-своему шла большая, угольно-черная, без блеска, ассирийская борода. Зубы – реклама пасты «Одоль», на белках глаз и лунках ногтей чуть заметный синеватый оттенок… В те периоды, когда генерал Болдырев вспоминал о сыне, сын, одетый с нерусским небрежным щегольством, начинал походить на индийского принца, обучающегося в Кембридже: изучает «Хабеас корпус», но, едва кончив курс, вернется к своим женам, своим гуркасам и к священному крокодилу в пруду под священным деревом с белыми священными цветами.
Если же папаша менял настроение (что случалось чаще), Венцеслао быстро приходил в захудание. Ободранный, всклокоченный, весь в пятнах от всяких реактивов, он в такие дни проходил сквозь строй студентов, как сквозь толпу призраков, ему незримых. Он шел и смотрел вперед глазами маньяка, случайно ускользнувшего из дома умалишенных. При первой встрече он показался нам малопривлекательным ломакой. Но скоро выяснилось, что дело обстоит сложнее. В его матрикуле царил удивительный кавардак. Там были – как и у вас, коллега Берг! – «хвосты» за самые первые семестры, а в то же время профессор Курбатов, далеко не такой кротости ученый, как ваш покорный слуга, – зачел ему сложнейшие работы последних курсов… Я ни на что не намекаю, нет, нет…
Случалось, баккалауро являлся мрачным на простейший зачет, высиживал в грозном молчании час или два, вслушиваясь в ответы, внезапно вставал и уходил. «Не подготовлен… Не смею отнимать драгоценное время…» Бывало, он резался не на жизнь, а на смерть с самыми свирепыми экзаменаторами, забрасывая их парадоксами, дерзил, говорил резкости и уносил всё же с поля боя завоеванную в битве пятерку. И когда его кидались поздравлять, сердито цедил сквозь зубы: «А, это все – чепуха!» Его давно уже перестали спрашивать: «А что же – не чепуха?» Если кто-либо новенький задавал этот вопрос, Шишкин прожигал его насквозь огненным взглядом. «Закись азота!» – с маниакальным постоянством, сразу утрачивая чувство юмора, бросал он. Так к этому и относились: «Пунктик!»
Черты его личности открывались нам постепенно и не вдруг: так дети подбирают картинки из причудливо вырезанных деталей. Узнали, что живет он где-то у черта на куличках, на Малой Охте или за Невской лаврой, снимает угол у хозяина. Нельзя понять: то ли он за стол и квартиру консультирует этого хозяина – гальванопласта и никелировщика, то ли договорился и в его мастерской проводит какие-то собственные опыты… И – чем дальше, тем больше – всё, что нам удавалось узнать о нашем Шишкине, пропитывалось дымкой какой-то таинственности.
На моем личном горизонте он некоторое время маячил вдали, «в просторе моря голубом». И вдруг, в роковой день, крайне заинтригованная Анна Георгиевна прошептала мне в прихожей:
– Павлик, вас там кто-то дожидается… Кто это?
Я заглянул в щелку:
– Это? Баккалауро… Шишкин!
Ее глаза недоуменно округлились, но ведь сверх сего я и сам ничего не знал.
Венцеслао сидел на утлом диване моем, пребывая в перигелии, в лучах отеческой любви. На столе стояла корзинка от Елисеевых с разными «гурмандизами». Рядом красовалась бутылка хорошего вина, а владелец всего этого изобилия, аккуратно сняв ботинки, оставшись в новеньких шелковых носках, уронив на пол газету «Речь», дремал в задумчивой позе с таким видом, точно привык тут дремать уже много лет.
С этих пор его постоянно можно было встретить у меня: на Можайской, 4, он стал… Ну нет, это было бы неверное утверждение: своим он стать не мог нигде. Таким своим может оказаться разве лишь страус в стаде быстроногих антилоп: бежим вместе, но вы млекопитающие, а я – птица!
Среди нас он выглядел марсианином. Анна Георгиевна скоро пришла к мысли, что он пришелец из мира четвертого измерения: она почитывала романы Крыжановской-Рочестер, не к ночи будь таковая помянута… Мило общаясь с нами на некоем определенном уровне, он ни когда не позволял с собой никакой фамильярной близости.
Скоро с разных сторон до нас стали доходить самые странные и маловероятные россказни о нем, о Шишкине. Он не подтверждал и не отрицал даже самых неправдоподобных сплетен. Но странно, если недоверчивые скептики брались от случая к случаю проверять любую та кую околесицу, всякий раз оказывалось: да, так оно и было! По меньшей мере – вроде того…







