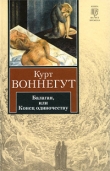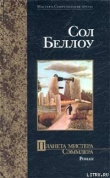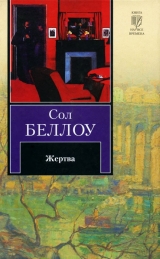
Текст книги "Жертва"
Автор книги: Сол Беллоу
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 17 страниц)
10
Левенталь набежал на Гаркави в воскресенье днем, в кафетерии на Четырнадцатой.
Зашел укрыться от горячего ветра, а заодно и перекусить. Испустив пыльный вздох, за ним захлопнулась стеклянная дверь, он сделал несколько шажков по зеленым плиткам, разинул рот, чтобы отдышаться. Из стопки подносов на столике взял один, двинулся к стойке. Его окликала кассирша. Забыл вытащить чек. Улыбалась: «Вчера хорошо погуляли, а?» Левенталь не стал отвечать. Отвернулся от кассы и – нос к носу столкнулся с Гаркави.
– Тебе что – уши заложило, старик? Я тебе три раза, четыре раза кричал.
– Привет. Ох, тут еще кассирша орет. Я не могу слушать всех сразу.
– Ты сегодня что-то не в настроении, да? Ничего, пойдем, посидишь с нами. Я тут кое с кем. Зять – Юлиин муж, ты знаком, Голдстон – и его друзья.
– Я их знаю?
– Думаю, да. Шифкарт, в частности.
– A-а, музыкант? Трубач?
– Когда это было. Объясни этой женщине, чего тебе надо, а то потом не дождешься. Нет, он уже не по этой части. В одном голливудском проекте. Персевалли и компания, импресарио, «поиск талантов», такого типа. А Шлоссберга ты помнишь.
– Да?
– Я просто уверен. Ну, журналист. Пописывает в еврейских газетах.
– И что пописывает?
– Что попало, по-моему. Сейчас, например, театральные мемуары – раньше в театре работал. Ну и наука, и прочее. Я ведь на идише не читаю, знаешь ли.
– Мне швейцарского с ржаным хлебом, – говорил Левенталь через стойку. – Такой пожилой, да? По-моему, я его видел у тебя, он был с кем-то?
– Совершенно верно; с сыном, которого он на себе тащит в его тридцать пять.
– Больной?
– Нет, так, осматривается; постепенно определяет свое призвание. И дочери есть. Еще хуже.
– Распущенные?
– Бери свой сандвич, – сказал Гаркави.
Женщина размашисто, с грохотом толкнула через прилавок тарелку, и Гаркави поволок Левенталя к своему столу. Трое задвигали стульями, освобождая для него место.
– Левенталь, мой старый друг.
– Мы, кажется, знакомы с мистером Шифкартом, – сказал Левенталь. – Здравствуйте. Мы встречались, когда я жил вместе с Гаркави.
– В холостяцкие дни, – сказал Гаркави. – Голдстона представлять не требуется. А это мистер Шлоссберг.
Шифкарт был лысый, красный – толстая шея, мясистый маленький рот. Сказал дружелюбно: «Да-да, припоминаю», – придавил растопыренной пятерней золотую оправу очков. Шлоссберг зычно повторил имя, но, очевидно, не вспомнил. Сильные басовые ноты прерывались и стирались одышкой. Но сам он был крупный, Шлоссберг; седая внушительная голова, усталые плечи, широкое изношенное лицо; непропорционально мелкие голубые глазки, и даже взгляд изношенный. Но это был еще могучий старик и, видно, когда-то, в молодости (Левенталю чуялось по некоторым ремаркам), чувственный, властный, блистательный – денди, о чем свидетельствовали этот двубортный пиджак, эти остроносые туфли. Плетеный галстук растянут, утратил форму, но завязан смелым, широким узлом. Левенталя сразу к нему потянуло.
– Мы тут обсуждаем одну актрису, которую Шифкарт выискал парочку лет назад, – объяснил Голдстон, обнимая длинной волосатой рукой свой затылок. – Такая Ванда Уотерс.
– Персевалли – вот кто их печет, – сказал Шифкарт. – Великий шоумен.
– Но данную девицу именно ты откопал.
– А я и не знал, что это твое открытие, Джек, – сказал Гаркави.
– Ну, просто увидел, как она пела с оркестриком.
– Ну да!
– В Нью-Джерси. Был в отпуске.
– Сплошное очарование, – сказал Голдстон.
– При личном знакомстве может и не понравиться.
– А на экране – пальчики оближешь, – сказал Гаркави.
– Да, магнетические глаза. А на улице пройдешь, не заметишь.
– Ну, не знаю, – сказал Гаркави. – У тебя профессиональный нюх, и ты толпы красоток видишь. А я до сих пор чист и неизбалован. Ну, конечно, многое зависит от грима, от камеры, но кой-какой материал ведь требуется. Ты же не можешь просто штамповать роскошные секс-машины, верно? Или все дело в легковерной публике? А мне они кажутся подлинными.
– Есть и такие. А если ты на остальных покупаешься, так на то они и рассчитаны.
– Это ж какая сноровка нужна – их откапывать, – вставил Голдстон.
– Прежде всего интуиция. Не будешь же каждой встречной девице устраивать пробу. Но лично я не в восторге от некоторых звезд, которых сам же послал в Голливуд.
– А кто тебе нравится?
– О-о. – Он добросовестно раздумывал. – Ну, например, Нола Хук.
– Да ну тебя, – сказал Шлоссберг. – Кактус какой-то… сухая, тощая…
– Нет, у нее есть шарм. А Ливи Холл, например?
– Скажите, пожалуйста, какое открытие!
– Да. И я вам ее не отдам.
– О, это фейерверк. – Лицо старика было слишком крупно для тонких оттенков иронии. Только Шифкарт, уже державший во рту готовый ответ, не присоединился к общему хохоту.
– В чем дело; чего ей, по-вашему, не хватает?
– Ах, перестань! – Шлоссберг от него отмахнулся. – Бог ее создал женщиной, ну и что? Но играть она не умеет. Видел я этот фейерверк на той неделе в кино. Ах, ну в чем это?.. Она отравляет мужа.
– В «Тигрице».
– Просто беспомощно!
– Не знаю, с каким вы стандартом подходите. Великолепно снялась. И кто бы мог это сыграть?
– Вуд[9]9
Вуд, Натали (1938–1981) – очень популярная в свое время американская актриса русского происхождения.
[Закрыть], уж будьте уверены. Женщина отравляет мужа и смотрит, как он умирает. Ей нужны деньги по страховке. Он голос потерял, знаками молит ее о помощи. Вы ни слова не слышите. И что отображается у нее на лице? Страх, ненависть, холодность, жестокость, волнение? Он закрывает глаза, плотно и гордо, всего на минуту, и видны прожилки на веках. Потом медленно поднимает взгляд, отворачивает лицо, и дрожь пробегает у него по щекам.
– Да, сильно, – улыбаясь, вскрикнул Гаркави.
– Старая русская школа, – не сдавался Шифкарт. – Вышло из моды.
– Да? И в чем такой уж прогресс? А она что делает? Втягивает щеки, пучит глаза. У ее ног человек умирает, а она только и может глаза таращить.
– А по-моему, она изумительна в этой роли, – сказал Шифкарт. – И никто вам тут лучше не снимется.
– Она не актриса, потому что она не женщина, а не женщина она потому, что ей совершенно не нужен мужчина. Просто не знаю, что она такое. И не спрашивайте. Вот я когда-то Назимову[10]10
Назимова, Алла (1879–1945) – американская актриса русского происхождения.
[Закрыть] видел, в «Трех сестрах». Ее жених убит на дуэли, из-за глупости, из-за ерунды. И ей сообщают. Она отворачивается от зрителей и только движением головы, шеи… какая сила! А эта ваша!..
– Кошмар, да? – сардонически выговорил Шифкарт.
– Нет, почему? Тоже успех. Ваш успех, в наше-то время. Сами говорите, прошли бы мимо своей этой Уотерс на улице и не узнали бы. Подумать только! – Все ощутили тяжелое недоумение старика. – Не узнать актрису, и чтоб мужчина не заметил красивую женщину. У нее же есть рот, и тело, осанка. Она что-то шепнет, а у тебя на глазах слезы, она слово скажет, а у тебя ватные ноги. И совершенно не важно, на сцене она или нет, ты чувствуешь: это актриса.
Он умолк. Все призадумались.
– Слушайте, – начал Гаркави, – мне вот отец рассказывал про Лили Лангтри, эту английскую актрису, как Эдуард Седьмой представил ее ко двору. Еще жива была старуха Виктория, он был тогда принц Уэльский.
– Ее прозвали Лилия Джерси, да? – спросил Шифкарт.
– Угу, это я слышал. – Голдстон встал, взял у Левенталя поднос. – Кто будет кофе? Иду снабжаться.
– Стоит послушать, Монти?
– Любимая байка покойного тестя. – И он направился к чайному столу.
– Папа мне эту историю рассказал, когда я дожил до избирательных прав. Всё самое интересное припасал мне навырост. Будто мы сами тогда уже давно не разобрались, что к чему. Только не афишируем. Ну так вот, вы знаете, наш Эдуард был большой ходок. Но когда влюбился в Лангтри, решил ее представить ко двору. Говорят, влюбленные стремятся, чтоб их видели вместе. Горды, когда все про них знают. Ведет иногда к опасным последствиям, между прочим. Ну, значит, захотел он ее представить. Все в ужасе. Что может Лили сказать старухе, и вдруг Виктория разозлится, что сын приволок любовницу в Сент-Джеймс, Виндзор или куда там, я знаю? Репортеры толпой дожидаются конца церемонии. Она выходит, все сразу к ней: «Лили, что ты сказала ее величеству?» «Я все боялась, что ляпну не то, – отвечает Лили, – а в последний момент сообразила. Поцеловала у ней подол, и говорю: «Ich diene!»[11]11
Служу! (нем.).
[Закрыть]»
Все улыбались. Голдстон, с подносом в руках, ногой подталкивал стул.
– Девиз богемского короля в Столетней войне, – объяснил Гаркави, округлив глаза, всех осияв взглядом. – В шлеме у него обнаружили, после битвы при Пуатье.
– Сильно сомневаюсь, что она целовала королеве платье, – сказал Левенталь. – Это что – церемония такая?
– Реверанс. – Голдстон хохотал и, собираясь изобразить эту сцену, уже развернул салфетку.
– Почем купил, по том продаю. Папин рассказ, слово в слово.
– Поскольку старуха была немка, Дили и рассчитывала, что ее поймут, – вставил Шлоссберг.
– Как? Но это ж девиз Ганноверов, – сказал Голдстон.
– Да, это было что-то. Немка на троне, Британская империя, премьер-министр – итальянский еврей.
– Какой же Дизраэли итальянец? – недоумевал Голдстон. – Он же в Англии родился?
– Ну а отец.
– И даже отец. Только дед. Он самый настоящий англичанин, если гражданство хоть что-нибудь значит.
– Для англичан он англичанином не был, – сказал Левенталь.
– Ну почему, его любили.
– Да? А тогда кто говорил, что Джон Булл[12]12
Джон Булл – персонификация англичанина. Персонаж был придуман Джоном Арбатнотом (1667–1735), врачом и остроумным памфлетистом, и получил долгую жизнь.
[Закрыть] пригрел на груди обезьяну?
– Ну, были у него враги, были, естественно.
– А я считаю, что они его так и не приняли, – объявил Левенталь.
– Неправда! – крикнул Гаркави. – Они им гордились, как и мы гордимся.
– Ну не знаю, – Левенталь медленно качал головой, – они преспокойно скушали, что Виктория немка. Но Дизраэли?..
– Он доказал Европе, что еврей может руководить нацией, – сказал Голдстон.
– Вот вам, пожалуйста, весь Левенталь, – выкрикнул Гаркави, – полюбуйтесь на эти взгляды.
– Еврей и империя? Суэцкий канал, Индия, все такое? Я к этому всегда относился скептически.
– Преподать миру урок с пустыми руками… всю эту бодягу я наизусть знаю. – Гаркави воткнул в него ошарашенный, укоризненный взгляд. – Империя же была для него делом жизни. Он был англичанин, великий притом. Бисмарк им восхищался: «Der alte Jude, das ist der Mann!»[13]13
Этот старый еврей, это человек! (нем.).
[Закрыть]
– Какая, собственно, разница между империей и шикарным магазином? – вставил Шифкарт. – Ведешь свой бизнес.
– И он управлял этой фирмой? – сказал Голдстон. – Джон Булл и компания. Над нашими полками никогда не заходит солнце. Главный поставщик Б. Дизраэли.
Тут Левенталю, в общем, как-то уже расхотелось спорить, даже мелькнуло, что зря он ввязался в разговор, сидел бы себе и молчал. При первых словах он, кстати, даже не думал, что его вдруг прорвет. Сам удивлялся, но не мог удержать при себе свои мысли – собственные мысли, конечно, но он никогда их раньше не высказывал вслух и слушал теперь, как со стороны.
– Кстати о Бисмарке, – его уже понесло, – почему это он сказал – еврей, а не англичанин? Дизраэли с ним торговался, вот и был для него евреем, это естественно.
– Насчет отношения Бисмарка к евреям ты не увлекайся, – предостерег Гаркави, – ты поаккуратней, старик. Он облегчил их бремя.
– Ах да, он же что-то такое говорил про выведение великой расы. Как это? «Немецкий жеребец с еврейской кобылой».
– Прямо Кентуккийские скачки[14]14
Соревнования трехлетних чистопородных скаковых лошадей; в первую субботу мая ежегодно, с 1875 г., проводятся в г. Луисвилле, штат Кентукки.
[Закрыть], – сказал Шлоссберг. – И всем хорошо.
– Зачем придираться к словам, – сказал Голдстон. – Он старый кавалерист. В его устах это был такой способ оценить лучшие качества тех и других.
– Кому нужны его комплименты? – сказал Шлоссберг. – Его кто-то просил?
– Для вас это лестно звучит? – Левенталь перестал теребить загривок, вопросительно вскинул руку.
– A-а, я понимаю, что ты имеешь в виду, – сказал Голдстон. – Ты на него валишь нынешних немцев.
– Да нет же! – крикнул Левенталь. – Но почему вас так радует комплимент Бисмарка, притом довольно сомнительный комплимент?
– И что ты взъелся на Дизраэли? – спросил Гаркави.
– Абсолютно я не взъелся. Но он решил руководить Англией. Вопреки тому факту, что он еврей, а вовсе не потому, что так уж ему нужны империи. Народ смеялся над его носом – он занялся боксом; смеялись над его поэтическими шелками – он нацепил все черное; над его книгами смеялись – он их всем совал напоказ. Занялся политикой, стал премьер-министром. И все на нервной почве.
– Да ладно тебе, – сказал Гаркави.
– На нервной почве. – Левенталь не сдавался. – Это великолепно. Кто спорит. Но мне не нравится. Нужно, конечно, превозмогать свои слабости, но зависит – как и зависит – что называть слабостями… Юлий Цезарь был болен эпилепсией. Он научился скакать на коне, держа руки сзади, он спал на голой земле, как простой солдат. А зачем, почему? Из-за своей болезни. И мы обязаны восхищаться такими людьми? То, что для других вопрос жизни и смерти, для них испытание воли. Кому нужно их это величие?
– Но ты же льешь воду на мельницу наших врагов, – начал Гаркави с укором.
– Нет, почему, мне так не кажется, – сказал Левенталь. Больше ему не хотелось спорить. И так слишком много наговорил; понижением голоса он дал понять, что дальше говорить не намерен.
Филиппинец-уборщик подошел к столу. Старый, хилый, руки по локоть выбелены вечной горячей водой. Загромоздил свою тележку, склонился над ней, так что руль уперся в грудь, медленно потащился прочь. С чайных столов сняли один набор меню, со стуком водрузили другой – в металлических рамках.
– Я только одного актера хорошего видел в роли Дизраэли, – сказал Голдстон. – Джордж Арлисс.
– Да, он просто создан для этой роли, – подтвердил Шифкарт.
– Мне он тоже понравился, – сказал Шлоссберг, – тут я согласен, Джек, он просто для этого создан. Это лицо – длинный нос, тонкие губы.
– А я вот Викторий как-то всех пропустил, – сказал Голдстон. – Ни единой не видел.
– Не много потерял, – вздохнул Шлоссберг. – Еще не родилась удачная Виктория.
В ресторане настало затишье. Со всех сторон были черные столы, от угла зрения делавшиеся ромбами, и на каждом свой строгий орнамент: сахарница, солонка, перец, ваза с салфетками. Эта симметрия сообщала некоторую подвижность совершенно пустому пространству. Сзади, под сенью рисованных рощ, устроился персонал, сидели, покуривали, поглядывали на солнечное окно, на улицу.
– Нет, мне попадались хорошие, – сказал Шифкарт. – Вам так-таки ни одна не угодила?
– Ни одна. Во-первых, вопрос, зачем так много Викторий. Может, потому, что она лицом не вышла? Неказистая королева – это теперь то, что надо. Все хочется как-то принизить. Нет? Ну а почему она так популярна? – Он протянул к ним руки, как бы домогаясь убедительного ответа. – Она любила Альберта; была упрямая; хорошая хозяйка. Доходчиво.
– А по-моему, так Юнис Шербат чудная Виктория была, – встрял Гаркави.
– Здоровая, красивая дама; приятно смотреть, – сказал Шлоссберг.
– Так в чем же дело? – спросил Шифкарт. – Играть не умеет? Вы просто завидуете, хотели бы ее контракты иметь, Шлоссберг.
– А что? – согласился Шлоссберг. – Если я способен чего-то хотеть, так это быть лет на тридцать моложе и чтоб чуть отодвинулась смерть. Но штаны у меня протерты. И кому помешают деньги? Она, могу себе представить, их лопатой гребет. В основном потому, что на нее приятно смотреть. А насчет игры? Я сам вам лучше сыграю Викторию.
И правда, подумал Левенталь скорей с уважением, чем с насмешкой, если б только не бас.
– О! В юбках вы бы стали гвоздем сезона, – сказал Шифкарт.
– Сейчас каждый может стать гвоздем сезона, – отозвался Шлоссберг. – Эта публика только и жаждет, чтоб ее ублажали. Сплошной карнавал. Гоняются за призраками. Вот ты скажи мне, Джек, ты хоть раз нашел стоящую актрису?
– То есть вы имеете в виду артистку, не пусечку вроде Уотерс?
– Я имею в виду актрису.
– Ну так вот же вам: Ливия Холл.
– Ты это серьезно?
– Вполне.
– Невероятно, – сказал Шлоссберг. – Такой кусок мяса.
Мощная шея Шифкарта пошла красными пятнами, и чуть ли не злобно он выдавил:
– Она не на дешевый массовый вкус. Но не все так привередливы, Шлоссберг. Вам, кажется, нелегко угодить, уж и не знаю, кто на это способен.
– Вы строгий критик, Марк, – поддакнул Голдстон.
– Я что – выдумываю какие-то особые требования? – сказал Шлоссберг. – Наришер менш![15]15
Глупый человек! (идиш).
[Закрыть] Это и к тебе, между прочим, относится. Бог с ней, с публикой. Между нами – мы же люди свои, можем говорить правду? Так вот, что с ней, с правдой? Все выходит в упаковке. В упаковке и черту будешь рад. Люди клюют на упаковку. Упакуешь – проглотят.
– Я же не утверждаю, что она какая-то Эллен Терри[16]16
Терри, Эллен Алис (1847–1928) – знаменитая английская актриса. Играла в пьесах Шекспира. Б. Шоу для нее написал одну из своих пьес.
[Закрыть]. Хорошая актриса, больше ничего. Вы должны согласиться, Шлоссберг, кое-что в ней есть.
– Кое-что, возможно. Немного.
– Но что-то?
– Ну, пусть что-то, – бросил устало Шлоссберг.
– Хоть что-то ему понравилось, слава тебе Господи! – сказал Шифкарт.
– Я стараюсь всем отдавать должное, – сказал старик. – Я не зануда. Я не выше всех на свете.
Никто с ним не стал спорить.
– Ну вот, – он продолжал. – Так к чему же я гну? – Он пресек их улыбки, всех держа своим строгим, изношенным синим взглядом. – Объясняю. Плохо быть недочеловеком, но и от сверхчеловека тоже радости мало. Что такое этот сверхчеловек? Вот тут наш друг, – он имел в виду Левенталя, – как раз говорил. Цезарь, если помните по пьесе, хотел уподобиться Богу. Может ли Бог болеть? Это идея больного человека о Боге. Может у статуи заложить уши? Нет, конечно. Она не потеет; разве что, может, по праздникам кровоточит. Если я сам себя могу убедить, что никогда не потею, и заставляю всех вести себя так, будто это правда, может, и насчет смерти я тоже как-то устроюсь. Мы знаем, что такое умереть, потому что кое-кто умирает, а если мы себя сделаем такими особенными, так, может, и пронесет? Недочеловек – обратная сторона медали. То-то и оно. Вот вам, собственно, и все. Хорошо играть – значит играть именно человека. И когда вы говорите, что я строгий критик, вы, собственно, хотите сказать, что я слишком высоко ставлю человека. Вот и вся моя мысль. Положим, ты сверхчеловек, так зачем тебе тогда жизнь? И если ты недочеловек – тот же случай.
Он сделал паузу – не из тех, что приглашают к спору, – и продолжал:
– Эта Ливия в «Тигрице». Ну что ты с ней будешь делать. Она же совершает убийство. И какие у нее чувства? Нет ни любви, ни ненависти, ни страха, ни легких, ни сердца, и скромность мешает мне упомянуть, чего еще не хватает. Да там ничего нет! Бедный муж! Его убивает ничто, недочеловек. Пустота. А это должно быть так жутко, чтоб зритель просто боялся взглянуть на ее лицо. Слишком она хорошенькая, что ли, или – ну я не знаю – чтобы чувства иметь. Сразу видишь, что ни о чем человеческом она понятия не имеет, что на смерть мужа ей с высокой горы плевать. Все упаковано, и сначала этот пакет дышал, а потом перестал дышать, а он у вас застрахован, и теперь вы можете выйти замуж за другой пакет и укатить на зиму во Флориду. Положим, кто-то мне ответит: «Очень интересно, вот вы говорите – сверхчеловек, недочеловек, а можете вы мне растолковать, что такое человек?» И действительно, мы так много теперь копаемся в человеке, без конца разглядываем его природу – сам научные статейки пописываю, – и, посмотрев на него так и сяк, покрутив, взвесив, положив на стекло микроскопа, можно сказать: «О чем столько шуму? Человек – ничто, его жизнь – ничто. Или даже она – чушь и пшик. Но вашему королевскому высочеству это не по нутру, и вы ее раздуваете, придумываете начинку. Из чего? Из красоты и величия. Красота и величие? Простейшие понятия, это я еще понимаю; не я выдумал. Но красота и величие?» И я вам скажу: «Да что вы знаете? Нет, вы мне скажите: что вы знаете? Вы зажмуриваете правый глаз, смотрите на предмет, и вот он перед вами. Зажмуриваете левый – и перед вами совершенно другой предмет. Я так же уверен в красоте и величии, как вы в простейших понятиях. Если человеческая жизнь для меня великое дело, то она великое дело. Нет? Вы другого мнения? У меня точно те же права, что у вас. Но опускаться? Вас что – заставляют? Берут за горло? Имейте достоинство, вы меня понимаете? Выбирайте достоинство. Его пока никто не отменял». Ну а для кого же оно еще хоть что-нибудь значит, как не для артиста? И если ему плевать на человеческое достоинство, значит, я вам скажу, где-то вкралась грубая ошибка.
– Браво! – крикнул Гаркави.
– Аминь, аминь. – Шифкарт хохотал. Вынул из бумажника визитную карточку, запустил через стол. – Заскакивайте; организую вам пробу.
Карточка приземлилась рядом с Левенталем; он единственный не одобрял эту шутку. Даже сам Шлоссберг улыбался. Солнце текло в большое окно над их головами. Шифкарт, Левенталю казалось, хохоча, успевал на него поглядывать с особенным неодобрением. Но Левенталь смеяться не стал. Подобрал карточку. Другие вставали.
– Не забудьте ваши шляпы, господа, – крикнул Гаркави.
Мелодический треск кассового аппарата заполнял им уши, пока они стояли в очереди к слепящей клетке кассирши.