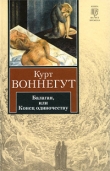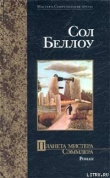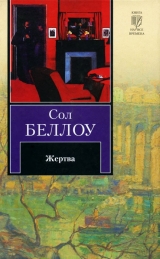
Текст книги "Жертва"
Автор книги: Сол Беллоу
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 17 страниц)
16
Надвигался День труда[19]19
Национальный праздник в США, отмечается в первый понедельник сентября.
[Закрыть]; укороченная следующая неделя. Время сдачи номера сдвинулось, все должно быть готово к пятнице. Бирд собрал редакторов, чтоб сообщить им это известие. Впав в велеречие, он раскатывался туда-сюда по ковру, цепляя красный ворс роликами кресла. Чуть не на каждой фразе вздымал руку, ронял бессильно. Он их собрал по случаю выходных. Долго не станет задерживать. У них своя работа, и краткость – сестра таланта. Однако этот год был удачный для фирмы, и он хочет, чтоб сотрудники знали, как он ценит их преданность и упорный труд. Мы говорим – труд, подразумеваем – порядочность. Они нераздельны. Так что он не столько благодарит своих сотрудников, сколько с этим их поздравляет. Лучше износиться, чем сгнить[20]20
Высказывание приписывается Роберту Саути. На самом деле восходит к епископу Ричарду Камберленду (1631–1718).
[Закрыть], как частенько мы повторяем. Он сам неуемный труженик. Живет черт-те в какой дали от работы, но выходит всегда загодя, настолько, чтоб, если подведет подземка, вовремя успеть и пешком. Если за работу стоит держаться, стоит и к ней относиться ответственно. Без чувства ответственности жизнь становится ничтожной, плоской и тупой, как сказано у Шекспира. Левенталь – белая рубашка, лицо, скрывающее тоску, усталость, досаду, – понял, что стрела пущена в него. И не отрывал глаз от отражения легкой полосатой шторы, парусящего в стекле стола, уже расчищенного по случаю праздника.
Grosser philosoph. Идя по конторе, Левенталь про себя повторял отцовскую фразочку со всей отцовской едкостью. Нашел когда время отнимать. Он вернулся к работе, когда лампа над бумагами еще не совсем занялась своим голубым сияньем. Он-то себе обещал взять передышку, с тем чтобы все обдумать. Но не так уж его огорчало, что работы по горло.
Мистер Милликан, бледный, с раздувающимися ноздрями, прошествовал по конторе, неся в обеих руках гранки. Мистер Фэй задержал Левенталя, чтоб напомнить о желавшем рекламы предпринимателе.
– На той неделе – первым делом. Я прослежу, – сказал Левенталь. – Во вторник.
– Да, я слышал, у вас в семье утрата. Мои соболезнования. – Губы у мистера Фэя вытянулись в ниточку, кожа на лбу пошла морщинами. – И кто?..
– У моего брата, ребенок.
– О, ребенок.
– Мальчик.
– Как ужасно. Да-да, Бирд мне говорил. – Строгие губы придали ему вид холодности, переходящей в страдание. Левенталь понимал, откуда это идет. – И больше нет детей?
– У них еще сын.
– Чуть полегче.
– Да, – сказал Левенталь.
Он вдруг забыл о работе, глядя на мистера Фэя. Тут по крайней мере хоть приличие соблюдено. Бирд тоже мог бы минуточку выделить, сказать что-то. Милликан прошастал мимо, даже кивнуть не нашлось времени. Невысокого полета птицы, ничтожные, мелкие людишки. А-а, да какая ему разница. Ну, подошел в конце концов с вопросом этот самый Милликан, и даже не слушал ответа, только делал вид. Как моллюск в мокром песке; ты для него как шум морской. Левенталь оглядывал стол – бумаги, стакан, набитый цветными карандашами, дородная чернильница, подносик с корреспонденцией. Имелось несколько записок. Одна, датированная вчерашним числом, была от Уиллистона. Держа листок у груди, на ладони, он его оглядывал. Думал: «Позвоню, как чуть полегчает; едва ли это срочно, а то бы он меня выловил дома или вчера на работе».
В двенадцать позвонила телефонистка и сообщила, что кто-то его дожидается в приемной.
– Как фамилия?
– Не говорит.
– Так вы спросите его, да?
Телефон смолк. Через несколько минут он попробовал с ней связаться – никакого ответа. Вышел в закуток, глянул на ее стол. Отлучилась. Сдернул с крючка соломенную шляпу, надел. Первая мысль была – это Макс. Но Макс бы назвался. Видимо, это Олби. Много стоят его обещания не лезть к нему на работе. Приемная была пуста. Левенталь толкал матовое стекло перегородки, чтоб посмотреть, не вернулась ли она к коммутатору с другой стороны, но услышал ее сзади. Она прошла через контору.
– Так вы определили его?
– Он в коридоре, а фамилию свою не говорит и входить не желает.
Она смущенно хихикала, маленькие глазки так и спрашивали у Левенталя, в чем дело. Он вышел в коридор.
Олби, возле шахты лифта, следил за натянутыми тяжестью тросами. Пиджак намотан на руку; лицо желтое, заросшее, распахнута грязная рубашка; развинченная поза, одна рука прижата к груди. И развязаны шнурки на ботинках. Будто напялил одежу, едва вылез из постели, и, не теряя ни секунды, бросился на свиданье к Левенталю. Неудивительно, что девица хихикала. Но Левенталя не очень трогали, в сущности, ни ее смешки, ни сам Олби. Красно зажглась нижняя часть шара над дверью, мягко остановился лифт. Они с Олби втиснулись в толпу девиц из коммерческого училища сверху.
– А хорошенькие, – шепнул Олби. Их прибило друг к другу вплотную. Левенталь рукой не мог двинуть. – Хорошенькие, свеженькие. Скоро мы с вами так одряхлеем, что реагировать перестанем. – Левенталь молчал. И этот человек вчера рыдал по своей жене, думал он, пока они плавно спускались.
Олби потащился за ним через вестибюль, вышел следом на улицу.
– Вы, по-моему, обещали, что не будете сюда соваться? – сказал Левенталь.
– Я вас дожидался снаружи, прошу отметить.
– Но я не хочу, чтоб вы сюда шлялись, вам было сказано.
Олби его осиял ироническим, упрекающим взглядом. Взгляд был ясный до странности, учитывая, как он вчера перебрал. Голос, правда, сел.
– Я пообещал, что не доставлю вам тут мороки. При отношениях, сложившихся между нами, вы могли бы мне чуточку доверять.
– Да? – сказал Левенталь. – И какие же у нас отношения?
– Кроме того, я глянул, что там внутри происходит. Это не для меня.
– Ну хорошо. Что вам надо? Только поживей. Мне только поесть и тут же вернуться.
Олби мешкал. Неужели, думал Левенталь, он не подготовился, неужели это все экспромт? Или все входит в игру – смущенье, несобранность?
– Я знаю, вы ко мне относитесь с подозрением, – родилось наконец.
– Да ладно вам, не тяните.
Олби провел по глазам ладонью. Сильно сморщил нос.
– Мне надо двигаться.
– A-а, так вы отбываете?
– Нет, кто сказал? Ну, в общем, да, как только смогу. Само собой. В основном я хотел сказать… – Он призадумался. – Я вчера с вами разговаривал на полном серьезе; я намерен за себя взяться. Но для начала необходимо кое-что предпринять… подчиститься, принять более презентабельный вид. Эдак я ни к кому и приблизиться не могу.
Тут Левенталь был совершенно согласен.
– Мне надо постричься. И эта рубашка, – он ее подергал, – костюм необходимо отдать в чистку. Отутюжить хотя бы. На всё деньги нужны.
– На виски вы деньги находите. Тут не возникает проблем.
Взгляд у Олби был серьезный, убедительный, даже несмотря на зловещую отечность лица.
– Вчера, как я понимаю, вы пьяны не были. С чего бы? От воды из-под крана?
– Это были последние-распоследние денежки Флоры, жалкая пара долларов. Последняя с нею связь, – сказал он с растяжкой, – осязаемая то есть.
Левенталь с сомнением на него глянул. Взгляд вмешал все, слов не требовалось. Тот пожал плечами, отвел глаза.
– Я от вас и не ждал одобрения, даже хотя бы сочувствия. Ваш брат вообще – тут исключительно мое наблюдение, не более, так и прошу воспринимать, – вы снисходительно относитесь только к тем чувствам, какие сами способны испытывать. А тут было мое прощанье с женой. Не сентиментальное. Именно что наоборот. Купить рубашку, постричься на ее несчастные доллары – вот это была бы сентиментальность. Хуже. Было бы ханжество. – Толстые губы скривило отвращение. – Ханжество! Деньги эти следовало пустить том же дорожкой, вслед всем остальным. Было бы пошло и мелко последний десятицентовик взять и пустить на что-то другое.
– Короче, вы ради жены старались.
– Да, а что? Я не собирался хоть цент единый тратить себе на благо. Я чувствовал, что так именно обязан поступить, как бы мне ни было больно. А мне было, было больно, – он прижал руку к сердцу, – но я по крайней мере совести не потерял. Не стал за ее счет делать карьеру. Не старался сделаться кем-то, кем не был до ее смерти. И в результате не стыжусь самого себя, – он навис над Левенталем, нескладный, и уже раздвигала губы усмешка, – а вот вы бы так не могли, Левенталь.
– Авось и не понадобится, – сказал Левенталь с омерзением.
– Вам легко говорить. Вас жареный петух не клевал. Погодите, вот когда клюнет.
– Не понял?
– Погодите, пока с вашей женой что-то случится.
Тут Левенталя взорвало:
– Прекратите каркать… и ваши намеки. Вы уже раньше высказались. Хватит вам, к черту, к черту!
– Я же не хочу, чтоб что-то случилось, – сказал Олби, – я одно хотел – показать вам, что вы счастливей меня. Только лучше не забывать, счастье – оно капризно, надо быть ко всему готовым, и когда вы попадете в мое положение… если когда-нибудь попадете. Тут-то вся и штука, в этом самом если, – он вновь поймал свою любимую тональность и даже повеселел, – это если хватает нас за уши и мотает, как зайцев. Но если!.. И как придется наедине с собой ковырять каждый промах, какой допустил, все, в чем был перед нею виноват, тогда, может, до вас и дойдет, что не так-то все просто. Вот, собственно, и все, что я хотел вам сказать.
– Значит, переходим к моим грехам.
– Я не буду касаться ваших измен. Тут я совершенно не в курсе, хотя это тоже весьма существенно – твои измены жене, ее измены. Но я не о том, не о том. Главное, не забывать, что ты животное. Вот откуда идет всякая ненужная дрянь. Конечно, я не ратую за неверность. Вы знаете, как я отношусь к браку. Но вы видите вокруг массу браков, в которых один партнер слишком много берет от другого. Если женщина требует слишком много от мужа, тот старается добрать свое у другой. Ну и жена, соответственно. Каждый стремится восстановить баланс. Природа подчас грубо разрушает человеческие идеалы, идеалам же приходится считаться с природой. Но мы ведь не обезьяны какие-нибудь, нам надо жить ради идеалов, не ради природы. А отсюда все грехи и ошибки. Вот мне рассказывали один случай…
Левенталь заорал:
– Вы думаете, я тут буду стоять и слушать про ваши случаи?
– Я думал, вам будет интересно, – сказал Олби мирно.
– Не интересно, нет.
– Ну хорошо.
Левенталь двинулся к ресторану, Олби потащился следом. По ним параллельно скользили косые тени надземки. Дрожали и вспыхивали оконные стекла, металлические переплеты.
– Где вы тут питаетесь?
– Мне туда.
Дошли до угла.
– А мне незачем с вами идти. Я выпил кофе перед дорогой.
– Ну пока, – бросил Левенталь безразлично, почти не останавливаясь: смотрел на светофор. Но Олби шел за ним, слегка приотстав.
– Я вот хотел спросить. Деньжат не подбросите? Долларов пять?..
– Чтоб начать новую жизнь? – Левенталь все еще на него не смотрел.
– Сами же предлагали, недавно.
– Объясните, почему я обязан вам что-то давать? – И Левенталь посмотрел ему прямо в лицо.
Олби на это ответил робкой, несколько жалкой улыбкой, тогда как Левенталь, наоборот, теперь почувствовал себя куда уверенней.
– Вот объясните, – он повторил.
– Вы же сами предлагали. Я отдам, – Олби опустил глаза, и как-то странно задергались у него не только опущенные веки, глазные яблоки, – даже виски.
– Ну как же. Вы ведь человек чести.
– Я хотел бы занять долларов десять.
– Ага, надбавили. Вы раньше сказали пять, пять я вам и дам. Но предупреждаю – если вы заявитесь пьяный…
– Об этом вы не волнуйтесь.
– Волноваться? Делать мне больше нечего?
– Я не пьяница. Не настоящий.
Левенталь, в общем, хотел спросить, кто же он тогда, кем себя считает на самом деле. Но он только бросил насмешливо:
– А я и поверил, когда вы рассуждали, какой вы отчаянный, – открыл бумажник и вытащил пять однодолларовых купюр.
– Весьма признателен, – сказал Олби, сложив деньги и застегнув нагрудный карман рубашки, – все до последнего цента отдам.
– Хорошо, – сказал Левенталь сухо.
Олби пошел прочь, а Левенталь думал: «Если он выпьет хоть рюмку – а он же думает, одна рюмка, и всё, и на этом конец, – он выпьет вторую и потом еще десять. Все они такие».
В тот вечер Левенталя поджидало письмо от Мэри. Он тянул его из ящика, благодарный судьбе. От намеков Олби он мучился больше, чем сам догадывался. Он их отметал. Какие, собственно, основания изводиться? Но бывают ведь совпаденья; скажут про что-то, а там, глядишь, и случится. Он поддел пальцем клинышек, разорвал письмо. Пухлое. Он сидел на ступеньках и читал, ничего не замечая вокруг, отдаваясь своему счастью. Письмо было помечено вечером вторника; она только вернулась из гостей, ужинала у дяди. Спрашивала про Микки – Левенталь все тянул, не сообщал, никак не мог решиться, – немножко жаловалась на мать. Как с ребенком с ней обращается, просто смешно. Не варит кофе на двоих, считает, что дочь обязана пить молоко, никак не возьмет в толк, что она у нее не только взрослая, не такая уж и молодая. Сегодня утром вылезли на свет несколько седых волосков. Старушка! Левенталь улыбался, но нежная тревога сквозила в улыбке. Он перевернул страницу. Времени у нее уйма, делать в общем-то нечего, вот она и накупает себе всякой всячины, шьет штаники, украшая кружевами со старых маминых блузок «во вполне приличном состоянии, и очень хорошенькими, как ты убедишься, когда я приеду». Дальше шло про племяшек. Он поднес бумагу ко рту, как бы пряча зевок, и к ней прижался губами.
Была бы она еще в Балтиморе, он бы рванул туда на выходные. А из Чарлстона не поспеешь обратно ко вторнику, разве что самолетом. И там же теща, в Чарлстоне, только что овдовела, с ней, трудно, наверно. Да и осталось-то всего ничего потерпеть, а там уж Мэри будет в его полном распоряжении и все уладит. И все будет хорошо. Она умеет все поставить на место.
От мыслей о встрече еще тягостней было входить к себе в дом. Он послушал под дверью. Не хотелось снова попасть врасплох. Ни звука. «Пусть только явится пьяный, – думал Левенталь, – об одном прошу».
За несколько дней квартира запакостилась. Раковина заставлена посудой, объедками, пол в гостиной завален газетами, переполненные пепельницы, вонь. Приуныв, Левенталь распахнул окна. И куда подевалась эта Вильма? Ведь всегда приходила по средам? Может, Мэри забыла сказать, чтоб являлась в ее отсутствие? Решил попросить миссис Нуньес завтра прибрать. Взял одну пепельницу, понес в уборную. Там было скользко. Вцепился в заслонявшую душ клеенку: мокрая. Ноги в темноте наткнулись на что-то сырое, нагнулся и поднял свой легкий халат. Быстро, злобно шагнул в гостиную, расправил текучий халат на свету. Обнаружились отпечатки ботинок и вокруг кармана голубые разводы, по-видимому от чернил. Он вывернул карман: рекламки, визитная карточка Джека Шифкарта, шутя запущенная в Шлоссберга, и, мятые, замызганные, те две открытки, которые несколько недель назад он получил от Мэри. В совершенном бешенстве он швырнул в бак этот халат. С перекошенным лицом, задыхаясь от ярости. «Сволочь поганая!» – почти невнятно, с трудом, выдавил из себя, одолевая невозможную пробку в горле. Отшвырнул стул от бюро, хлопнул доской, повыдергал бумаги из ящиков, стал пробегать глазами – будто в таком отупении и слепоте можно определить, чего не хватает. Деревянными, неслушающимися руками он их расправлял: письма, счета, расписки, рецепты, которые Мэри хранила наклеенными на картонки. Свалил это в кучу, выхватил записную книжку и, пнув доску коленом, все побросал в ящик, книжку заодно. Ящик запер, положил ключ в нагрудный карман, сел на кровать. И все держал в руках письма и вырезки, которые вынул из кармана халата. «Я убью его!» – крикнул громко, с силой огрел кулаком матрац у себя между коленями; и умолк, и распахнул большие глаза так, будто силился вскрыть внутреннюю пустоту чем-то острым извне. С нажимом тер лоб. А взгляд уже бежал по строкам тех открыток, по тайным словам, предназначавшимся только ему. Встречались кое-какие отсылки и сокращения, никому больше не понятные; смысл остального трудно было не ухватить. И так их таскать, держать при себе, чтоб заглядывать! При этой мысли шею и плечи Левенталю залило горячей волной. Сволочь, гад, ничтожество! Его мутило. Но если Олби их увидел случайно… ах, все равно омерзительно. Да нет, какое случайно; рылся в тряпках, в бюро – карточка Шифкарта тому доказательство, он же точно помнит, он ее спрятал, – нос совал в письма, вот эти две открытки и придержал, поразвлечься захотел. А может, и ранние письма Мэри он видел, письма примирения, после разрыва? Да, они где-то в бюро. Может, потому он сегодня и подпускал свои шпильки насчет брака и прочее? Может, конечно, и просто так болтал, наобум, вдруг заденет. Кого бы не задело. Опять Левенталя ужалила мысль о том эпизоде, перед женитьбой, о поведении Мэри. До сих пор никак не доходит. Как могла она так поступить? Но ведь сто лет назад решено принять за факт и перестать удивляться. А Олби небось те письма читал – и какая возможность роскошная! Мэри в отъезде, почему ж намек не подпустить? Одного не учел – старинный соперник Левенталя умер. От сердечной недостаточности, два года назад. Шурин сообщил, когда приезжал погостить. Так что в письмах не отражено.
Себя он убеждал: «Много понимает такой грязный пьяница в такой женщине, как Мэри».
17
И темнело. Он не стал зажигать лампу возле постели, сидел, держа открытки в руке, ждал Олби, прислушивался к шагам и вместо них слышал пестрые звуки улицы, грохот радиомузыки из-под пола, скрип канатов лифта-подносчика; вопли мальчишек взлетали над спутанной разноголосицей, четкие, как над костром искры. Солнце садилось, и цветные, сияющие облачные очесы стекали, все набирая темп, в серость и синь, а на фасадах, поверху, остерегая пилотов, проступали огни, как сторожевые сигналы вдоль берега. Левенталь смотрел сквозь волнистое стекло, как сквозь водную толщу из глубока на поверхность. Воздух отдавал солью. Веял бриз; вздувал шторы, гремел на полу газетами.
Погодя Левенталь поднес руку к смутным золотым отсветам у окна, посмотрел на часы. Шло к девяти; он больше часа так просидел.
Он задумчиво оглядывал улицу. Понемногу его отпустило. Готовился противостоять Олби, а вот – впал в состояние тупого покоя, даже проголодался и встал, чтоб идти ужинать. Ждать Олби бессмысленно. Пьет небось, в кабаке спускает последний доллар, себя доканывает. И к лучшему, что не заявился, ему же одно нужно, чтоб его принимали всерьез. Как только удастся, начнет веревки вить из Левенталя. Того и добивается, ясно как день.
Ресторан был битком набит; к стойке не протолкаться. Он встал в хвосте, приглядывая себе столик. «У меня там возле бара клиенты, – кинул на ходу темный тощий официант, – но я вам что-нибудь устрою» – и, балансируя чашками в обеих руках, прорысил дальше. Левенталь никак не мог решить, ждать со всеми или ретироваться к кухонной двери. Если затеряться в толкучке, маловероятно, что официант без очереди посадит его за столик. Он продвигался вдоль косой стены ближе к кухне. Смотрел сквозь арку, как один повар счищает с ладоней муку и, остужая лицо, обмахивается фартуком. И толкнул чью-то, видимо, случайно протянутую руку. Сказал, не глядя: «Прошу прощенья». Ему ответили с хохотом: «Чего не смотрите?» И хотя показалось странным, что такое произносится с хохотом, он не обернулся, просто кивнул и пошел дальше, но тут его дернули за пиджак. Оказалось: Уиллистон. И Фебе.
– Привет-привет, – она говорила. – Уже с людьми не разговариваете?
Вдруг решила, что он нарочно их избегает, осенило Левенталя.
– Просто задумался, – он объяснил, густо покраснев.
– Садитесь. Вы один?
– Один. Мне обещали столик, так что…
– Ах, ну давайте. Садитесь. – Уиллистон отодвинул стул.
Левенталь замялся, Фебе спросила:
– В чем дело, Аса? – И было ясно – еще минута колебаний, и она обидится.
– A-а, ну, Мэри уехала, – он мямлил, – я вообще на еду не налегаю. Забежал что-нибудь перехватить. И вы же почти кончаете…
– Так садитесь, ну? – говорил Уиллистон.
– Жена уехала! При чем тут? Ох ты Господи!
Левенталь оглядывал ее совершенно белое лицо, густые прямые брови, ровные зубы, выказываемые при улыбке. Из-за грохота пришлось на минуту умолкнуть. Он сел на предлагаемый стул и грузно навалился на столик, когда мимо протискивался официант. Опять приподнялся с озабоченной миной, стараясь поймать его взгляд. Снова сел, уговаривая себя, что не надо так нервничать. С какой стати так из-за них изводиться? Читал меню, прижав руку ко лбу, ощущая влажность и жар под пальцами, давая улечься взбаламученным чувствам. «В чем дело? Почему я должен пасовать перед ними?» Эти мысли его укрепили. Когда захлопнул меню, он был уже в себе поуверенней. Официант подошел.
– Что порекомендуете? – спросил Левенталь.
– Суп, хотите фасолевый суп? Лазанья, можем предложить.
– Я вижу мидии. – Он показал на ракушки.
– Очень вкусные, – сказала Фебе.
– A la possilopo, – записывал официант.
– И бутылку пива; и сначала суп.
– Сей момент.
– Я пробовал с вами связаться, – сказал Уиллистон.
– А? – Левенталь повернулся к нему. – Срочное что-то?
– Да все то же.
– Я получил ваше сообщение. Хотел отзвонить, но не вышло.
– А что такое? – вклинилась Фебе.
Левенталь обдумывал ответ. О семейных событиях говорить не хотелось; получится, что он набивается на сочувствие, да он просто не мог упомянуть о смерти Микки за столом, между делом. От одной мысли мутило.
– Да так, разное, – произнес он.
– Аврал из-за Дня труда? – сказал Уиллистон.
– И это, и личное. В основном работа.
– И что вы в праздники делаете? – Фебе спросила. – Куда-нибудь собираетесь? Нас пригласили на Файер-Айленд[21]21
Место отдыха близ Нью-Йорка: пляжи, множество загородных домиков.
[Закрыть].
– Нет, я никуда.
– Три дня торчать в городе, одному? Бедняжка.
– Я, собственно, не совсем один, – сказал Левенталь спокойно, глядя на нее, – при мне остается ваш друг.
– Наш? – она вскрикнула. Он понял, что задел ее за живое. – Вы имеете в виду Керби Олби?
– Да, Олби.
– Я как раз хотел спросить, – сказал Уиллистон. – Он все еще при вас?
– Все еще.
– Скажите, ну как он? – сказала Фебе. – Я же не знала, что вы насчет него приходили. А то бы не скрывалась на кухне.
– Не знал, что для вас это так важно.
– Ну, так теперь я хотела бы знать, как он? – не отступала она. Интересно, что из его характеристик ей доложил Уиллистон?
– А Стэн не рассказывал?
– Рассказал, но я от вас хочу услышать.
Куда подевалась ее фирменная ровная снисходительность? На скулах проступил легкий румянец, и Левенталь про себя подумал: ну вот, теперь, для разнообразия, и в открытую. Он тянул, боясь, что сейчас взлезет Уиллистон. Официант перед ним поставил зеленые и черные мидии, и он сказал, взяв вилку, как бы взвешивая на руке:
– О, он все мотается.
И приступил к еде.
– Очень он страдает из-за Флоры?
– Из-за жены? Да, он страдает.
– Какой это для него, наверно, был ужасный удар. Вот не думала, что они разойдутся. Все так блестяще начиналось.
Блестяще? – думал Левенталь. И нарочно молчал, подчеркивая, как поразило его это слово. И что она имеет в виду? Да женщина вам так про любую свадьбу расскажет. Что тут блестящего? Это Олби – блестящий?
Он вяло кивнул.
– Я была у них подружкой невесты, если хотите знать, почему меня это так волнует.
– Фебе с Флорой вместе учились в школе.
– Да? – спросил Левенталь не без интереса. Он наливал себе пива. – Я пару раз ее у вас видел.
– А как же, – сказал Уиллистон.
Фебе на краткий миг обрела свой обычный стиль:
– В церкви, помнится, требовалась певица, но пришлось обойтись, из-за будущей тещи. Боялись оскорбить ее в лучших чувствах. Все подсмеивались над ее пеньем. Она тысячу лет проучилась в Бостоне. Дама под шестьдесят, может, когда-то и был голос, но, конечно, к тому времени поизносился. Но она все равно пела. Ну как же, сын женится! Ведь не запретишь. Бедный Керби! Но старушка была прелестна. Поведала мне, что в молодости у нее были дивные ножки, и она ими гордилась, и какая жалость, что приходилось носить длинные юбки! Ах, рановато она родилась!
– Извините за нескромный вопрос, – вклинился Левенталь, – но эта свадьба считалась удачной, то есть для жены?
– В каком смысле?
– Семья одобряла ее выбор?
– У них были опасения. Но я его считала многообещающим. Такой умница, обаятельный. И все так считали. Мне казалось, он всем нашим друзьям даст сто очков вперед.
Уиллистон поддакнул:
– Да, малый башковитый, притом начитанный. Бездну всего перечитал.
– И вдруг все рухнуло. И неизвестно, кто виноват. – Фебе вздохнула и обратила свое длинное красивое задумчивое лицо с замечательными, ровными бровями сперва к мужу, потом к Левенталю.
– Ну, она ведь не виновата, да? – сказал Левенталь. – Жена?
– Нет… – Фебе как-то замешкалась. – Ну чем она виновата? Она его любила.
– Хорошо, она не виновата, тогда кто же? – не отставал Левенталь. – Она от него ушла, так?
– Да, ушла. Почему, мы так и не знаем. Она со мной не делилась. Мы наблюдали, в общем, со стороны. Трудно понять, он же такой чудный.
«Чудный, – презрительно повторил про себя Левенталь. – Блистательное начало! И что эта женщина могла увидеть этими своими глазами? Что позволила себе увидеть? И как это – прекрасно начиналось, много обещало, а кончилось такой дрянью? Нет, конечно, с самого начала было сплошное не то, каждый бы заметил, кто хотел замечать. А Фебе не хотела замечать. И понятно, что Олби боится показаться на глаза Уиллистонам, они о нем такого высокого мнения».
Он сказал, перебарывая себя:
– Говорят, пьющие люди часто производят хорошее впечатление. Многим нравятся.
– Все еще пьет, а? – Уиллистон понизил голос.
– Все еще? – Левенталь только плечами пожал: в смысле – что за вопрос?
– Нет, он именно был такой, как я говорю. Стэн не даст соврать. И вовсе он тогда еще не пил. Но вы не ответили, как он? Что поделывает?
– Ничего не поделывает. А что собирается делать, мне не докладывал.
– Но вы ему скажете, чтоб к нам заглянул, да? – Лицо у нее дрогнуло от скрытой обиды.
– С удовольствием. – В голосе у него таки звякнуло раздражение. Уиллистон вертел ложку в коротеньких пальцах. Он мало говорил, понял, видимо, что Фебе повело не туда, боялся влезать, чтобы еще не напортить. Левенталь изо всех сил сдерживался. Хотят видеть Олби – пусть берут себе насовсем, пожалуйста, ради Бога, но они же не зовут его пожить, только в гости приглашают. И как это, хотелось бы знать, Фебе даже в голову не приходит спросить, почему Олби живет у него, а не у своих друзей? Логически рассуждая, ему бы к ним надо было пойти. Но, разглядывая это белое лицо, вдруг он понял, что кое-какие логические вопросы ей задавать не хочется. Факты ей не нужны; она их отметает. В общем, прекрасно все она поняла, можно не сомневаться. Но нет, ей надо доказывать, что Олби нуждается в заботе. И очень возможно, ей так же хочется его видеть в теперешнем состоянии, как ему ее хочется видеть. Небось представляет себе, на что он похож. О, прекрасно представляет! Но вот надо ей, чтоб он опять стал таким, каким был когда-то. «Милая моя, – возмущался про себя Левенталь, – я же не прошу взглянуть на вещи моими глазами, но хотя бы взглянуть. И все, и достаточно. Хоть разок глянуть!» Да, все так, но Уиллистоны ему помогли; он перед ними в долгу. Да, но то, что сделали для него Уиллистоны, – это же тьфу в сравнении с тем, что они, по сути, требуют, чтоб он сделал для Олби.
Уиллистон уже злился, или Левенталю почудилось.
– Едва ли Керби захочет нас видеть сейчас, детка, – он сказал, – а то бы он давно пришел.
– И очень жаль, что не пришел, – сказал Левенталь. С большим нажимом, чем ему хотелось, и Фебе тут же поставила его на место:
– Я, кажется, вас не понимаю, Аса.
– Вы бы на него посмотрели! Думаю, вы бы его не узнали, судя по тому, что вы описываете. Для меня – будто о другом человеке речь.
– Ну, наверно, не я в этом виновата. – Она умолкла, передохнула. Опять проступили на скулах красные пятна.
– Наверно, он изменился, – с расстановкой проговорил Уиллистон.
– Уж поверьте, ничего общего с тем, что рисует Фебе. Это я вам говорю! – Левенталь лишнее слово боялся сказать, чтобы не сорваться.
– Вам бы надо быть великодушней, – сказала Фебе.
И вот тут Левенталя взорвало, он во все глаза смотрел на Фебе, пока ее заливало краской. Отпихнул тарелку, прошипел:
– Я не могу себя изменить, чтоб вам больше подошло.
– Что такое? – сказал Уиллистон.
– Я сказал – невеликодушный, значит, какой уж есть!
– Наверно, Фебе не совсем то хотела сказать. Фебе? По-моему, у Асы создалось ложное впечатление.
– Очевидно, вы меня неправильно поняли, – выдавила она.
– Ах, да какая разница.
– Я хотела сказать исключительно, что Керби подавал большие надежды, в таком духе. А что я еще сказала?
И что она в нем понимает? – горько думал Левенталь. Но молчал.
– Я потому звонил, что хотел спросить, не надо ли ему подкинуть деньжат, – заговорил Уиллистон, – насчет работы для него – не представляю, а ему же кое-что нужно. Думаю, несколько долларов не помешают…
– Верно, – сказал Левенталь.
– Я вам дам, предположим, десятку. Только вы ему не говорите откуда. От меня он, может, и не захочет принять.
– Да-да, спасибо. Очень мило с вашей стороны.
И Уиллистоны удалились. Левенталь видел их спины в синем зеркале бара над батареей бутылок. Стэн ждал, пока Фебе, остановясь, тронула шляпку, и парочка взошла по ступенькам, прошла под навесом.