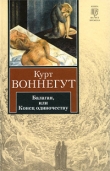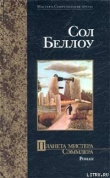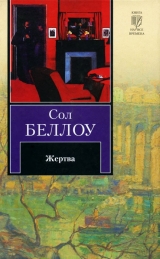
Текст книги "Жертва"
Автор книги: Сол Беллоу
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 17 страниц)
13
А потом началась неделя, ужасная для Левенталя. В понедельник доктор Денизар не выказал оптимизма, и, поскольку он успел доказать, что не склонен к панике, Левенталь понял: ему на медицинский манер дают понять, что надежды мало. Во вторник было уже сказано, что Максу, пожалуй, лучше быть дома. Левенталь заорал в трубку: «Что вы хотите сказать? Я вас правильно понял?» Доктор ответил: «Отец должен быть под рукой». «Последняя сдача, иными словами», – сказал Левенталь. Он послал телеграмму и в тот вечер и на другой ездил в больницу, изо всех сил избегая встречи с Еленой. Микки был без сознания, кормили его через капельницу. Потный, пыльный после длинной дороги, склонялся Левенталь над кроваткой. Детское личико потемнело от жара; игла крепилась к тощей ручке широкими лентами, дюжему малому впору. И все никак не падал уровень жидкости в закрепленном на длинном штативе сосуде. Левенталь прошел к окну, поддел указательным пальнем край шторы, посмотрел вниз, на вьюнки и герани в горшках, чересчур массивных для хлипкого, заглохшего дворика. И – вышел, глупо потоптавшись в ногах постели. Два часа тащился – и десять минут провел в палате у Микки.
Твердил про себя, твердил; «Скоро последняя сдача», – виновато, потому что в глубине души он ни на что не надеялся. Сказано в обход – «последняя сдача», но ведь не доктором сказано, сам додумался. Зато слишком многие вещи назвал своими именами; тут не только Микки, Елена, вся эта дрянь с Олби. Сюда много чего вошло; тягомотина с Олби, например, не может длиться вечно. Но тут еще вот что: эта несчастная «последняя сдача» положит конец тщетной борьбе с тем, чему он не имеет права сопротивляться. Болезнь, безумие, смерть его заставят-таки признать свою вину. Всеми силами, пуская в ход халатность и безразличие, он выкручивался, увиливал, и до сих пор он не знает, в чем его вина. Ловко устроился, вот и не знает. Хотел все смягчить, все смазать, уйти в кусты. Но чем больше он старается подавить, одолеть, придушить то, что пытается побороть, тем больше оно поднимается, душит, и скоро никаких сил не будет сопротивляться. Да уже нет почти никаких сил.
В среду он вернулся домой чуть ли не в полночь. Еще не отперев дверь, услышал пыхтение холодильника, как бы тужившегося поддержать заряд энергии в пустоте квартиры. Зажег свет в гостиной, в ванной, там переоделся в пижаму. Открыл аптечку и смотрел бессмысленно, как смотрят, раздумывая, что же собирались искать; на самом деле он ни о чем не думал. Рука потянулась к бритве, не думая, слепыми пальцами он сменил лезвие, сунул бритву обратно в красный бархатный желобок. Босиком прошлепал в гостиную. На бюро лежала бумага; да-да, написать Мэри. Сел, ногами обхватив ножки стула, набросал несколько слов и замер, соображая, что надо писать, о чем не надо писать. Выбор богатый. Что он скучает? Что все стоит жара? Положил перо и, сминая край листа, всей грудью налег на стол. Тупо, неподвижно сидел в тихой комнате, слушал, как на улице хлопают дверцы машин, как урчат моторы. И вдруг длинно, противно зашелся звонок. Чей-то палец нещадно давил на кнопку. Левенталь метнулся к двери, крикнул: «Да?» Снизу его окликнули несколько раз, он ответил: «Кто там?» Свесился через перила, увидел Олби площадкой ниже, отскочил, захлопнул дверь. Тут же ручку повернули, снова повернули, спокойно, потом дернули.
– Да-да, что вам еще? Что надо? – крикнул Левенталь.
Олби постучал, Левенталь распахнул дверь, увидел, как он поднимает руку, чтоб постучать снова.
– В чем дело?
– Мне надо вас видеть.
– Ну так вы меня видите. – И он взялся за дверь, но Олби быстро выдвинул голову вперед с печальным укором, без злобы глядя на Левенталя.
– Несправедливо, – сказал он. – Я-то набираюсь храбрости, чтоб к вам прийти. Чуть не целый день готовился.
– Что-то новенькое состряпали.
Лицо Олби было серьезно. Чертики безумия, плясавшие обычно в улыбке, теперь совершенно отсутствовали.
– Недавно… на той неделе… я кое к чему подошел. Хотел кое-что с вами обсудить.
– Я вашими дискуссиями сыт по горло. Сейчас их просто не выдержу. Уже первый час.
– Да, поздно, знаю, – согласился Олби. – Но нам надо было обмозговать кое-что важное. Мы отвлеклись от темы.
– Это вы отвлеклись, – отрезал Левенталь. – Я и не вовлекался.
– A-а, я вас, кажется, понял. Ну, мало ли что я говорил, я же не переходил на личности. Вы не подумайте…
– Что? Значит, это все была теория, сплошная теория? – сказал Левенталь едко.
– Ну, отчасти. Отчасти я просто шутил, – вымучил из себя Олби. – Закоренелая привычка. Знаю, нехорошо.
– Простите, но я вас не понимаю. Наверно, я и Эмерсона не понимаю. Одно к одному.
– Пожалуйста… – начал Олби уныло.
Площадка затихла под смутными переборками слухового окна, под грязным стеклом.
– Всё вы не так понимаете, – заключил он.
– А как прикажете понимать?
– Вам бы следовало соображать, что я не совсем… – он запнулся, – не совсем владею собой…
От косых теней его бледное плотное лицо растекалось. Круги под глазами Левенталю напомнили пятна на яблоке-падалице.
– …Я чего-то не схватываю. Я не собираюсь оправдываться. Но вы не поверите, как я…
– Ну, в наше время чему только не поверишь. – И Левенталь хохотнул коротко, тускло.
Под печальным взглядом Олби он оборвал свой смех. Тот, вздернув брови, вспахивал пятерней свои белесые грязные патлы, и Левенталь про себя отмечал в этом все то же актерство. Но вдруг он ощутил странную близость Олби – лица, тела, как тогда, в зоопарке, напало, когда почудилось, что вот он стоит вплоть за спиной у Олби, с микроскопической точностью видит все его поры, морщины, малейшие волоски, вдыхает его запах. И вот опять. Он буквально чувствовал на себе этот вес не своего тела, и как его облегает одежда. И лицо, дряблое на щеках, твердое на лбу и на подбородке, стало вдруг непереносимо, до жути отчетливо; и опознающий взгляд, который держал на нем Олби, был точная копия собственного его взгляда. Никакого сомнения. Но он же помнил, что Олби его ненавидит, и эта мысль – хоть смазанная слегка странным ощущением близости, буквально ощущением, – не отпускала его. Грузный, незыблемый, он не двигался, стоя у двери, как не двигался наверху световой люк.
– Вы меня не впустите? – Олби сказал наконец.
– А зачем?
– Мне надо с вами поговорить.
– Я нам уже сказал, поздно.
– Это вам поздно, а мне все равно, который час. Вы мне обещали помочь.
– Я не собираюсь сейчас обсуждать ваше будущее. Уходите.
– Тут не будущее, тут настоящее.
Левенталь почувствовал, что вот-вот он даст слабину. «Неужели я забуду все, что он мне наплел, и как я разозлился, всю эту дрянь, это безобразие?» – спрашивал он себя. Да, действительно, оскорбление было уже не так остро; от собственных угрызений не стало острей. И было душно на лестнице, как в палате у Микки. До безумия хотелось глотнуть свежего воздуха. Глаза у него устали, их жгло, и все остальные чувства теснила, заслоняла духота.
– Настоящее? – он отозвался эхом.
– Ну да, вы можете войти к себе, выключить свет, и на боковую, – сказал Олби. – Вам хорошо. А мне некуда деться. Уже несколько ночей. Меня выперли.
Левенталь молча его разглядывал. Потом посторонился:
– Ладно, заходите.
Пропустил Олби впереди себя в гостиную, показал на стул. А сам подошел к окну, высунул голову и, глядя на красноватую, темную, мутную улицу, длинно, жадно вдохнул. Потом сел на скрипучую постель. Ее уж неделю не застилали, бумаги, картонные загогулины, которые кладут в прачечной под воротнички, валялись по всей комнате. Кладя ногу на ногу, Олби поддернул обвисшую, замызганную штанину. Как-никак джентльмен. И скрестил на коленке пальцы.
– Так, давайте сначала. Что такое, почему вас выгнали? Где вы были – в гостинице, снимали комнату?
– В меблирашке. Хозяин конфисковал мое имущество. Там, конечно, особенно не разживешься. – На секунду в углы рта скользнула улыбка, тут же погасла. – Но тем не менее.
– За неуплату?
– Да.
– И сколько это?
– Понятия не имею, сколько я ему задолжал. Им, верней. Там еще баба. Она его накрутила. Такие Пунты. Немецкая парочка. Толстая старуха беззубая. Племянник портовый грузчик. Он-то как раз ничего. Старуха вонючая виновата. Это все она. Старики, старухи особенно – самые вредные. Им повезло, и пусть все летит ко всем чертям.
– Повезло? О чем вы?
– Жить так долго. Продраться. Выпала долгая жизнь, – сказал Олби. – Преодолели все трудности. Богатые бедным хамят по той же причине. Ветераны новобранцам. И тэ дэ и тэ пэ. Сами знаете…
– Сколько вы им задолжали? Десять долларов, двадцать?.. – не выдержав, перебил Левенталь.
– Скорей сорок – пятьдесят. Честно вам сказать, я сам не знаю. Что-то я им подкидывал время от времени. Не знаю. Но меньше, чем они говорят, это уж точно.
– Они вам что – не сказали?
– Не помню.
– Да ладно вам!
Олби молчал.
– Но может, вы пойдете им заплатите хоть что-нибудь? Если сорок долларов, то такими деньгами я не располагаю, но хоть что-нибудь?..
– Нет уж, спасибо, там все провоняло. Извините, но эта миссис Пунт – не выношу такой неопрятности.
– О, но вы-то уж образцовый жилец.
– Не худший.
– Ах, простите, забыл, вы же аристократ. – Опять Левенталь коротко хохотнул.
Олби на него посмотрел просто, без тени упрека.
– Ну ладно, и где же вы ночевали?
– К счастью, погода была хорошая. Спал на улице. Под звездами. Мог бы в ночлежку пойти или в миссию. Если бы зарядили дожди, и пошел бы. Временно богомольцем бы заделался. Но погода была хорошая.
– Не понимаю, как вы могли довести до такого. Если вы мне правду рассказываете.
– Если бы я рассказал вам всю правду, вы бы, пожалуй, и не поверили, так что я отражаю только часть. Схематично. Да, наверно, нельзя было до этого допускать. На той неделе я говорил себе, что надо поскорей начать как-то действовать, но почему-то так и не собрался с духом, а тут Пунт меня и выпер, так что изволите видеть. – И вывернул ладонь, как бы представляясь. – При таком видочке ныряльщик жемчуга – единственная работа, на какую могу рассчитывать.
– Сколько вам денег жена оставила? – брякнул вдруг Левенталь.
Олби покраснел. Отрезал:
– А вам какое дело?
– Послушайте, но что-то вы могли с ними сделать, чем взять и профукать.
– Не Бог знает сколько, небольшая страховая сумма… – Он помялся, потом добавил: – Я что, обязан перед вами отчитываться?
– Нет, не обязаны. Но я тоже вам ничем не обязан.
Олби с этим не согласился, выразив свой протест исключительно пожатием плеч. Потом он долго разглядывал Левенталя.
– У меня имелись свои причины, – он сказал. – Я был в специфическом состоянии, я решил соскочить с этой карусели. Вот ваша жена, например, в отъезде. А если бы она погибла в аварии? Тогда вы и были бы вправе задавать мне такие вопросы.
– Идиот! – сказал Левенталь.
– Просто я говорю, что мы с вами в неравном положении. Подождем, пока будем в равном.
– Не дай Бог!
– Ну конечно. Никто не каркает. Но аварии случаются. Вы должны это понимать.
– Послушайте, – сказал Левенталь. – Вам уже сказано. Я ничего вам не должен. Но несколько баксов я вам подкину. Идите в свою меблирашку или в гостиницу.
– Я не могу вернуться. Это невозможно. Я не могу звонить Пунтам в дверь посреди ночи. И у них там кто-то еще завелся. Потому меня и вытурили. И в какой гостинице меня примут? В таком виде? Налегке? Или вы мне ночлежку рекомендуете?
– Ладно, – сказал Левенталь. – Зачем играть в прятки? Я вижу, вы решили сегодня ночевать у меня. Я это сразу понял.
– У вас есть что-то еще на примете?
– Вы прямо набиваетесь в гости. Уже второй час, знаете вы это?
Олби не отвечал.
– Вы себя так вели, что я мог бы вас просто вышвырнуть вон. Да если бы вы сами хоть наполовину верили в то, что тут наболтали, вы бы не захотели оставаться со мной под одной крышей. Шут гороховый.
– Ну почему, у вас же целая квартира на одного. Можете меня приютить. – Олби преспокойно улыбался. – Я вас не стесню. Но если вы желаете по всем правилам…
И к изумлению Левенталя – он так опешил, что ни звука не мог из себя выдавить, – сполз со стула и бухнулся ему в ноги.
Наконец Левенталь заорал:
– Встаньте!
Олби поднялся.
– Ради Христа, прекратите паясничать! Что за мерзость!
Явно забавляясь, глядя на него во все глаза, Олби будто пробовал на вкус сперва одну свою губу, потом другую.
– Учтите, – сказал Левенталь, – я не собираюсь терпеть ваши выходки. Ваши шутки! – Он задыхался от ярости и отвращения. – Сами знаете, никакие это не шутки. Кого вы хотите развеселить? Хотите сбить меня с толку. Голову мне заморочить хотите, чтоб я уже не соображал, на каком я свете.
– Вы не поняли. Просто я хотел вести себя так, как подобает случаю.
– Ладно, – сказал Левенталь, не желая слушать. – А я со своей стороны хочу пойти вам навстречу, да, я пушу вас переночевать, чтоб отплатить за услугу, но на этом все. Вы меня слышите?
– О, вы ведь кое-что мне задолжали.
– Я что – единственный? Вы больше никому никогда не оказывали услуг? Да, похоже, я единственный. И что, что я вам задолжал? Достаточно вы меня изводили. Я мог бы вас вышвырнуть на площадку, захлопнуть дверь у вас перед носом, и совесть моя была бы совершенно чиста.
– На вашем месте – если бы я мог оказаться на вашем месте, в чем я сомневаюсь, – моя совесть не была бы чиста.
– Скажите пожалуйста! Совесть! Я не намерен с вами обсуждать мою совесть, – сказал Левенталь. – Поздно уже.
Он вытащил из шкафа кой-какое белье и, пройдя в столовую, бросил на тахту.
– Мягко. – Олби пощупал матрац.
– Так, чего вы еще хотите – помыться? Там ванная.
– Душ бы принять, – сказал Олби. – Давненько я не стоял под душем.
Левенталь выдал ему полотенце, нашел в кладовке старый халат. Сидел на постели в своей мятой пижаме, слушал, дергаясь, как, прошелестев по клеенке, гремит и падает в ванну вода. Скоро Олби вышел, неся одежду в охапке. С мокрыми и расчесанными светлыми волосами он выглядел совершенно иначе. Левенталь со странным омерзением разглядывал его ноги. Красные, грубые, отечные ступни, искореженные пальцы, закостенелые ногти.
– Поразительно, что делаете человеком душ! – крякнул Олби.
– Я ложусь. – Левенталь выключил свет возле постели.
– Спокойной ночи, – сказал Олби. – Искренне признателен за гостеприимство.
– Угу. Там молоко в холодильнике, если хотите.
– Спасибо, выпью стаканчик. – Олби прошлепал в столовую. Левенталь укрылся, поправил подушку. Щелкнула дверца холодильника, он подумал: «Берет молоко». И уже сквозь сон слышал, как она стукнула, закрываясь.
Он спал, но отдыха не было. Быстро-быстро колотилось сердце, и никак не отпускали впечатления дня. Он видел невнятный сон, как бы со стороны, как невольный свидетель, но он же был и действующее лицо.
На каком-то он вокзале, с тяжелым чемоданом, протискивается в толпе, и громкий шорох несчетных ног взмывает к флагам, щедро вывешенным под арками. На поезд он опоздал, но громкоговоритель орет, что со второй платформы отправление через три минуты. Ворота почти не видны; не успеть за такое время. Толпа валит назад – наверно, теснят сторожа, – и он попадает в какой-то проход, свежевымощенный, оштукатуренный. Кажется, к путям. «Может, тут только открыли, я буду первый», – думает Левенталь. И он бежит и скоро упирается в барьер, нет, подвижное что-то, скорей похоже на козлы. Выставляет вперед чемодан, отпихивает их. Тут его зацапывают какие-то двое. «Здесь не пройти, здесь у меня люди работают», – говорит один. В костюме, в шляпе, похож на подрядчика. Другой в спецовке. «Но мне надо, мне надо на пути», – говорит Левенталь. «Ворота наверху. А здесь посторонним вход воспрещен. Вы что – объявления не видели? Через какую дверь вошли?» «Ни через какую я дверь не вошел, – кипятится Левенталь, – мне срочно; мой поезд отходит». Тот, второй, смотрит как будто сочувственно, но он рабочий, не может соваться. «Но вернуться тем же манером, как пришел, тебе тоже не удастся, – говорит подрядчик, – там объявление. Придется идти здесь». Левенталь поворачивается, и мощным пинком его пускают по какому-то коридору. Лицо у него мокро от слез. Кое-кто замечает, его это совершенно не трогает.
Он не то что проснулся полностью, но держался на самой кромке сна и сознавал, что лежит в темноте. И было дивное облегчение от того, что сон этот кончился. И наступило, кажется, состояние прозрачнейшей ясности, и такое нахлынуло чувство невозможного, полного счастья. И нашла уверенность, что он знает истину. Он себе повторял довольный: «Да, я знаю, знаю, ей-богу. Буду ли утром знать? Но сейчас я знаю». То, что он теперь думает, на свежую голову вдруг и покажется странным, верхом несуразности, просто бредом. «Но почему? Почему? – он думал. – Бог ты мой, неужели я так ослаб, обленился и душа моя заплыла, как мое тело?» Сердце больно ударялось о ребра; и все равно он был спокоен и счастлив. «Что это? Что делаю я, что все делают? Надо признать, как и всеми, наворочена куча ошибок. Ах, не важно, не важно. Все творят неправду и зло». Но как-то ему бесспорно открылось, что всё, всё без исключения происходит в одном человеке, в единой душе. И тем не менее – он едва сдержал усмешку над самим собой, – тем не менее он подозревал, да что там подозревал, знал, что завтра все это рассыплется. «Нет, не удержу, не сохраню, – он думал. – Что-то да помешает».
Особенно остро ему вспоминалось то явное узнавание в глазах у Олби, которые, он не сомневался, как в зеркале, отражали его собственный взгляд. Откуда это? «Поговорим о простейших понятиях», – вспомнилось. Часто вспоминались те слова мистера Шлоссберга. Или истина проста, или надо смириться с фактом, что нам ее не ухватить, а раз нам ее не ухватить, то и нечем нам руководствоваться. И вся недолга. «И зачем же зря изводиться? – сам себе говорил Левенталь. – Нет, истина, наверно, – это что-то такое, что открывается вдруг, без введений и предисловий, но до того обыкновенное, будничное, что не всегда догадаешься, что это и есть истина».
Вцепившись в подушку, он перевалился на спину, закрыл глаза. Но уже он разгулялся, сон не шел. Он услышал, как дышит Олби, встал и прикрыл дверь в столовую.
Забыл завести будильник и поздно проснулся. День вставал мутный, жаркий. Злясь на себя за то, что проспал, он второпях оделся, наспех побрился. Смыл пену, а вид все равно был небритый. Насыпал на полотенце пудры, втер в подбородок, натянул через голову рубашку. Завтракать было некогда. Схватил на кухне апельсин – пососать по дороге к подземке.
Прошел в столовую, где Олби спал ничком, плотно закутавшись в простыню. Из-под нее торчали широкие икры, руки были выброшены вперед, одна касалась стула, на который он навалил одежду. Левенталь подергал матрац, Олби не шелохнулся, он хотел было его встряхнуть, но подумал-подумал, нервничая, злясь, и решил, что не стоит, себе дороже. Сейчас поднимешь, все утро потом с ним придется валандаться. Но что же с ним делать? Однако – Левенталь глянул на часы – и раздумывать было некогда. Полный дурных предчувствий, он отправился на работу.
И почти обрадовался своему зелененькому металлическому столу под грудой бумаг. В синем квадрате окна, как нарисованное, висело облако. Суетня, вращенье двери, в которую скользили девушки, блистанье и трепет вентиляторов – как-то это успокаивало. Он работал вовсю. К одиннадцати разделался с гранками и пошел к мистеру Бирду обсудить передовицу для нового номера. Милликан, зятек, был тут как тут, сидел рядом со стариком. Но в разговор не встревал. Бирд несколько раз что-то вякал, просто, Левенталь понимал, чтобы власть показать, сразу не поддакивать, а не потому, что имел возражения. Козырек, отделявший пятнистый лоб от остального лица, скрывал выражение глаз, но, судя по кое-каким приметам, он был очень даже доволен. Рот, челюсть явно это показывали. «Ну так как? По зубам мне ваша несчастная текучка?» – Левенталя подмывало спросить. Но ничего он такого не спрашивал, поглядывал как ни в чем не бывало. А самого пронзало мстительное чувство. «Значит, все утрясли», – кинул он. Никто ему не ответил. Левенталь держал паузу чуть не минуту, пока не выжал из Бирда кивок, и только тогда прошагал к двери. Отнюдь он не мнил себя незаменимым, но могли же они когда-никогда признать, что он стоящий работник, не сдохли бы. При всех своих заботах и бедах он все исполняет нормально, все подгоняет к сроку. И Бирд прекрасно соображает, какой у него уровень, потому и сказал тогда ту пакость мистеру Фэю. «Ему одно важно, – думал Левенталь, – лишь бы не признавать, что кто-то вообще ему нужен для дела. Хочет, чтоб был только он, он один, единственный, главный. Современным делом так не руководят. Ну и останется при пиковом интересе».
Идя к своему месту, он встретил мистера Фэя. Мистер Фэй пытался тогда за него заступиться, и Левенталь с тех пор рассчитывал на большее, надеялся на какой-то намек, совет, на попытку предупредить. Хотя бы какой-то знак. Не вредно иметь в офисе друга. И вообще – хотелось поблагодарить мистера Фэя, что за него замолвил словечко. «Может, на днях сам заговорит», – думал Левенталь. Фэй его остановил и заговорил – про рекламодателя, который завершает новый проект, и надо бы, мол, осветить. Про это была уже речь. На сей раз Левенталь слушал внимательно, выспрашивал детали, черкал в блокноте, потом сказал: «Да-да, будет сделано». Он смотрел на Фэя выжидательно, и тот стоял, считая, по-видимому, что ему еще что-то скажут; темные глаза под кустистыми седеющими бровями, за поблескивающими кружками очков выразили живейший вопрос. «Да-да, – сказал Левенталь, – я это вам сочиню», – и в растрепанных чувствах и, главное, с ощущением, что зря, наверно, он размечтался насчет этого Фэя, он отвернулся и пошел восвояси.
Грянул телефон и, напомнив про больного племянника, про Олби, которого он у себя оставил, бросил в жар Левенталя. Неловко вывернув шею, зажимая трубку плечом, он молился о том, чтоб это звонили по делу. И другой рукой лихорадочно теребил шнур.
Сначала ничего не было слышно, он хотел уже воззвать к телефонистке. Вдруг она возникла с преспокойным: «Вас тут кто-то, по фамилии Уиллистон». С усилием приходя в себя, он на секунду задержал выдох. Потом сказал: «Соедините». Медленно откинулся в кожаном кресле, носком ботинка выдвинул ящик стола, закинул на него ногу.
– Алло-алло, – сказал Уиллистон.
– Привет, Стэн, как вы там?
– Все отлично.
– Вы насчет Олби? – Левенталь знал прекрасно, что меньше всего Уиллистон обрадуется такой прямоте; Уиллистон предпочитает экивоки. Но идти у него на поводу?
Тот не сразу ответил.
– Так как же?
– Ну, наверно. Ну да, – выдавил из себя Уиллистон. – Я подумал, может, вы его видели.
– О, видел я его. Он наведывается. Собственно говоря, вчера вечером заскочил; говорит, согнали с квартиры. Я его приютил. Он остался ночевать.
– Согнали? – Недоверие в голосе.
– В чем дело? Думаете, я пережимаю? Вы его не видели. Один взгляд – и это бы вам не показалось таким немыслимым.
– Что он думает делать дальше?
– Спросили бы что-нибудь полегче! Да он, наверно, и сам не ответит. Если честно, он, по-моему, болен. Что-то с ним не то.
Уиллистон, кажется, раздумывал; долго не отвечал. Потом сказал:
– Дал он вам какую-то информацию – что у него на уме?
– Чересчур богатую информацию. Ничего определенного я не мог из него выудить. В том-то и дело. – Вынул ногу из ящика, положил на стол, обеими руками обхватив телефон. – Вы бы его послушали; в два счета бы поняли, что с ним что-то не то.
Голос Уиллистона вернулся со снисходительным хмыканьем.
«Успокаивает меня. – Левенталь совсем упал духом. – Думает, я накручиваю, хочет меня отвлечь, голову задурить».
– Ну, ведь не так уж дела плохи, а? – сказал Уиллистон.
– Дела очень даже плохи. Вы себе даже не представляете, до какой степени. Говорю же вам, вы его не видели, не слышали, что он несет. Ну да, я сорвался с этим Редигером, знаю, и вообще все как-то пошло не туда. Я не стану вилять и выкручиваться, хотя мог бы, если бы захотел. Но послушайте, вы же понятия не имеете, на что он теперь похож. Может, перво-наперво надо его куда-то пристроить. Станет он работать, нет, это уж другая песня. Может, он работать не хочет. Не могу вам сказать. Он хочет сразу всё, но небось не ударит палец о палец. Театр мне устраивает.
Он осекся и думал мрачно: «Я ему вправлю мозги, хочет он того или нет».
– Слушайте, это же просто мальчишество, – сказал Уиллистон. И невозможно было решить, кому именно мальчишество тут приписывалось.
Левенталь нащупывал слова, насилуя себя, с трудом покоряясь необходимости тянуть этот разговор. Никакого же толку, только лишняя головная боль.
– Ну, так, может, у вас есть конструктивное предложение, Стэн?
– Я сказал, сделаю все, что смогу. – Решил, кажется, что его в чем-то обвиняют.
– В конце концов, я как бы его враг. Вы же его друг.
Что он там говорил, Левенталь не расслышал. Уловил только «практический шаг» и понял, что Уиллистон недоволен тем, как разговор повернулся.
– Ну конечно, я целиком за практические шаги, – он ответил. Но едва произнес эти слова, понял, что их с Уиллистоном занесло дальше, чем когда-нибудь, безнадежно далеко от реального выхода. По ту сторону провода «практический шаг» был достаточно шаток, тонул в тумане, но, когда Левенталь пробовал его приложить к Олби, он окончательно растворялся в нелепице. Для него лично практический шаг был один – избавиться от этого типа, но Уиллистон, конечно, имел в виду совершенно другое. – Ну так вы и подумайте, – сказал он, – вы ведь его знаете. Может, сообразите, на чем бы он мог успокоиться.
– Есть же у него какие-то виды. Если бы я с ним поговорил, я бы понял.
– Но как вы это себе представляете? Он не хочет, чтоб вы вообще о нем знали. На стенку полез, когда выяснил, что мы его обсуждали. Ну ладно, могу ему предложить, а там поглядим.
– Так я буду ждать звонка, – сказал Уиллистон. – Вы звякнете, не забудете?
– Я позвоню, – пообещал Левенталь. Повесил трубку, придавил телефоном бумаги и, сорвав со стула пиджак, пошел обедать.
Он спустился на лифте в толпе девиц из коммерческого училища этажом выше, начисто не замечавших, какое удовольствие доставляют ему их гладкие руки, гладкие лица. Лифт опускался медленно, жужжа, посверкивая стрелками указателей. На улице Левенталь купил газету, просмотрел в кафе. После обеда пошел к реке, пробираясь мимо лотков, мимо мешков с кофейными зернами. Их запах мешался с газовой вонью. Взвой проснувшегося буксира, глухое сопение парохода прорывались сквозь грохот машин, и мачты щетинились, как ветки агав, расчерчивая небесную белизну, и белую воду делили пирсы.
Он первый вернулся; в офисе было пусто. Ветерок прошелся по бумагам, сваленным на столах, заправленным в пишущие машинки, затемнил льняные зеленые шторы над крестовинами окон. Он отступил на черный ход – докурить сигару, и как раз уже выложил на перила окурок, выщелкнул в пролет, когда грянул телефонный звонок. Левенталь так резко дернулся, что ударился плечом о дверной косяк и на минуту как ослеп – стала черной контора. Дребезг дико наполнил всю комнату, шел из всех четырех углов разом. Ужас сжал Левенталю сердце, а этот надсадный, зудящий звон был бесконечно быстрей, чем ток его крови. Он бросился к столу. Звонили ему.
– Да? Кто меня? – заорал он телефонистке.
Оказалось – Виллани.
Левенталь закрыл глаза. Так он и знал. Микки умер. Он немного послушал Виллани, потом взвыл:
– Где мой проклятый брат?
– Вчера приехал. Пошел сразу в больницу. Но не успел. Бедный малыш.
Левенталь положил трубку. Не удавалось смирить разыгравшиеся мышцы глотки. Оттолкнулся от края стола, будто хотел встать, и вот тут до него дошло окончательно, широкое лицо побелело, набухли черты.
Погодя он взял листок бумаги, карандашом, размашисто, печатными буквами вывел имя мистера Бирда, под ним написал: «Смерть близкого» – и, встав, оставил на своем столе.
Отчаянным, быстрым шагом прошел в туалет и сунул под кран голову. Она раскалывалась от боли. Стоял над раковиной, вода текла на лицо, а он плакал. Выдрал бумажное полотенце, приложил к глазам. Услышал, что кто-то идет, слепо ткнулся в кабинку. Закрыл за собой дверь и так, подпирая ее спиной, постепенно, давясь слезами, с трудом приходил в себя.