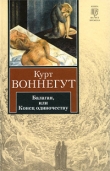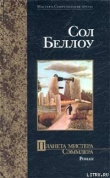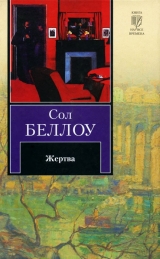
Текст книги "Жертва"
Автор книги: Сол Беллоу
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 17 страниц)
– Ну, это не совсем так, – сказал Левенталь. – Нет, я не согласен.
– Не согласны, что человеку всучают готовую судьбу? Но это же просто смешно, конечно, всучают. Вот и вся вам недолга, и лучше не рыпаться, не мнить себя хозяином собственной жизни. Весьма болезненная ошибка. Хуже нет – плюс к невезению еще обольщаться. Но сплошь и рядом ведь встречаются люди, которым улыбнулась удача, и они целиком приписывают всю заслугу себе, своим достоинствам и уму, тогда как просто им вовремя подстелили соломку там, где они могли бы споткнуться.
– Давайте условимся, если не возражаете, – сказал Левенталь сухо. – Будем говорить ясно и четко. К чему вы ведете?
– Да ни к чему я не веду. У нас с вами дискуссия, такой, знаете ли, разговор, треп. Треп, треп, треп, треп! – Он осклабился, распростер руки. Глаза у него блеснули.
Левенталь глянул на него скучно, спросил:
– Зачем вы это?
Кажется, Олби расстроился, устыдился, наверно, своих перепадов, Левенталю даже жалко его стало. Хотя эти зигзаги ему действовали на нервы. Он видел ясно, что Олби не дурак. Но что толку не быть дураком, если вести себя так? Этот стиль, например, ему что – просто необходимо выпендриваться? Или это такая самозащита? О, ему, конечно, не сладко пришлось, что-то пошатнулось, рухнуло, случилась, наверно, трагедия, да-да, конечно, трагедия. Что-то стряслось ужасное. Но один вопрос по-прежнему бился в голове Левенталя: чего ему надо? И хоть сам же требовал ясности и четкости, он этот вопрос не решался задать.
– Жена? – Через плечо Левенталя Олби оглядывал на бюро фотографию в рамке.
– Да, это Мэри.
– О, скажите, какая прелесть. А вы ведь счастливчик, знаете? – Встал, навис над Левенталем, повернул фотографию к свету. – Прелесть.
– Она здесь хорошо получилась. – Левенталю не очень нравились эти восторги.
– У нее вид гордый, но без жесткости. Ну, вы понимаете. Серьезный вид. Такое встречается в азиатской скульптуре.
– Ах – в азиатской! – с издевкой подхватил Левенталь.
– Да, в азиатской. Взгляните на эти глаза, эти скулы. Женаты на женщине, а не знаете, что у нее раскосые глаза? – И выразительно повертел большим пальцем. – Определенно, она азиатка.
– Из Балтимора.
– Первое поколение?
– Там же родилась ее мать. Глубже я не копал.
– Готов биться об заклад, они выходцы из Восточной Европы, – сказал Олби.
– Ну, вы не так уж колоссально рискуете. Никто с вами не собирается держать пари.
– Зато уж точно никто не станет держать пари насчет вас.
– Да? Может быть, раз уж вы меня так досконально обследовали и все обо мне узнали, вы потрудитесь определить, из какой части Европы произошли мои родители?
– Это так очевидно; тут никакого обследования не надо. Россия, Польша… с первого взгляда могу сказать.
– Ах, можете?
– Конечно. Я довольно долго живу в Нью-Йорке. Это такой еврейский город, что надо совсем уж не видеть дальше собственного носа, чтоб не разбираться в евреях. Сами знаете, сколько еврейских блюд здесь подают в ресторанах, на сцене сплошные еврейские комики, шуточки, а магазины, да что, а евреи в политике, и те де и те пе. Сами знаете. Это не откровение.
Левенталь не стал отвечать. Конечно, не откровение.
Олби опять уставился на фотографию Мэри. Пока он разглядывал ее и кивал, глаза его, к изумлению Левенталя, затуманились, и на лице установилось выражение подавляемой печали и горечи.
– Ваша жена?.. – понизив голос, рискнул Левенталь.
– Она умерла, – сказал Олби.
Левенталь вдруг осип, еле выговорил с призвуком ужаса:
– Умерла? Какое несчастье. Мне очень жаль. Виноват.
– Еще бы. Еще бы. – Слова будто долго копились в груди у Олби, вдруг сами вырвались, не удержал.
Левенталь сосредоточился на этих словах и отвернул лицо – для него характерно, когда он что-то распутывал.
– Да, конечно, ну как же, – он пробормотал, не вполне сознавая, что принимает вызов. Уж очень намаялся за эти два дня, теперь все его так и било по нервам. – Какая жалость! – волнуясь, выговорил Левенталь и вспомнил лицо этой женщины. «Да, она слишком для него была хороша, – он подумал, – да, небо и земля. Но разве я это скажу? Он муж, так что при чем тут. Его самого пожалеть надо. Она умерла, а он жив и мучается. Потому и опустился. Иначе бы разве он стал таким».
– И теперь вы один, – он сказал.
– Да, вдовею, вот уж четыре года вдовею. Четыре года плюс три недели приблизительно.
– И как это случилось?
– Не знаю в точности. Меня с ней не было. Родственники сообщили. Попала в автомобильную аварию. Думали, выживет, и вдруг умерла. Вот и все, что я знаю. Ее похоронили до того, как мне удалось выбраться в Луисвилль.
– И вас не дождались?
– Ну, честно признаться, я не очень туда и рвался. Был бы ужас. Родня бы облегчилась, излив на меня свой гнев. Я бы, пытаясь облегчиться, удрал в кабак, наверно, в кабаке и торчал бы, и все пропустил. Всем было бы тяжелей во сто крат. И была жара. Нестись в луисвилльское пекло? Ради этого! Э нет, брат, уж я окопался, где был. Нет, это бы было просто убийственно. Она умерла. Я бы не к ней приехал, а к родственничкам. Умерла – значит, умерла. И конец. И баста. По жене тоскуешь, если она ушла, а ты ее любишь. Даже, может, не очень любишь. Тут я не знаю. Но вот – вы вместе, живете душа в душу, и когда она умирает – ты сломлен, ты никуда не годишься. Лично со мной так. Я, конечно, отношусь к первому типу. Я ее любил. Да, конечно, тоскуешь… но все неодушевленное для меня едино. Я не сентиментален.
Актерство, вранье, решил Левенталь. Миг искренности прошел, и опять он позирует, изображает – ах, он, видите ли, сам не свой – довольно неубедительно. Когда объявил о смерти жены, в голосе звякнула злоба, но Левенталю он стал как раз ближе, как раз понятней, искренним показался. Теперь опять омерзительно. Может, он подшофе?
– Но, – сказал Олби, – это не главное.
– Да? Есть что-то еще важней?
– Кое-что. Мы предварительно разошлись. Вот почему у меня были такие натянутые отношения с ее семейством. Конечно, с их точки зрения… – Он осекся, стал протирать глаз, а когда кончил тереть, глаз был красный, и как-то ниже, чем другое, сползало веко. – Они были против меня настроены, хотели всю вину свалить на меня. Я бы тоже, кстати, при желании мог свалить на них всю вину. Машину вел ее брат; отделался царапинами и легким испугом. Знаете, как водят эти южане. Сплошная атака Пикетта[4]4
Пикетт, Джордж Эдвард (1825–1875) – генерал Армии Конфедерации (южан). Атака Пикетта в ходе Геттисбергского сражения (3 июля 1863 г.) кончилась разгромом южан с большими потерями.
[Закрыть]. Ну так вот… мы разошлись. И знаете почему?
– Почему?
– Потому что, когда Редигер меня выпер, я не смог найти работу.
– Что вы такое говорите? Никакой работы? Никакой? Вообще?
– Подходящей. А что бы я заработал на первом попавшемся месте? И концов бы с концами не свел. Когда человек годами придерживался одного рода занятий, зачем же ему разбрасываться. Так далеко не уедешь. Во всем другом пришлось бы начать с нуля. И что прикажете делать? Стать менялой? Торговцем? И потом, на случайной работе пришлось бы навсегда закопать кое-какие надежды.
– Я бы взялся за что угодно, лишь бы не отпускать жену.
– Мы из разного теста сделаны, вы и я. – Олби осклабился. – И я ее не отпускал. Она меня бросила. Я не хотел. Это она сама.
– Вы мне не все рассказываете.
– Нет, нет. – Он почти ликовал. – Не все. Да, что же дальше? Это вы мне скажите.
– Может, это как-то связано с вашим пьянством?
– Н-да-с, приехали. – Олби улыбался в пол и слегка раскачивал свое длинное тело. – Мой порок, мой кошмарный порок. Она меня бросила из-за пьянства. Вы попали в точку.
– Женщина не бросит мужа просто так, из-за ерунды.
– Именно, именно, не бросит. А вы настоящий еврей, Левенталь. Ах, наше пресловутое пьянство! Мы для вас сыны Велиала, запах виски страшнее, чем запах серы. Когда Ной валяется пьяный – помните этот пассажик? – иноверные сыновья смеются над ним, а иудейский сын в ужасе. Тут кое-что есть. Очень даже реально.
– Думайте, что говорите, – сказал Левенталь сухо. – Можно вас за идиота принять. Не знаю, куда вы гнете, но вы со своим этим трепом далеко не уедете. Прямо вам говорю.
– Ну… – начал Олби и осекся. – Ладно, не будем. Но это же несправедливо – вешать на меня смерть жены. Хуже, чем несправедливо; жестоко, если учесть, чем она была для меня и что мне пришлось пережить. Не знаю, как вы, но я лично не сомневаюсь, что мы никакие не боги, мы самые обыкновенные твари, и если что-то нам иногда вдруг покажется вечным – ан вовсе оно не вечно. Сегодня мы полные свертки, а завтра, глядишь, мы оберточная бумага и нами шуршит ветерок.
– Предупреждаю, я не желаю дальше выносить этот ваш треп. Учтите! – почти рыкнул Левенталь, и Олби, кажется, сник, свесил голову, загрустил, не нашелся с ответом. И было неясно, то ли он собирается с силами, чтобы продолжить, что-то еще сочиняет, толи отбросил свое ломанье и теперь вот он весь как на ладони. Левенталь видел сбоку лицо, глубоко взрытое у виска, возле рта, щеку и подбородок в золотистой щетине, синий глаз, застывший в печальном раздумье. Кожа на лбу, ровно-пористая в свете лампы, была влажной, а на подбородке и шее смята такой складкой, что Левенталю почудились жабры. Вот, понаслушался, видно, этих рассуждений по поводу тварей, фантазия разыгралась, и на миг померещилось, что Олби не человек – рыба, краб, ну какая там еще живность бывает в воде. Но только на миг, прошло, едва Олби шелохнулся и на него посмотрел. Понурый, усталый.
– Вы уж меня извините, – сказал Левенталь со слегка вызывающей вежливостью. – Но мне нужно послать телеграмму. Я как раз выходил, когда вы зашли.
Не могло это показаться выдумкой, нет? Вдруг Олби счел это маневром, предлогом, чтоб от него отделаться? Но он же сам видел, что Левенталь пишет, так почему не телеграмму? Вполне мог набрасывать текст. Ах, да не все ли равно? Кроме того, абсолютный факт, он собирался послать телеграмму Максу. Пусть Олби пойдет с ним вместе, сам убедится, если ему угодно. Он внимательно вглядывался в лицо Олби. Тот встал. Вдруг Левенталя передернуло, сердце стукнуло невпопад. Показалось, что в углу проскочила мышь, он кинулся, чиркнул спичкой, посветил на багет. Норы не было. Убежала! Или померещилось?
– У нас тут мыши, – он объяснил Олби, который стоял в дверях в густой темноте площадки. И кажется, отвернулся, ничего не ответив.
Дошли донизу, и тут Олби сказал:
– Вы пытаетесь свалить всю вину на меня, а сами знаете, что это вы виноваты. Вы, только вы. Во всем. Вы меня приперли к стенке! Раздавили! Раздавленный, изничтоженный человек, вот я кто! И вы, исключительно вы виноваты. Вы это специально устроили, из ненависти. Из чистой ненависти!
– Вы спятили! – крикнул ему в лицо Левенталь. – Сумасшедший идиот, вот вы кто! Пьянство вам проедает мозги. Прочь от меня руки. Слышите? – Он оттолкнул Олби со всей силы своих мощных лапищ. Тот упал, стукнулся об стену так, что Левенталю сделалось тошно. Олби встал, вытер рот, осмотрел свою руку. – Крови нет. Жалость какая. Могли бы вдобавок рассказывать, что я проливал вашу кровь.
Олби ничего не ответил. Отряхнул пыль с пиджака, непослушными, тупыми руками, будто в ладоши похлопал. И ушел. Левенталь смотрел на улицу, на его поспешный, неверно удалявшийся шаг.
Мистер Нуньес, наблюдавший всю эту сцену, встрепенулся, сел на полосатом шезлонге верхом, миссис Нуньес, в белом лифчике лежавшая на постели возле окна, прошелестела: «Que pasa?»[5]5
Что происходит? (исп.).
[Закрыть] Левенталь ошалело на нее посмотрел.
7
– Нет, это же какую наглость надо иметь, клоун проклятый! – отчаянно причитал Левенталь. Невыносимо теснило, давило его мощную, раздавшуюся грудь, силясь продохнуть, он дергал плечами. – Изничтожен! Я ему покажу – изничтожен, пусть только попадется мне на глаза! Нет, но нахальство какое!
Письмо к Мэри измялось в руке. Так посылать невозможно. И где теперь взять новый конверт, другую марку? На миг это обстоятельство невыносимо разрослось и мучило, как самое страшное последствие стычки. Он вскрыл письмо, конверт разодрал, бросил через перила. Нуньес ушел в дом, он был в подъезде один. Он как будто окидывал взглядом улицу; но он почти ничего не видел, только мутную темь и такой же мутный свет фонарей вдоль квартала.
Потом ярость улеглась понемногу. Он вобрал щеки, он мрачно пучил глаза. Вокруг них натянулась, как ссохлась, и трескалась кожа. Нет! Такое себе позволять! Особенно раздражала эта нелепость. «При чем тут я? – Левенталь насупился. – Конечно, кого-то ему надо винить; с этого начинается. Но всех, кого знает, перебрав в своем дурацком мозгу, почему, почему надо было на мне заклиниться? Вот что поразительно. Конечно, приплелась эта история с Редигером; тут почему-то его повело, и пошло-поехало. Но почему, почему из всех бесчисленных вариантов надо было остановиться на мне!»
Вообще говоря, каждому ясно, что это страшно несправедливо: одному даются все блага жизни, другому шиш. Но человек с человеком – что они могут решить? И неужели любой голодранец, босяк имеет право прицепиться к тебе на улице, мол, извини-подвинься, мир не для тебя одного создан, а как же я? Но ведь ни один из двоих не несет ответственности за это устройство, вот в чем тут ошибка, и самое милое дело ответить: «Я при чем? Я точно так же не запускал этот механизм, как и ты». Конечно, есть в мире несправедливость, есть, и еще какая. Но Олби же является, бухает: «Ты виноват!» – вот в чем идиотство. Положим, ты и сам считаешь, что голодранцу недодано, но, когда тебе бросают обвинение в лицо, это немножко другое дело.
Человек увидит тебя раза два, а уже тебя не выносит. За что; чем это вызвано? Олби – особенно явный пример, отпетый пьяница не умеет скрывать свои чувства. Ты – это ты, и всё, и достаточно, тебя не выносят. Почему? Вздох отчаяния вырвался из груди Левенталя. Верили бы они до сих пор, что это сработает, так все еще лили бы из воска болванчиков и в них вгоняли иголки. Но вот как они назначают одного кого-то для своей ненависти? Первого, кто подвернется? Невозможно понять. Улыбку твою ненавидят и как ты сморкаешься, как держишь салфетку. Все сгодится. А объект, бедняга, ни сном ни духом. Откуда же ему знать, что кто-то таскает с собой его образ (как женщина клеит портрет любовника к зеркальцу косметички, как мужчина носит в бумажнике снимок жены), таскает с собой, чтоб поглядывать – и ненавидеть? И совсем не обязательно это будет портрет бедняги. Сойдет и бубновый король, его усы, его скипетр, орнамент, да все. Не имеет значения. Левенталь, между прочим, сам был в этом смысле не без греха, хоть, в общем, он же не злой человек. Но некоторые прямо вызывают такие чувства. Когена, скажем, он видел всего раза два, но, как только помянут это имя в компании, обязательно он отвесит мало приятное что-нибудь по его адресу. И чем ему этот Коген не угодил? Но при чем тут логика, все дело в нашей природе. Разве надо нам говорить «Люби», если мы любим, как дышим? Нет, конечно. Из чего не следует абсолютно, что мы и не любим вовсе, а просто нуждаемся в помощи, когда моторчик забарахлит. Да, но вот ведь что интересно: всему в природе поставлены рамки; деревья, собаки, муравьи – никто не разрастется больше определенных размеров. А мы, он думал, мы во все стороны расползаемся, без конца и удержу.
Он было сунул письмо в карман, а теперь снова вынул и рассуждал – то ли тащиться наверх в квартиру за конвертом и маркой, толи попытаться купить в киоске. Один конверт, может, и не продадут. А зачем ему целый писчий набор?
Тут он услышал, что его окликают, узнал голос Гаркави.
– Ты, Дэн? – Он с сомнением вглядывался в большую смутную фигуру на тротуаре внизу. Пробегающие через дорогу огни театра его слепили. Ну да, Гаркави. И с ним две женщины, и одна держит за ручку ребенка.
– Спускайся к нам с облаков, – крикнул Гаркави. – Ты там стоя спишь или что?
Нуньес вернулся в свой шезлонг. Жена возникла в окне, щекою на подоконнике.
– В транс впадаешь, когда твоя половина в отъезде?
Спутницы Гаркави засмеялись.
– Дэн, привет, – говорил Левенталь, спускаясь. – О, миссис Гаркави, и вы?
– И Юлия, и Юлия тут. – Гаркави мундштуком показывал на сестру.
– Юлия, миссис Гаркави, рад вас обеих видеть.
– И внучечка моя, Либби, – сказала миссис Гаркави.
– Ох, Юлия, твоя дочка?
– Да.
Левенталь вглядывался в девочку; увидел только яркую бледность, рыжеватую тьму волос.
– Очень она живая у нас, эта Либби, – сказал Гаркави, – иногда даже чуточку чересчур энергичный ребенок.
– Ох, я буквально измотана, – сказала Юлия. – Не в состоянии с ней справиться.
– Это ты так ее кормишь. Ни один ребенок не может получать столько протеина, – сказала миссис Гаркави.
– Мама, она его получает не больше других. Это такой характер.
– Вот, решили к тебе нагрянуть, – сказал Гаркави. – А ты, кажется, куда-то собрался.
– Кое-какие дела, – сказал Левенталь. – Телеграмму послать.
– Ну, мы с тобой прошвырнемся до телеграфа. Мэри телеграмма? Требуешь возвращения? – Гаркави улыбался.
– Ничего смешного, Дэниел, когда люди любят яруг друга, – сказала его мать. – Какие тут могут быть шутки. Истинное удовольствие видеть супружескую любовь, особенно в наше время, когда такие непрочные браки. Пары заскакивают в муниципалитет, как я, предположим, в лавочку за шарниром. Две досточки скрепили шарниром – хлоп-хлоп-хлоп – и это у них называется брак. Посылай свою телеграмму, Аса, и замечательно, и очень приятно. Не обращай на него внимания.
– Это я брату собрался телеграмму послать, не Мэри.
– Либби, сейчас же ко мне, ты меня слышишь! – вне себя кричала Юлия, дергая ребенка за ручку. – Нет, я просто тебя веревочкой привяжу!
– A-а, брату? – говорила миссис Гаркави.
Левенталь неизвестно почему покраснел.
– Да, это я насчет его сына звонил Юлии. Насчет моего племянника.
– Ты связался с доктором? – спросила Юлия. – Это доктор Денизар, мама.
– О, он чудесный доктор, Аса; мы однокашницы с его матерью, я его еще во-от таким помню. Ты можешь полностью ему доверять. Он получил прекрасное образование. Учился в Голландии.
– В Австрии, мама.
– За границей, какая разница. Его дядя поддерживал. Он потом сел в тюрьму, то есть дядя, из-за налогов, тут Денизар ни при чем. Так ему прямо в Синг-Синг посылали фазанов; партнеров, говорят, в камеру пускали, в карты играть. А образование в Европе самое лучшее, знаете. Это потому что у них такие ужасные трущобы; и в клиниках, пожалуйста, к их услугам самые сложнейшие случаи. А у нас такой высокий уровень жизни, это вредит образованию наших врачей.
– Почему? Кто сказал? – Гаркави смотрел на мать с интересом.
– Все говорят. И во всех книгах по медицине, какие папа из магазина носил, сплошные случаи из Европы – фрейлейн И., да фрейлейн К., да мадемуазель такая-то. Самое лучшее медицинское образование – за границей.
– А что с твоим племянником? – спросил Гаркави.
– Его сегодня положили в больницу.
– Ах, так он, значит, серьезно болен? Как грустно, – сказала Юлия.
– Очень серьезно.
– Но ты можешь абсолютно доверять доктору Денизару. Изумительный молодой человек – блестящий. Я завтра поговорю с его матерью. Он внимательней отнесется к больному.
– Я уверена, он и без всякой указки сделает все, что может, – сказала Юлия. И на ходу прижала головку дочери к своему бедру.
– Связи – незаменимая вещь, – сказала миссис Гаркави. – Не забывай. Кто ими не пользуется, останется за бортом, отстанет от гонки. Связи – это все. Конечно, доктор сделает, что он может, тут порядочность и все такое. Но если я замолвлю словцо его матери, он отнесется к больному с особым вниманием и он сделает больше, чем может. Никому не хочется все принимать слишком близко к сердцу, каждый себя бережет. Вот и приходится нажимать на связи.
– Хорошо, так ты поговори с миссис Денизар. Не вредно, – сказал Гаркави.
– Я поговорю.
– Дэн, – Левенталь, чуть отстав, придержал Гаркави, – помнишь ты такого Олби?
– Олби? Кто это? Как фамилия?
– Олби и есть фамилия. Керби Олби. Мы его видели у Уиллистонов. Такой длинный. Блондин.
– Вспомню, наверно, если напрячься. У меня очень хорошая память.
Пришли на телеграф, Левенталь у желтого деревянного прилавка сочинил послание брату, начисто забыв о припасаемой жесткости. Выйдя, он оттиснул Гаркави в сторонку.
– Дэн, могу я несколько минут поговорить с тобой наедине?
– Ну почему же, естественно. В чем дело, старик? Погоди секундочку. Отделаемся от дам.
Миссис Гаркави, Юлия и Либби ждали на углу.
– Дамы, вы уж нас извините, – сказал он, с довольной ухмылкой вправляя сигарету в мундштук, – Аса хочет о чем-то со мной побеседовать.
– Я завтра же поговорю с миссис Денизар. Ты не волнуйся, – сказала миссис Гаркави.
Левенталь поблагодарил, и они с Гаркави перешли на другую сторону.
– В чем дело, попал в историю? – спросил Гаркави. – Ты же знаешь, ты можешь мне доверять. Можешь мне рассказать все. Положись на меня. На все сто. То, что ты мне доверишь, никогда к тебе не вернется через третье лицо, это, брат, как на исповеди. Выкладывай.
– Да никакого секрета. Ничего такого. – Изучив лицо своего друга, Левенталь замялся, разочарованный. Стоит ли все объяснять Гаркави? Он добрый, он искренний друг, только иногда подпускает пафос там, где совсем не требуется. Уже его повело по ложному следу, историю заподозрил какую-то. Может, он имеет в виду интригу, в смысле с женщиной. – Дело в Олби, – сказал Левенталь, – Олби, вот моя головная боль. Да ты его помнишь. Он еще издевался, когда вы тогда пели у Уиллистонов. Ты с девушкой этой. Ну, ты помнишь, конечно, помнишь. Работал в «Диллс Уикли»…
– А, этот. Типаж. – Гаркави, кажется, серьезней прислушался, хотя не исключено, просто уж очень Левенталю хотелось, чтобы приняли к сердцу то, что так ею точит. Он описал свою первую встречу с Олби, в парке. Когда рассказал, как шпионство Олби его потрясло, Гаркави пробормотал: – Дальше ехать некуда, да? Мало приятно, да? Наглость какая. Мало приятно.
– Ты и сам не мог ведь забыть, по-моему, как он прицепился к тебе из-за этой песни.
– Да, да, теперь окончательно вспомнил. Так это он? – Он чуть отпрянул, слегка запрокинул голову, и по прищуру его ясных глаз Левенталь понял, какой исключительной важности комбинации прокручиваются в этом мозгу.
– Дэн, ты знаешь какие-то факты, каких я не знаю?
– Что значит – факты? Это как посмотреть. Может быть. То есть я слышал. Но он больше не возникал? Нам надо все уяснить.
– Что ты слышал?
– Сначала ты доскажи. Давай посмотрим, есть ли тут связь. Может, нет никакой связи. Может, всё выеденного яйца не стоит – сплошная липа и надо просто плюнуть и растереть.
Он уперся, и Левенталь, торопясь, ему выложил все, что Олби сказал, что сделал, но как ни спешил, как ни жаждал выудить поскорей, что известно Гаркави, без конца он сам себя перебивал, вставлял ядовитые комментарии, даже шутки, посредством которых он же в глубине души чувствовал, буквально взывал к Гаркави: подтверди, ну подтверди ты нелепость, прямо безумие таких обвинений. Гаркави, однако, на эти взывания не клюнул. Был сдержан. Приговаривал: «Мало приятно, мало приятно», – но все это в целом не слишком ободрило Левенталя.
– Он подает дело так, будто это я угробил его жену, вообще кругом виноват…
– Жену? Ну, это он, положим, хватил, – сказал Гаркави, – я бы и слушать не стал чушь такую.
– А я, по-твоему, слушаю? Я что – сумасшедший? Кто это станет слушать? Ты станешь?
– Нет, нет, я же говорю, он хватил. Расшалилась фантазия. Шарики заскочили за ролики. – Гаркави покрутил пальнем у виска и вздохнул. – Но народ говорил, да, что его выперли, и потом, как я слышал, он так нигде и не смог устроиться. Перед этим его еще из нескольких мест турнули.
– Из-за пьянства…
Гаркави пожал плечами. Лицо у него сморщилось, он как-то воротил его от Левенталя.
– Возможно. Он нигде не приживался, я слышал, и положение как раз было аховое, когда его взяли к Диллу.
– Кто тебе сказал?
– С ходу не вспомню.
– Ты думаешь, черный список существует, да, Дэн? Но когда мы с тобой говорили насчет Редигера, ты сам же смеялся над этой моей идеей.
– Смеялся? Ну да, в общем и целом я не верю во все эти дела.
– Хорошо, вот тебе доказательство. Ты видишь? Тут черный список.
– Не уверен. Этот твой тип неустойчив, об этом узнали. Просто стало известно, что на него нельзя положиться.
– Почему он потерял работу у Дилла? Потому что пил, да, Дэн?
– Ну, тут я не знаю. – Левенталю показалось, что Гаркави странно стрельнул в него взглядом. – Это ведь у меня не из первых рук. Как до меня дошло, так причина была другая. Но все всегда обрастает слухами. Я знаю? До правды не докопаться. Можно жизнь положить, и без толку. Ну что я тебе буду рассказывать? Один говорит одно, другой другое. Кто говорит сено, кто говорит солома, а вполне вероятно… это гречиха. И никто тебе не скажет, только тот, кто посеял. Остальным остаются сплошные догадки. Почему? Он же скользил на коньках по тонкому льду, надо было гнать все быстрей, гнать, гнать, гнать. А он замедлился… и провалился. Как я понимаю… – Гаркави сам остался недоволен своей версией; из нее явно торчали уши. Он запинался, глаза бегали. Явно что-то знал и не хотел говорить.
– Почему он потерял эту работу? Что они говорят?
– Кто это – «они»?
– Дэн, пожалуйста, не морочь мне голову. Я же спать не могу спокойно, пока не узнаю. Это не пустяки. Ты должен мне рассказать, что говорят.
– Если ты не возражаешь, Аса, я должен тебе разъяснить одну вещь, которой ты пока не усвоил. Мы не дети. Мы взрослые люди. Просто преступленье, ей-богу, быть настолько наивным. Посмотри на себя, старик, да? Ты хочешь, чтоб все тебя любили. Но вполне возможно, кое-кому ты и не нравишься. Так, как, вот скажем, мне. Но неужели тебе мало, что кое-кто к тебе хорошо относится? Почему не принять тот факт, что кое-кто с ними не согласится ни при какой погоде? Ты подсчитай в процентах. Это что – вопрос жизни и смерти? Я, например, вдруг выяснил, что одна молодая особа, к которой я всегда тепло относился, высказалась в таком духе, что я самодовольный индюк. Наверно, не думала, что передадут, но вот передали. К сожалению, люди часто ничего во мне не понимают. Или в тебе. Таков мир. Меня все чересчур задевает; приходится призывать здравый смысл. Ну что девица? Я знаю, у нее есть причины, но она сама в них не разобралась. И что я могу ей сказать? «Моя дорогая, я дико извиняюсь, у всех свои недостатки, и все мы уж такие, как есть. Я должен принимать себя таким, как я есть, или отваливать. Кроме меня, у меня ничего не имеется на белом свете. И при всех моих недостатках я ценю свою жизнь». И ничего, не обрывается сердце. Я стреляный воробей, знаю, что время от времени кой на что приходится нарываться. Но ты же, ты так убиваешься, если кому-то вдруг не покажешься, кто-то где-то не так о тебе отзовется. Немного независимости, старик; так же нельзя, ей-богу.
– Я хочу, чтобы ты мне сказал, – настаивал Левенталь. – Я не отстану. Учитывая, какое мне брошено обвинение, вполне естественно, что я хочу знать.
И Гаркави сдался:
– Уиллистон считает, что ты таки доставил неприятности этому парню, когда пошел к Редигеру и себе напозволял. Он, собственно, намекнул, что ты это специально.
– Что-о? Уиллистон это говорит? Он это сказал?
– Ну, в общем, в таком духе.
– Но как же он мог? Неужели он такой идиот? – Побелев, стиснув зубы, изо всех сил удерживая нахлынувший гнев, омерзительный страх, приложив руку к горлу, Левенталь хмуро, во все глаза смотрел на Гаркави. Он почти выкрикнул: – И ты меня не защитил?
– Конечно, я говорил, что он ошибается, я делал все, что мог. Я ему сказал, что это неправда.
– Ты должен был сказать, что я сразу же тогда тебя вызвонил и все рассказал насчет Редигера. И ты сам тогда еще подумал, что это подстроено, что Олби с Редигером стакнулись, решили обвести меня вокруг пальца, что все это они вместе обтяпали. Ты это говорил Уиллистону?
– Нет, я не стал.
– Но почему? – Он сжал кулак, будто что-то вырвал из воздуха. – Почему же? – он спрашивал. – Это был твой долг, если ты мне друг. Пусть бы ты даже не знал фактов, ты должен был за меня заступиться. Но ты же знал факты. Я дал тебе их. Ты должен был сказать, что все это клевета и ложь. Да пусть кто-то посмеет при мне такую пакость насчет тебя повторять, я мигом его осажу, увидишь. Тут же не только дружба, тут справедливость. И откуда он узнал, что я делал у Дилла? Так какого хрена ты уши развесил? Или слово боялся вякнуть, чтобы не оскорбить его чувства?
– Ну нет. – Левенталь купился было на потрясенный взгляд Гаркави, но тот преспокойно ответил: – Но я не считал, что принесу тебе пользу, ввязываясь в спор с Уиллистоном. Я просто сказал ему, что он ошибается.
– И это друг!
– Да, если есть у тебя вообще друг. Я твой друг.
– Он бы лучше меня спросил, прежде чем говорить такое, выслушал бы другую сторону. Так нет же, надо было поверить этому пьянице. И где их английская беспристрастность… честная игра?
– Мне трудно понять точку фения Уиллистона. По-моему, он вполне разумный человек.
– Так-таки трудно? – сказал Левенталь с горечью. – Я же тебе говорил, по каким мотивам Олби считает, я решил ему мстить. И если Уиллистон верит, что я отправился к Редигеру для скандала, значит, он вообще разделяет взгляды Олби.
– Кто, Уиллистон? Ну, ты попал пальнем в небо, старик, пальцем в небо.
– Ах да? Но ты так ничего и не понял, как я погляжу. Уиллистон слишком порядочный человек, это ты хочешь сказать? И ты мне будешь рассказывать про наивность! Стреляный воробей! Да каждый ребенок знает про эти вещи лучше тебя, Дэн. Если он мог подумать такое, это же оскорбление… и для тебя оскорбление, Дэн, нет, ты только подумай. Если у него такие взгляды…
– Уиллистон – прекраснейший человек, – сказал Гаркави, – ты вспомни, как он отнесся к тебе.
– Я помню. С чего ты взял, что я не помню? В том-то и суть. В том-то и ужас. Тогда дело дрянь. Да, конечно, он мне помог. И значит, если ему угодно верить в такой поклеп на меня, он имеет на это право, так, по-твоему? Как ты можешь все валить в одну кучу? – Он запнулся. – Конечно, он мне помог.
– Будь уверен, он не знает, что на уме у твоего мистера Олби, и, если б узнал, не одобрил. Безотносительно. То есть, я хочу сказать, не поверил бы… что ты его погубил. Малый просто чокнулся – таскаться за тобой, как ищейка. Помрачение рассудка. Ты когда-нибудь наблюдал? Жалкое зрелище. У нас было в семье. Папина сестра во время климакса помешалась – якобы все часы ей тикают: караул, караул, караул. Буквально шарики заскочили за ролики. Просто кошмар. Якобы кто-то лазит в почтовый ящик, письма ее ворует. Ох, да мало ли. Что я тебе буду рассказывать. Да, очевидно, ты столкнулся с подобным случаем. Да, не слишком приятно, не слишком приятно, но никаких оснований паниковать. Вдруг начала всем рассказывать, якобы она вдова Крюгера, спичечного короля, при том что дядя тогда был живехонек. Иногда это вдруг оказывался Сесил Родс[6]6
Родс, Сесил Джон (1853–1902) – премьер-министр Капской колонии, один из главных инициаторов второй англо-бурской войны.
[Закрыть], не Крюгер. Дедушка воевал на бурской войне. Откуда ей еще это взять? Пришлось ее, бедняжку, отправить в психиатрическую. И почему им стукает такое в башку, убей меня Бог, если я понимаю.