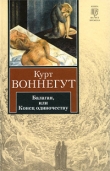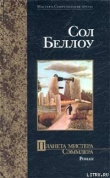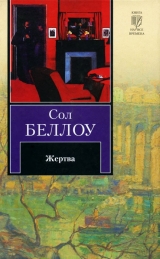
Текст книги "Жертва"
Автор книги: Сол Беллоу
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 17 страниц)
Сол Беллоу
Жертва
Моему другу Паоло Милано
Сказывают, о, мой добрый царь, что жил некогда всем купцам купец, и было у него большое богатство, он вел торговлю в разных городах во всем свете. И вот сел однажды тот купец на коня и пустился в путь, дабы стребовать с должников свои деньги, а в пути стомила его жара; и сел он поддеревом, запустил руку в седельный вьюк, достал оттуда хлеба немного, сушеных фиников и стал есть. Съевши финики, он отшвырнул косточки и вдруг видит: является пред ним злой дух, собою огромный, размахивает мечом, а потом подходит к купцу и говорит: «Встань, и я убью тебя, как ты убил моего сына!» Спрашивает купец: «Да как же я мог убить твоего сына?» – и злой дух ему отвечает: «Когда ты съел свои финики и отшвырнул косточки, они попали прямо в грудь моему сыну, ибо он проходил мимо, и тотчас он умер».
Рассказ о купце и злом духе из «Тысячи и одной ночи»
Как это, сам не знаю, но над колыханием океана медленно всплыло человеческое лицо; и море усеяли несчетные лица; лица молящие, отчаянные, гневливые, лица, запрокинутые к небесам, и они всплывали тысячами, мириадами, без числа…
Де Куинси. «Муки опиума»
1
Бывает, в Нью-Йорке вечером печет, как в Бангкоке. Как будто весь материк стронулся с места, сполз к самому экватору, злобно-серая Атлантика стала зеленой, тропической, и это дикие феллахи кишат на улицах, снуют под гигантскими памятниками своей тайны, а их огни рассыпчато, слитно, слепя, без конца взбираются в раскаленное небо.
В такой вот вечер Аса Левенталь выскочил впопыхах из трамвая на Третьей авеню. Задумался, чуть не проехал свою остановку. Когда сообразил, вскочил, закричал кондуктору: «Ой, да погодите же минуточку!» Черная дверь старого вагона уже смыкалась; он дернул ее, нацелился плечом, протиснулся. Трамвай рванул, Левенталь, задыхаясь, смотрел ему вслед, ругнулся, потом повернул и зашагал по улице.
Левенталь разнервничался ужасно. Весь вечер провел со своей невесткой, женой брата, на Статен-Айленде. Убил, верней, на нее весь вечер. Сразу после обеда она звонит ему на службу – он работал редактором в одном отраслевом журналишке на Манхэттене, – с ходу начинает дико рыдать, умоляет приехать, приехать немедленно. Младший мальчик заболел.
– Елена, – он сказал, едва ему удалось вставить слово, – я занят. Поэтому, прошу тебя, возьми себя в руки и скажи: это действительно так серьезно?
– Приезжай немедленно! Аса, ну пожалуйста! Сейчас же!
Он вжал пальцем мочку уха, защищаясь от ее крика, бормотнул себе под нос что-то насчет итальянской возбудимости. Связь прервалась. Он повесил трубку, думал, она перезвонит, но телефон молчал. Он не знал, как с ней связаться; в телефонной книге Статен-Айленда брата не оказалось. Она или с почты звонила, или от соседей. Уже давно Левенталь как-то выпустил из виду брата с семейством. Но с месяц назад вдруг пришла от Макса открытка со штемпелем Калвестона. Он работает в доке. Левенталь тогда еще сказал жене: «То Норфолк, теперь Техас. Все, что угодно, лишь бы не дома». Обычные дела; женился молодым, теперь захотелось новенького, приключений. Чего-чего, а доков и на Бруклине, и в Джерси хватает. А у Елены, между прочим, двое малышей на руках.
Левенталь Елене сказал правду. Он был занят. Перед ним лежала кипа невычитанных гранок. Несколько минут он обождал, потом отошел от телефона, нервно откашливаясь, взялся за корректуру. Да, ребенок, наверно, серьезно болен, не то с чего бы ей так надсаживаться. И раз брат в отъезде, надо, наверно, ехать, да, это просто его долг. Но неужели нельзя попозже? Неужели это так срочно? Елена – она же вообще не способна спокойно разговаривать. Он повторял это себе, повторял; но ее крики стояли у нею в ушах, мешались с жужжанием вентиляторов, треском машинок. А если это вправду опасно? И вдруг, рывком, сам себя за это кляня, он встал, сдернул со стула пиджак, кинулся к девушке у коммутатора:
– Мне надо увидеть Бирда. Свяжете меня, да?
Руки в задних карманах, вжимаясь в начальничий стол, слегка над ним нависая, Левенталь спокойно сообщил, что ему надо уйти.
Удлиненное плешью лицо мистера Бирда со свирепым костистым носом и венозным лбом отобразило острое недоверие.
– Именно когда надо выпускать номер? – спросил он.
– Неотложные семейные обстоятельства, – сказал Левенталь.
– И они не могут несколько часов подождать?
– Я бы не стал уходить, если б считал, что могут.
Мистер Бирд на это ответил коротко, неприязненно. Остегнув кипу гранок линейкой:
– Сами соображайте.
И на этом – всё, но Левенталь еще потолокся у стола, неизвестно чего дожидаясь. Бирд, прикрыв свой подпорченный лоб тряской рукой, в молчании изучал статью.
«Вот сволочь!» – ругнулся про себя Левенталь.
Когда был уже у выходной двери, хлынул ливень. Он немного постоял, на него поглядел. Воздух вдруг стал синий, как сифонное стекло. Тыл углового склада пошел черными полосами, и просияла мытым булыжником в кромках гудрона покатая улица. Возвращаясь за плащом, Левенталь из коридора услышал, как мистер Бирд говорит своим прокурорским, въедливым голосом:
– Уходит, все бросает. В самый аврал. А кто-то должен отдуваться.
Второй голос – он опознал мистера Фэя, коммерческого директора, – возразил:
– Но как-то странно, схватился, ушел. Наверно, что-то там правда случилось.
– Обязательно надо что-то урвать, – продолжал мистер Бирд. – Все они такие. Я еще не видел, чтобы кто-то из них был другой. Вечно в первую очередь – собственная шкура. И почему хотя бы не предложить – я еще вернусь?
На что мистер Фэй ничего не ответил.
С окаменелым лицом Левенталь натягивал плащ. Не попадал в рукав, яростно проталкивал руку. Вышел из конторы своей тяжелой походкой, остановился в прихожей – глотнуть воды из холодильника. Когда ждал лифт, вдруг обнаружил, что так и держит бумажный стаканчик. Скомкал, яростно запустил в решетку над шахтой.
До переправы было недалеко, Левенталь не стал снимать резиновый плащ в подземке. Там стояла духота; у него вспотело лицо. Вентилятор пролистывал лопастями желтоватую вагонную муть – лениво, хоть отсчитывай обороты. Когда он поднялся на улицу, ливень кончился, а когда катер выполз из эллинга на легкую зыбь, уже опять рассиялось солнце. Перебросив плащ через плечо, стиснув складки в горсти, Левенталь стоял наверху. Их медленно катило волной мимо крашеных, ржавых пароходных остовов в гавани. Дождь отнесло к горизонту, он висел теперь темным стягом далеко за смутными знаками берега. От воды шла прохлада, но на Статен-Айленде большие тускло-зеленые депо исходили жаром, и солнце сплошь заляпало пятнами акры цемента. Их топтала толпа, валившая с переправы к автобусам, которые, построившись у шоссе, выжидательно клекотали моторами в мрении выхлопов.
Макс жил в большом многоквартирном доме. Квартира, как и у Левенталя на Ирвинг-Плейс, была высоко, и тоже без лифта. Ребятишки, гомоня, носились по вестибюлю; стены пестрели их творчеством. Негр-уборщик в пилотке мыл лестницу и неодобрительно оглядывал следы Левенталя. Во дворе парусило стираное белье, желтое и жесткое под палящим солнцем; и скрипели блоки. Елена на звонок Левенталя не вышла. Он стал колотить в дверь, ему открыл старший мальчик. Племянник его не узнал. Ну конечно, думал Левенталь, откуда? Стоял и смотрел на чужого, защищая руками глаза в солнечном, пыльном, белом, пустом коридоре. За спиной у него темнела квартира; были задернуты шторы, на обеденном столе горела среди хаоса лампа.
– А мама где?
– Тут она. Вы кто?
– Твой дядя, – сказал Левенталь. И, войдя в коридор, неизбежно толкнул мальчишку.
Невестка уже бежала к нему из кухни. Она изменилась; отяжелела по сравнению с последним разом.
– Ну как, что, Елена?
– Ох, Аса, ты здесь? – Она тянула к нему руку.
– А где же мне быть? Ты же сама просила приехать?
– Я пробовала перезвонить, мне сказали, ты ушел.
– Зачем – перезвонить?
– Филли, возьми у дяди плащ.
– А звонок не работает?
– Мы из-за маленького отключили.
Левенталь скинул плащ на руки Филипу, пошел за ней в столовую, и она захлопотала, расчищая для него стул.
– Ах, посмотри ты на этот дом, – причитала она, – прибраться некогда. Мысли всё не о том. Уже три недели, как шторы спустила, и все не соберусь поднять. И ты посмотри на меня.
Положила то, что сняла со стула, распростерла руки, показывая ему себя. Черные волосы всклокочены, из-под ситцевого платья торчит ночная рубашка, голые ноги. Она скорбно улыбалась. Левенталь умел сдерживаться и только кивнул. Но эти глаза, он их заметил: беспокойные, влажные, блестят чересчур; и эта странная быстрота, порывистость, какое-то прямо болезненное возбужденье; уж не умственное ли расстройство? Но не стоило поддаваться таким подозрениям. За ним вообще это водилось, и он решил остерегаться поспешных выводов. Вгляделся внимательней. Лицо, прежде румяное, смуглое, расплылось у нее, стало рыхлым, бледным, даже чуть в желтизну. Он легко представлял себе ее прежнюю, поглядывая на племянника. Весь в нее. Только нос с легкой горбинкой – это от Левенталей.
– Так ты скажи, что случилось, Елена?
– Ох, Микки болеет, очень сильно болеет. – Она вздохнула.
– Что с ним?
– Доктор говорит, сам не знает. Он ничего не может сделать. Все время высокая температура. Недели две подряд. Я его кормлю, а его рвет. Уж чего я только не делала. Как быть, прямо не знаю. А сегодня так перепугалась. Вхожу в комнату, а он не дышит.
– Что ты такое говоришь? – ахнул Левенталь.
– То и говорю. Я не слышала, как он дышит, – сказала она с нажимом. – Он не дышал. Я головой легла к нему на подушку. И ничего не слышу. Руку к носику прикладываю. И ничего. Я похолодела вся. Думаю – сейчас сама умру. Бегу доктору звонить. Не могу застать. На службу звоню, везде. Нигде нет. Тут я и позвонила тебе. Вернулась, а он дышит. И все в порядке. Я пробовала перезвонить.
Елена прижала руку к груди; длинные заостренные ногти были грязные; и под ними белая нежная кожа.
A-а, так у мальчика был кризис. Можно бы сразу догадаться.
– Он все время дышал. – Левенталю не совсем удаюсь сдержать раздражение. – Как это можно – не дышать, потом снова дышать?
– Нет, нет, – она не сдавалась. – Он не дышал.
Самообладание Левенталя дало трещину; в нее заползал страх. Глядя мимо Елены в угол потолка, он думал: «Ну что за суеверия! Прямо как в старой деревне. Мертвые могут воскреснуть, весь этот набор».
– Неужели нельзя было послушать ему сердце? – вырвалось у него.
– Да, наверно, надо было…
– Конечно, надо было.
– Ты был занят, да?
– Конечно, у меня работа…
Тут она ударилась в такое раскаяние, что он решил больше не злиться. И какой смысл; он здесь, дело сделано. Он стал ее убеждать, что взял на вечер отгул. Он уже шесть лет работает на эту фирму, и если ты не можешь после шести лет на несколько часов отпроситься по личному делу, лучше вообще плюнуть на такую работу. Хоть целый месяц на пару часов уходи, и то бы он не набрал все часы, какие проторчал сверхурочно и забесплатно. Он уже замолчал, но мысль все текла в том же направлении. На государственной службе не так. Время болезни оплачивается, заболит голова – пожалуйста, иди себе домой. И срок идет… A-а, да теперь-то чего уж… Он встал, повернул свой стул, как бы точку поставил на этих мыслях.
– Ты бы хоть шторы подняла, – сказал Елене. – Зачем они у тебя спущены?
– Так прохладней в комнате.
– Но воздух же не проходит… И все время лампа горит. Жарко от нее.
Барахло со стула она переложила на стол: сдвинула в сторону тарелки, хлеб, молоко, журналы. Он понял, что шторы она спускает исключительно для того, чтоб соседи напротив не знали, какая она неряха. Он брезгливо оглядывал комнату. Вот Макса и носит из Норфолка в Галвстон, Бог знает куда. Наверно, приятней жить в гостинице, в меблирашке.
Елена дала Филипу доллар, послала за пивом. Доллар достала из кармана, звякнув монетами. Филип ушел; Левенталь спросил, можно ли глянуть на Микки.
Ребенок лежал в жаркой, темной, душной Елениной комнате, на широкой кровати у стены и дремал, прикрытый до пояса простыней. Взмокшие короткие волосы; открытый рот. Безрукавная ночная рубашечка. Левенталь осторожно приложил ладонь ему к щечке; щечка горела. Отводя ладонь, кольцом звякнул оспинку кровати. К нему метнулся такой взгляд Елены, что ему страшно стало. Он, оправдываясь, поднял руку, сам почувствовал, как заливается краской. Но Елена уже на него не глядела; натягивала простыню ребенку на плечи. Левенталь вышел ее подождать в коридоре. Медленно-медленно, чтобы не стукнуть, она затворяла дверь – целых несколько минут, ему показалось. Он заглядывал в комнату; тельце на постели, заслоненной пузом комода, окутала темень. Наконец-то затворила, отпустила ручку, и они вернулись в столовую.
Он сел, понурый, расстроенный. Стал тут же доказывать, что Микки надо отправить в больницу. «Кто он такой, этот твой врач? Почему держит мальчика дома? Ему же место в больнице». Но очень скоро он понял, что врач ни при чем, виновата Елена. Твердила как заведенная, что ему лучше дома, тут она сама за ним приглядит. Такой ужас выказывала перед больницей, что наконец он не выдержал: «Ну что за темнота, Елена!» Она молчала, но кажется, просто мучилась, не обиделась, и вообще едва ли она его поняла. Он сам себя ругал за свою вспышку, но всё было так тяжело – этот дом, невестка, этот больной ребенок. Да как можно выздороветь в таком месте, в такой обстановке? «Ну Бога ради, Елена, – завел он совсем другим тоном, – ну что в больнице такого уж страшного?» Она зажмурилась, затрясла головой; он взялся было складывать новую фразу, но бросил и откинулся в мохеровом кресле.
Вдруг, как ни в чем не бывало, чуть ли не весело, она объявила:
– А вот и Филип, пиво нам принес.
И встала за стаканами. Потом были поиски открывалки; ее не нашли, Филип сшибал крышки о металлическую ручку кухонного шкафа. Елена хотела сделать бутерброды, и Левенталь сказал, что ему не хочется есть.
– Ах да, скоро ужин. Твоей даме не понравится, если ты аппетит испортишь. Как она? Такая хорошенькая девушка.
Елена ласково улыбалась. Она не знала даже, как Мэри зовут. Они и виделись-то раза два всего, три от силы. Левенталь не решился признаться, что Мэри уехала на несколько недель на юг, к матери. А то Елена бы в него вцепилась.
Чтоб переменить разговор, он спросил про брата. Макс с февраля в Галвстоне. Все собирается вызвать семью, но город битком набит, квартиру найти невозможно. Он ищет, как выкроит время.
– А почему он не вернется в Нью-Йорк, тут же есть у него квартира? – сказал Левенталь.
– A-а, да он там хорошо зарабатывает; работает по пятьдесят, шестьдесят часов в неделю. Мне много посылает.
Кажется, она не очень томилась и вообще не то чтобы горевала из-за отсутствия Макса.
Левенталь наспех сглотнул пиво, поднялся; якобы надо еще заскочить на службу, кое-что уладить. Елена дала телефон соседей; он его переписал к себе в книжку, попросил через денек-другой позвонить, если Микки не полегчает. С порога кивнул Филипу, сунул четвертак на газировку. Мальчишка буркнул «спасибо», но без особой признательности. Может, это ему тьфу – четвертак. У Елены куча денег в кармане; может, она ими сорит. Левенталь пальнем провел по мальчишьей щеке. Филип низко опустил голову, и в досаде, недовольный собой, Левенталь ушел.
Пришлось долго дожидаться автобуса, и уже стемнело, когда он добрался до Манхэттена. На работу смысла не было возвращаться, тем не менее у Южной переправы он долго еще рассуждал, не вернуться ли. «A-а, без меня обойдутся, – решил наконец. – Бирд еще подумает, что я с повинной явился. Или, чего доброго, вообразит, будто я стараюсь показать себя не таким, «как они все». Не дождется», – думал Левенталь. Пораньше поужинать и – домой. Пить хочется до безумия, больше даже, чем есть, но надо подзаправиться. Он встряхнулся и зашагал к поезду.
2
Левенталь был грузный, с большой головой; нос тоже большой. Волосы у него были черные, волнистые, жесткие, глаза под сросшимися бровями густо-черные, а величины такой, какой у взрослых в общем-то не бывает. Большие по-детски, но совсем не с детским выражением. В них отражался ум, в этих глазах, но как бы не занятый своими возможностями, как бы предпочитающий ими не обременяться, безразличный; и это безразличие как будто распространялось на окружающих. Сегодня Левенталь был всклокоченный из-за жары, хоть и всегда не чересчур аккуратный. Галстук съехал на сторону, вылез из-под воротничка; манжеты торчали из рукавов пиджака, наползали на мохнатые запястья; обвисли мешками брюки.
Левенталь был родом из Хартфорда. Там учился в школе, кончил, уехал из дому. Отец держал магазинчик тканей, характер имел паршивый, с сыновьями не церемонился, был эгоист. Мать умерла в сумасшедшем доме – Левенталю было восемь лет, брату шесть. Исчезла из дому, и старший Левенталь на все их вопросы отвечал: «Она нас оставила», – с такой обидой, будто речь идет об измене. Только уж почти совсем взрослые они узнали, что к чему.
Макс школы не кончил; бросил после девятого класса. А Левенталь вот кончил и поехал в Нью-Йорк, и тут одно время работал на одного аукционщика, такого Гаркави, который был другом его дяди Шехтера. Этот Гаркави взял Левенталя под свое крылышко; подбил поступить в вечерний колледж, даже деньги одолжил. Левенталь выбрал подготовительный юридический, но никак не мог там освоиться. Может, мысль, что затеял неподъемное дело, сама по себе давила. Да и сам колледж – сама атмосфера, особенно зимними синими вечерами, хмурость некоторых студентов, притом кой-кому за пятьдесят, молью траченные, а настырные – все это действовало. И он не умел заниматься; так и не научился в закутке за отцовой лавкой. Курс он кончил, но успехов особых не выказал, и шествовать далее по стезе юридического образования никто ему не предлагал. Он с удовольствием остался бы при Гаркави, но старик схватил пневмонию и умер. Сын, Дэниел, ушел с предпоследнего курса в Корнелле[1]1
Корнеллский университет, престижный, старый университет в штате Нью-Йорк. – Здесь и далее примеч. пер.
[Закрыть], чтоб принять отцовское дело. Левенталь до сих пор помнит, как он пришел в заведение после похорон – медвежья шуба, высокий, серьезный, блондинистый, и каждому служащему говорил с чувством: «Поднажмем, не отступим!» Левенталь, по сути воспитанник старика, после его смерти сник, раскис, боялся, что Дэниелу от него будет мало проку. Впрочем, дело скоро свернули. О возвращении в Хартворт не могло быть и речи (отец снова женился), и Левенталя мотало после смерти Гаркави; первое время несколько месяцев он жил в грязном общежитии на Ист-Энде, отощал, обносился. Одно время торговал по субботам уцененной обувью. Потом устроился попрочней – красить мех, а после, около года, был регистратором в весьма третьесортной гостинице для проезжих на Нижнем Бродвее. Потом подошел ему срок гражданской службы, и он записался «на любое назначение в Соединенных Штатах». И послали его в Балтимор на таможню.
В Балтиморе жизнь началась уже совсем другая; не такая одинокая. До него не сразу дошло, что в Нью-Йорке он так притерпелся к своему одиночеству, что даже не замечал, как от него мается. В первый же год на таможне его залучили в одну компанию; там они каждую субботу ездили в оперу, в Вашингтон. Пять-шесть представлений он даже высидел – ради общего развития. Зато начал регулярно выбираться на люди. Пристрастился к креветкам и мидиям. Купил два костюма и плащ – это он-то, с октября по апрель взмокавший в верблюжьем пальто, которое отказал ему со своего плеча старый Гаркави.
На пикнике на Чесапикском берегу в честь Шестого июля он влюбился в сестру одного своего приятеля. Высокую, сильную, красивую девушку. Он проследил взглядом, как она в ровном, сплошном блеске залива идет по сходням с экскурсионного катера и под руку с братом ступает к рощице, навстречу пахучему дыму над жареной бараниной. Потом он смотрел, как она бежит, состязаясь с другими женщинами, руки прижав к ребрам. Оказавшись в хвосте, она остановилась и сошла с поля, хохоча, утирая лицо и шею платком из того же шелка, что летнее платье. Левенталь стоял рядом с ее братом. Она к ним подошла, сказала: «А ведь умела же бегать, когда поменьше была». Мысль, что она до сих пор не привыкла себя считать женщиной, и красивой женщиной, нежно уколола Левенталя. Он думал о ней, когда смотрел, как ковыляют участники состязания «три ноги на двоих». Особенно заметил одного, рыжего, который рвался из пут, выбрасывал вперед свободную ногу, дергался, злился на напарника так, будто состязание – мука, позор, смываемый только победой.
Да, разница, думал Левенталь, какие все люди разные.
Он бегал трусцой, он несся, держа на ложке яйцо, он плавал, он чувствовал, что совершенно весь растопился. Почти целый день напролет он провел с Мэри. Захватив с собой бутерброды, шли по щиколотку в белом песке, подыскивали укромное место. На закате побрели обратно, снова вступили в сонный жар порта, прошли между кренгами танкеров, сквозь желтое марево, повисшее над водой из-за пирсов и верфи, и устроились на самой корме какого-то пароходика. Брат ее дожидался в толпе у сходней, и они попрощались сквозь шум косо валившего в небо пара.
Осенью они обручились, и собственный успех ошеломил Левенталя. Он сам сознавал, что житейские передряги его испортили, эта порча не могла же укрыться от такой девушки, как Мэри, должна бы ее оттолкнуть. Его точили сомнения, и действительно – через месяц после помолвки случилось ужасное. Мэри призналась, что не может побороть свое старое чувство к другому. У Левенталя на минуту язык отнялся от этой пытки. Он смотрел на нее – они были в ресторане. Потом спросил, встречалась ли она с тем человеком после помолвки. Она призналась, что да, и тут только поняла, кажется, что натворила. Он стал уходить, она удерживала, он ее оттолкнул, она покачнулась, упала. Он ей помог подняться; она, с совершенно белыми губами, прятала от него взгляд. Из ресторана ушли вместе – она даже подождала, пока он заплатит по счету, – но на улице сразу разошлись без единого слова.
Года через два она ему прислала дружеское письмо. Он не знал, как на него отвечать. Больше месяца оно простояло у него на столике возле кровати, еженощно мозоля ему глаза и вытесняя все другие заботы. Он все еще ломал голову, когда пришло от нее второе письмо. Тут уж она прямо просила его понять, каково ей пришлось; призналась, что хотела поставить крест на своем увлечении, когда с ним обручилась, но не в этом же только дело; он же не первый встречный. На это письмо Левенталю было легче ответить. Затеялась переписка. На Рождество он поехал ее повидать, и мировой судья в Вилмингтоне их обженил.
А он же тем временем вернулся в Нью-Йорк: удрал из Балтимора через пару недель после разрыва. Дэниел Гаркави каким-то образом внедрился в одной деловой газете. Левенталь, издававший свои сводки и списки, решил, что с такой работой он тоже управится. Написал Гаркави, Гаркави ответил, что да, в чем дело, конечно, подыщет ему место в газете, раз он хочет вернуться в Нью-Йорк. У него везде блат. И вот как-то под выходной Левенталь сложил вещички, да и послал в меблирашку к Гаркави. Оставаться в Балтиморе было ему невмоготу; слишком душа болела. От этого непереносимого воспоминания он всегда потом морщился и краснел. Пройдя суровую школу жизни, можно бы, кажется, и поумнеть, не действовать с кондачка. Он и тогда ведь соображал, что только отпетый идиот может взять и бросить работу, главное, понадеявшись на Гаркави, потому и сказал шефу, что просто переходит на новую должность. Постеснялся сказать правду.
Гаркави в общем-то изменился. Пооблысел, запустил рыжие усики. Стал пижонить; крупная бабочка в качестве галстука, замшевые черные туфли. Но по сути был тот же. Плел про немыслимые связи, могучий блат, а на поверку сумел связаться с одним-единственным человеком. Это был немолодой господин из Кентукки по фамилии Уиллистон – низенький, румяный, скромные пряди зачесаны поперек широкого темени с чрезмерной тщательностью, как у припарадившегося мужлана. Такой, хоть двадцать лет проживи в Нью-Йорке, останется провинциалом. Был холодный осенний день, возле стола стоял электрический обогреватель. Уиллистон откинулся на вертящемся стуле, по одной задирая над спиралями ноги.
Нет, сказал он, вакансий у них никаких. Человек с опытом еще может что-то себе подыскать и сейчас, в наше трудное время. А без опыта никуда ты не ткнешься. Разве что у вас есть рука – ботинок сиял над раскаленной спиралью, – знакомство, шишка какая-нибудь.
– Этого у нас нет, – сказал Гаркави, – блата нет. Но как же ему тогда приобрести опыт?
Он не может рекомендовать Левенталю, сказал Уиллистон, чтоб он устроился наперегонки с мальчишками выкликать газеты. Сейчас и на это не так-то легко устроиться. Он рекомендовал бы держаться своего дела. У Левенталя потемнело лицо, не так он обиделся, как на самого себя разозлился. Конечно, надо было просить перевода, не бросать с бухты-барахты гражданскую службу, подождать, уж сколько бы там пришлось. Уиллистон, кажется, кое-что понял. Это ужасно, ужасно, что он натворил. Однако же, не унимался Гаркави, лично он нашел работу случайно, без всякого опыта. Ну уж нет, отвечал Уиллистон, имя его отца кое-что весит в антикварном мире – Гаркави работал в газете для аукционщиков и продавцов антиквариата. «Но Левенталь был долгое время со мной и с моим отцом», – вставил Гаркави. Уиллистон задрал плечи и уставился на обогреватель с видом: «Ну, что тут скажешь». И сам об этом, кажется, пожалел, когда перехватил несчастный, затравленный взгляд Левенталя. Конечно, он сделает все от него зависящее, он сказал, но он тоже не Бог. Ясно, он кой-кому звякнет, а уж Левенталь пусть сам поспрошает, попытка не пытка.
Сначала казалось, что безнадега полная. Мелкие отраслевые газетки его отвергали с порога. Которые покрупней, совали анкету; иногда удавалось несколько минут побеседовать с консультантом; потрясти чью-то руку. Постепенно он стал жутко напористым, обходя секретарей, врывался в кабинеты, прижимал в углу кого-то, кто показался влиятельным, сам лез представляться. Он вызывал удивление, его отшивали, злились. Он сам часто злился. Они тебя боятся, он объяснял Гаркави, если ты выбиваешься из рамок, сворачиваешь с проторенной дорожки. А дорожка-то эта – за дверь. И с чего они взяли, что ты по ней затрусишь? Он вполне логично все обсуждал с Гаркави, но эти стычки, эти недоразумения продолжались, и в пылу этих стычек он упускал из виду конечную цель. Его вдруг осеняло, когда он, скажем, брился, когда входил в банк добирать свои сбережения, что он сам же себе ставит подножку, и кто-то, положим, даже бы мог предложить работу, а ему не станет ничего предлагать. Но себя разве переделаешь.
Такая тягомотина продолжалась месяца два. Потом, поскольку с Гаркави все трудней становилось жить (несколько раз в неделю он приводил любовницу, и выпертому из комнаты Левенталю приходилось торчать то в кино, то в кафе), а деньги кончались, Левенталь решил соглашаться на все, хвататься за первое попавшееся – подумывал даже, не попытать ли ту гостиницу на Нижнем Бродвее – как вдруг получил от Уиллистона записку с просьбой зайти. Кто-то там у него заболел, вынужден ехать на зиму в Аризону, и Левенталь пока что может его замещать.
Так что это благодаря Уллистону Левенталь сделал первые шаги по своей стезе. Он был благодарен, работал не за страх, а за совесть и скоро заметил, что приобрел кой-какую хватку. С июня и до конца лета опять он болтался без дела – тоже трудный период. Но теперь у него был уже опыт, и он наконец устроился в «Берк – Бирд и компанию». И был доволен, только Бирд иногда портил кровь. А денег стало существенно больше, чем на гражданской службе.
Как-то, выворачивая душу наизнанку, он признался Мэри: «Мне повезло. Я продрался». Он имел в виду, что невыигрышное начало, собственные ошибки, все, что могло его угробить, как-то так сложилось, что он, наоборот, закалился. Он же чуть не смешался с той частью человечества, о которой часто раздумывал (так и не забыл свою гостиницу на Нижнем Бродвее), с теми, кто не продрался, – с потерянными, отверженными, униженными, перечеркнутыми, гиблыми.