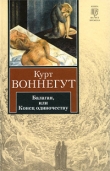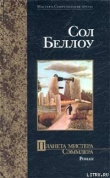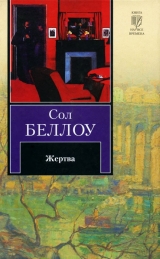
Текст книги "Жертва"
Автор книги: Сол Беллоу
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 17 страниц)
14
Скупые соленые струйки воздуха заменяли обычный крепкий бриз на пароме. Судно глотало волны, мрачно хлюпая носом. Воздух был белый, как мел, побледнело вечернее солнце. Один матрос сидел, привалясь голой спиной к рубке, уткнув голову в колени, стиснув ноги ручищами. Когда он стал спускаться по трапу, чтоб отдать швартовы, Левенталь бросился мимо, побежал по эллингу. Автобус как раз тронулся, он побежал рядом, колотя в дверцу ладонями. Автобус остановился, дверь открылась, он протиснулся мимо стоящих возле нее пассажиров. Приподнявшись на сиденье, что-то грубо орал водитель. Горло сведено злобой, серый ворот черен от пота. Никто ему не ответил, он опять газанул, после оттяжки опять поехали. Левенталь задыхался. Он не замечал, как пот льется по лицу, как горят руки. Думал, как на пароме он думал, что теперь все свалят на него. Елена, чего доброго, сочтет его виноватым, мамаша будет ее науськивать. Вот, настоял на больнице, приволок этого специалиста; суетится, лезет не в свое дело. A-а, старуха не в счет, но Елена! Возможно, болезнь зашла слишком далеко, когда за нее взялся Денизар. Но в больнице у Микки был хоть какой-то шанс, и, если бы она послушалась того, первого врача, может, его бы спасли. Значит, если кто и виноват, так это она сама виновата. Но именно из-за несуразности обвинений он так панически боялся Елену. Увидеться-то с нею придется. Никуда не денешься.
Теряясь среди кнопок, нашел наконец звонок брата, позвонил, поднялся. Дверь квартиры была приоткрыта. Он ее толкнул и, вздрогнув, ощутил веское сопротивление изнутри. Отпустил ручку, на шаг отпрянул. В мозгу пронеслось, что там не ребенок, не Филип, нет. Но Макс-то с какой стати стал бы его не пускать? Неужели Елена?.. Как ошпарила ужасом мысль, что ему сопротивляется само безумие. «Кто это?» – выговорил он хрипло. «Кто там?» Опять подошел к двери. На сей раз дверь распахнулась от первого же толчка. В коридоре стояла мамаша. Тут же он понял, что произошло. Она стала у самой щели, чтоб посмотреть, кто идет, и ее зажало в узкой передней.
– Что вы тут делаете? – спросил он грубо.
Она молчала, и от ее взгляда он опешил; кроме мстительности было в нем еще что-то, какая-то полоумная чуть ли не веселость.
– Где все?
– Уйти. Я один, – просипела она. А до сих пор говорила при нем только по-итальянски. Он удивился. Нет, насчет веселости он, положим, загнул. Просто ложно истолковал напряженность этого взгляда. Внук же ей как-никак бедный мальчик.
– Куда они пошли?
То ли она не знала, то ли не могла объяснить. Выдавила несколько нечленораздельных звуков. Из кухни шел пар; он видел из-за ее спины. Обед она, что ли, готовит?
– Где они? В церкви? Сегодня похороны?
Она только плечами пожала; отказывалась отвечать, и снова метнула в него этот невозможный, торжествующий взгляд, будто он – дьявол во плоти.
– Они придут домой есть, да? Mangiare[18]18
Есть (ит.).
[Закрыть]? Когда?
Пустая трата времени. Она хотела одного – от него избавиться. Он отвернулся и пошел вниз по лестнице.
На стук у Виллани никто не ответил. Голова у Левенталя раскалывалась от боли. Он хмурился, он колотил изо всех сил. Потом сообразил спросить у коменданта. Его он нашел во дворе – читал газету на ступенях, в тенечке, у входа в котельную.
– Вы не знаете, где мне найти своих? Я брат мистера Левенталя.
Комендант поднялся. Старый, неуклюжий, оперся на скрюченные распухшие пальцы.
– Ну как же, малыша хоронят у Болди.
– Теща там, наверху, но мне ничего не говорит. А как туда пройти?
– Да тут рукой подать. Как выйдете, повернете налево. Дальше – по той же стороне. На углу увидите церковь. – Он нагнулся – подобрать газету, распластавшуюся на серых фетровых шлепанцах.
Солнце выкатилось на ясную часть неба и пекло теперь невыносимо. Левенталь стянул пиджак. Жар мостовой забирался в подметки, до самых костей обжигал ноги. Длинный полуостров какого-то дворика порос бедными, пожухлыми кустами. Стены грубо пылали, и всё: унылые кусты, лицо высунувшейся в окно женщины, дыни, сваленные перед зеленной, – всё как бы преображалось у него на глазах, охваченное, утяжеленное зноем; цвета, зернистые, кровавые: черный, зеленый, синий, – будто дрожали газовым пламенем над обездвиженной тенью. Открытая дверь зеленной зияла входом в пещеру, в шахту; вмурованными булыжниками блестели бутылки и банки. И вдруг он как будто попал в чужеземный город: увидел церковь, указанную комендантом, приземистую, аляповатую и запущенную, огороженный дом священника, садик, фонтан с белой трубкой, под хлипким заслоном струй.
Прошел через контору Болди, вошел в зальце. Там, на плетеном стуле, сидел Филип. Ноги скрестил на скамеечке, втянул голову в плечи.
– Ну как ты, малыш? – тихо спросил Левенталь.
– Привет, дядя, – сказал Филип. Сказал с безучастным видом.
– Папа вернулся, да?
– Ага, приехал.
Сквозь овальные прорези в двери, обитой кожей, Левенталь видел мерцанье свечей. Он прошел в церковь. Тут было прохладно. Где-то жужжал вентилятор. За стеклянно-сложным пыланием алтаря висел Христос в человеческий рост. Левенталь снял шляпу, прошел к гробу. Его поразила нежность мальчишеского лица, отсутствие следов испуга и муки. Он видел горбинку носа, жесткость расчесанных волос, кончиками лежащих на складках атласа, покой этого подбородочка на груди и думал: «Он бы в Макса пошел, в нашу породу. Левенталь». Задумчиво погладил тонкие медные перильца с узлом темного плюша, поднял взгляд. Не нравилась ему эта церковь. Конечно, Елена настояла на католическом погребении. Ее право. Но каково Левенталям, мальчик тоже ведь Левенталь, после стольких поколений – и нате вам… Сам не вполне сознавая, что имеет в виду, он проворчал про себя: «Ничего, спасибо, уж мы как-нибудь обойдемся…»
Отвернулся от перил и – увидел брата.
Увидел, и как что-то толкнуло его в грудь. Он же собирался зло на него накинуться; с ходу осыпать упреками. Но сейчас, вместо того чтобы говорить, только смотрел на брата, в это темное, горестное, распухшее лицо, на шрам в углу рта, заработанный в уличной драке, давным-давно, в Хартфорде. От работы под открытым небом брат огрубел; из-за отсутствия нескольких зубов вытянулась челюсть. Костюм – такие костюмы покупали, бывало, в отцовской лавке работяги. Новые черные ботинки запылились.
– Вот, не успел, – сказал он.
– Я слышал, Макс.
– Как телеграмму от доктора получил, сразу поехал. Всего на десять минут опоздал.
– Когда хоронят?
– В четыре. – Макс отвел его в сторону. В боковом нефе, тиская руку Левенталя, сгибаясь над ней, он разрыдался. Говорил шепотом, но то и дело всхлип, бессвязное слово, вдруг взмыв, отдавались под сводами. Левенталь сжимал его руку, держал за плечи. Он слышал: «Его накрыли», – и постепенно, после многих заходов, выяснилось наконец, что Макс вошел в палату, не зная, что Микки умер, и увидел его, уже накрытого простыней.
– Ужасно, – сказал Левенталь. – Ужасно.
Он смотрел на грузную спину Макса, на загорелую шею, но взгляд скользнул полакированным рядам скамей, а там, между Виллани и патером, сидела Елена. И метнула в него горький, озлобленный взгляд. Свет, конечно, был тусклый, но нет, не мог он ошибиться. У нее было белое, натянувшееся лицо. «Ну что, что я такого сделал?» – думал Левенталь; и такой страх его пробрал, как будто он всего этого заранее не предвидел. Боясь, как бы она не вцепилась в него взглядом, он старался больше не смотреть в ее сторону. Помог Максу пробраться по проходу, сел с ним рядом, не отпуская его руку. «Что делать, если прямо сейчас – допустим самое плохое – она начнет орать на меня, обвинять? Вот опять обернулась; лицо как будто горит при всей своей бледности. Наверно, сумасшедшая».
Да, сумасшедшая. Он себе не позволил снова, пусть и про себя, произнести это слово. Удерживал в себе, как боишься даже шептать, чтоб не перейти ненароком на крик.
Он ехал на кладбище с Виллани и патером, вслед за лимузином с Максом, Еленой, Филипом и миссис Виллани. Во время погребения прятался под деревом, в стороне от тех, у могилы, на самом пекле. Когда начали бросать земляные комья, сразу зашагал обратно к автомобилю. Водитель его ждал у подножки, на пыльной обочине. Солнце, пройдя сквозь акацию, желтило ему униформу. Седые волосы, глаза в красных прожилках, рот растянут нетерпеливой гримасой из-за тяжелящей каждый миг, каждый вздох жары. Скоро появились и Виллани с патером. Патер был поляк, плотный, бледный. Тронул свою черную фетровую шляпу, закурил, глубоко затянулся, выпустил дым сквозь мелкие зубы. Вынул носовой платок, утер лицо, шею, ладони.
– Родственник, мм? – В первый раз заметил Левенталя.
За него ответил Виллани:
– Это брат отца, падре.
– Да, тяжело, тяжело. – Пальцы, можно сказать, без ногтей, с загнутыми внутрь концами, теребили сигарету. Внимательно вгляделся в небо, собрал складками толстую белую кожу на лбу, высказал суждение о погоде. Семья шла к автомобилям, водители запускали моторы.
– Сзади жарко будет втроем. – И Левенталь влез на переднее сиденье. Не хотел сидеть рядом с этим патером. Берясь за раскаленную ручку, сказал мысленно: «До скорого, дружок» – и сквозь тронувшееся окно стал смотреть на желтую и коричневую крупнозернистую землю, на двоих в сапогах, орудовавших лопатами. Мельком увидел Макса на заднем сиденье «кадиллака», пробовал представить себе Елену, тщательно вспоминая, как она выглядела по дороге к могиле, шла между Максом и Виллани, грузная в своем черном платье, вцепившись обоим в плечи, и у нее дергалась голова. «Бедный Макс, что он с ней теперь будет делать? А Филип? Я бы в два счета его взял к себе».
Он с ними не попрощался. Солнце уже село, когда он добрался до переправы. Паром медленно выходил из притихшего порта. Их стукнуло волной от более крупного судна, и в глаза Левенталю, словно вынырнувшая из глубин печь, вдруг глянул зловеще-рыжий корпус. С моста прошел по нему прожектор, вмиг стер, растворил во тьме. Но могучее пыхтенье еще долго было слышно в черном, горячем воздухе.
Когда вышел из подземки, домой идти не хотелось. Потолокся в парке. Там сегодня было особенно людно. Те же возрожденцы наяривали на углу. Пела женщина. Голос вместе с сиплым подвываньем шарманки тонул в нудном, ровном рокоте, и только вдруг вырывались вверх бедные, сирые ноты. Долго пришлось искать, пока нашел место на скамейке возле пруда, в котором плескалась полуголая ребятня. Деревья укутала душная пыль, за ее завесой сквозили редкие блеклые звезды. Скамейки были обсижены сплошь; на дорожках не протолкнуться. Плотность, теснота угнетали Левенталя, ему мучительно представлялись не только толпы здесь, в парке, но все несчетные миллионы, жмущие, давящие, теснящие. Где это он читал? Будто ад треснул от ярости бога морского и все стиснутые там души выглянули наружу? Но эти-то все живые, очень даже живые, та парочка, например, или женщина на сносях, прогуливается себе, и чистильщик сапог волочит на длинном ремне свой несчастный ящик.
Вдруг подумалось Левенталю, что отец бы просто не понял то, что произошло сегодня на Статен-Айленде. Старик тыкал, бывало, в Хартфорде пальцем на корзины цветов у дверей, говорил: как много мрет иностранных детей, итальянцев, ирландцев. И вдруг бы узнал, что его собственный внук похоронен на католическом кладбище. С цветами, честь честью. Крещеный. Впервые Левенталь сообразил, что ведь Елена, конечно, его крестила. Да. А собственный сын – простой работяга, неотличимый от тех, что покупали у него в лавке носки, кепки, рубахи. Он бы просто не понял.
Усталый, подавленный, в десять Левенталь ушел восвояси. Он не думал про Олби до тех пор, пока не стал подниматься по лестнице, и тут уж ускорил шаг. Повернул ключ, со стуком отпахнул дверь, включил свет. На тахте в столовой были скомканы кучей простыни, халат, полотенце. На полу стоял недопитый стакан молока.
Он пошел в спальню, растянулся на постели – чуть-чуть передохнуть, прежде чем раздеваться, выключать свет. Со стоном прикрыл лицо ладонью. И чуть ли не сразу заснул.
Ночью услышал шум, сел на постели. Всюду горел свет. Кто-то тут, в квартире. Он медленно прошел на темную кухню. Дверь в столовую открыта, у окна раздевается Олби. Стоит в трусах, стягивает через голову майку. Страх Левенталя, хоть и сильный, длился всего секунду, короткий укол. Негодование тоже недолго длилось. Вернулся в спальню, разделся. Выключил свет, в темноте пробрался к постели, бормоча: «Ушел, остался – какая разница». И такое напало на него безразличие, почти отупение; укладываясь, он ощущал одну жару, больше ничего.
15
Мистер Милликан, обычно следивший за версткой в типографии, сейчас представлял фирму на профсоюзной конференции, и Левенталю пришлось в обед плестись на Бруклин-Хайтс его замещать.
Он ждал на платформе подземки в темном, стоячем воздухе, сам абсолютно выдохшийся. Просто не представлял себе, как ему одолеть этот день. Поезд вкатил, он уныло плюхнулся на сиденье под лениво месящим жару вентилятором. Смерть мальчонки не шла из ума. Как быстро все кончилось. Как быстро. Он это твердил и твердил, и голова качалась от болтанья вагона на долгом прогоне под рекой, который кончался у отеля «Сент-Джордж». Вышел из вагона, поднялся в лифте на улицу.
Милликан сдал всего-то четыре полосы, ему оставил еще четыре. Работа двигалась медленно; он не выспался, все шло через пень-колоду. К четырем стал и вовсе клевать носом. «Я не машина», – он решил. Печатные станки наверху работали весь день напролет, без передыху. Левенталь вышел пройтись. Странно – при полном отупении, осоловелости, чтоб такая точила тревога.
Зашел в кафе выпить чашечку кофе. Стулья лежали на столах, намывал плиты пола служитель с рыжей плоской головой, покатыми веснушчатыми плечами. Официантка, обходя надвигающуюся мутную кромку, попросила Левенталя отойти в сторону. Он выпил кофе у стойки, утер рот уголком бумажной салфетки, лень было даже ее развернуть, послонялся по фойе «Сент-Джорджа», полистал газеты и поплелся обратно в типографию. Оглядев белые зиянья на полосах, вздохнул и взялся за ножницы. Станки стали раньше, чем он кончил работу. В полвосьмого подклеил последние вставки, начисто вытер руки обрезками.
Идя ужинать, остановился у своей двери, заглянуть в почтовый ящик. Мэри сообщала запиской, что пишет письмо, завтра-послезавтра пошлет. В досаде сунул записку в карман рубашки. Подниматься не стал. На углу встретил Нуньеса – холстинковый костюм, соломенная шляпа, сетка с продуктами.
– А, привет! Вы как, мистер Левенталь? Я смотрю, компанию завели, пока супруга в отлучке?
– Откуда вы знаете?
– Наш брат комендант, он все держит под контролем. Нюх острый. И не хочешь, а все замечаешь. От тебя не зависит. Жильцы удивляются. Я сквозь стенку вижу! Никто и не знает, а? – Он изобразил пальцами вьющуюся спираль, в полном восторге. – Вы утром выходите, а я потом слышу: у вас радио говорит. Сегодня в обед: доставка идет на четвертый этаж. А дальше оказывается там – что? – пустой судок от супа и бутылка из-под виски.
«Так вот он что себе позволяет, – подумал Левенталь. – Не просыхает. Для этого я его приютил».
Нуньесу он сказал:
– Я пригласил пожить одного друга.
– Ах, да мне без разницы, кого вы пригласили. – Нуньес хитро засмеялся, весело сморщил нос, и при этом жилы на лбу у него вздулись.
– А по-вашему, я кого пригласил?
– С этим полный порядок. Когда поднималась доставка, не дамская ручка тянула ремень, это уж точно. Не беспокойтесь. – Мускулистая рука качнула сетку, и дрогнула татуировка: сердце, пронзенное стрелой. Левенталь продолжил свой путь к ресторану. За квартиру заплатить – на это у него денег нет, он думал, спускаясь по ступенькам и пригибаясь под навесом, а на пьянку – пожалуйста. На пьянку он их достает. Откуда? А вдруг спер что-то из дому и заложил? Ах, да что тут украдешь? Котиковую шубку Мэри отдали на хранение. Ложки? Кто будет красть такое серебро. Тряпки? Но ростовщик пойдет на большой риск, учитывая, как Олби одет, имея с ним дело. Нет, ломбардам приходится заботиться о лицензии. За свою одежду Левенталь не слишком беспокоился. Ну, твидовый костюм, в мешке против моли, в кладовке висит; остальное не заложишь. И костюм – слишком малая цена за то, чтоб избавиться от Олби. Олби сам должен это понять, соображения хватит. Конечно, пьяница, когда хочется ему выпить, когда невтерпеж, теряет последний рассудок. Но разве ему пара баксов нужна? Деньги Левенталь ему уже предлагал. Видно, есть у него немного, раз он себе может позволить виски. А как же насчет выселения? Просто враки? Но этот вид, грязный костюм, рубашка, эти длинные лохмы? Возможно, экономит на стрижке и на квартире, а держит заначку на виски. На всякий случай пожитки лучше держать под замком, решил Левенталь.
Он наскоро сжевал подпорченную лишним тимьяном тушеную телятину, сглотнул стакан ледяного чая с желтым нетающим сахаром и закурил сигару. Макс с семьей вытеснил из его мыслей Олби. Позвонить? Нет, пока не надо, сегодня не надо – он наскоро подбирал уважительные причины, отмахиваясь от догадок о прятавшейся за ними собственной слабине. Сам отдавал себе отчет. Но нет же, действительно, пока не время звонить. Потом, когда все чуть утрясется, Макс поймет – если, конечно, ее последний взгляд в церкви значил именно то, что он подумал, – что за счастьице ему привалило. Хотя, может, ничего в этом взгляде такого особенного – учитывая обстоятельства. «Может, – Левенталь разглядывал наросший на сигаре высокий слоеный столбик пепла – может, просто у меня чересчур разгулялась фантазия. Горе, сердце не выдерживает… Словом, ужас, ужас. Люди, плача, страдальчески скалятся, а со стороны вам покажется, что смеются, ну и так далее. Дай-то Бог, чтобы я ошибся. Да, наверно, я ошибся. Хватило бы у Макса пороху выгнать тещу, глядишь, и обойдется у них. Смерть мальчика хоть сплотит семью. Старуха плохо влияет на Елену; теперь особенно будет на нее наседать. Ради Филипа Максу надо указать старой ведьме на дверь. Со своей этой стряпней, уборкой, она попробует в такое-то время забрать в доме власть. Да, да, стоит указать Максу на эту опасность, он, наверно, не собирается спроваживать тещу. Нет, пусть она проваливает и не рыпается! Но если Максу удобней на нее рассчитывать… Развязать себе руки, а там – податься куда глаза глядят, и оставить у нее в лапах Филипа… Нет-нет, гнать ее, гнать взашей».
Он еще посидел немного за темным столиком в углу, и карие глаза почти не выдавали темной тревоги, которая его точила.
Дома он снял пиджак в передней. В окне, в ясной глубине над темным плавучим дымом и низкой алостью закатных туч, дрожала вечерняя звезда. Через узкую кухню он прошел в столовую, там было пусто. Вернувшись в гостиную, не сразу заметил присутствие Олби. Только когда уже плюхнулся в кресло возле окна, увидел, как тот сидит в углу, за бюро, и яростно гаркнул:
– Это еще что за номер!
Вскочил, зажег настольную лампу. Руки дрожали.
– Вот, коротал вечерок.
– Ах, скажите! Вечерок! – громыхнул Левенталь. – Сволочь пьяная!
После этого он замолк, упрямо выжидая, чтоб Олби заговорил первым. Жужжали, спеша, электрические часы. Олби положил голову на спинку кресла, разбросал крупные ноги, каблуками упершись в пол. Скрестил на груди руки, выпростав цевки. Погодя, шелохнулся, вздохнул:
– Убийственная жара, совершенно изматывает…
– Кое-что другое совершенно изматывает, а?
– То есть?..
– Виски, – сказал Левенталь. – Вам, по-моему, надо искать работу. А вы что? Сидите тут, пьете? Когда вы заявились, я считал, что вы будете куда-то пристраиваться, подыскивать себе жилье.
Олби боднул головой воздух.
– Зачем же я буду действовать с бухты-барахты, – на губах расцветала улыбка, – во всяком деле… это уж вы сами понимаете, инстинктом чуете… нет хуже – спешить. Спешить хорошо при ловле блох… а тут лучше семь раз примерить, – кончил он с дурацким, восхищенно-самодовольным видом. Пьян, что ли? – подумалось Левенталю.
– Во всяком деле, эх вы, – сказал он презрительно. – Какое у вас дело?
– Ну, значит, будет. Что-то обязательно выплывет.
– И еще. Как это вы тут выходили, опять входили? Я вчера запер дверь. Абсолютно уверен – запер.
– Надеюсь, вы не в претензии. На кухне валялись ключи, один подошел.
Левенталь поморщился. «Мэри забыла свой ключ? Или это запасной? С самого начала агент выдал нам два, да, точно, кроме ключа от почтового ящика и от нижней кладовки. Или было сразу три ключа от двери?»
– Я сам не знал, вернусь или нет, – объяснял Олби, – но раз оставалась такая возможность, я решил, что с ключом будет удобней. Я вчера пытался вам дозвониться на работу, вас не было.
– Незачем ко мне приставать на службе, – вспыхнул Левенталь. – Что вам еще понадобилось?
– Хотел спросить разрешения насчет ключа, это раз. А потом, во-вторых, вдруг пришло в голову спросить на всякий пожарный, нет ли у Бирда вакансий для человека моего профиля, и, может, стоит попытать счастья.
– У Бирда? Вдруг пришло в голову? Не верю!
– А вот и пришло… – Олби начал с разгона, но осекся. Приоткрыв большой толстый рот, он задышал громко, явно подавляя смех; и смотрел на Левенталя с веселым любопытством. Но, напоровшись на ответный взгляд, начал заново, уже посерьезней: – Нет, пришло-пришло, прямо осенило за завтраком. «А почему бы Левенталю не помочь мне устроиться у него в конторе?» Это ж будет только справедливо, да? Я вас представил Редигеру. Не важно, что из этого проистекло. Плюнуть и растереть. Будем думать исключительно об ответной любезности. Вы обтяпываете мне встречу с Бирдом – он ведь собственной персоной, лично подбирает сотрудников? – и мы квиты.
– Им никто не требуется.
– А это уж я, с вашего разрешения, сам попробую убедиться.
– Во всяком случае, они не могут предоставить вам работу, которая бы вас устроила.
– А вам-то какая разница, что меня устроит? Вам разве не плевать с высокой горы, – он осклабился, – буду я мыть посуду, скрести пол или клиентов обольщать?
– Да, мне действительно плевать, – сказал Левенталь.
– И почему вас тогда так волнует, какую мне работу предложат у вас в конторе?
– Но вы ведь говорили о каком-то деле, или я ослышался? – Левенталь подошел к камину, нашарил в папироснице сигарету, сел и протянул по подоконнику руку к пепельнице, в которой лежал спичечный коробок. Олби за ним наблюдал.
– Знаете, смотрю я, как работает ваша мысль, и мне даже вас жалко становится, – сказал он наконец.
Левенталь глубоко затянулся сигаретой; она прилипла к губе, он ее отшвырнул.
– Слушайте, мой ответ – нет, и точка. И не вздумайте дискутировать. У меня и так забот полон рот. Дискуссии придется отставить. – Его самообладание было непрочно, как отраженье в воде, которое смоет первая же волна.
– Понимаю. Боитесь, как бы я вдруг не отплатил вам той же монетой за то, что вы тогда подкинули мне у Дилла. Думаете, пойду, устрою скандал, и вас турнут. Ах, да не больно мне нужна эта ваша рекомендация. Могу вам попортить кровь и так, без нее.
– Ну, валяйте.
– Сами знаете, могу.
– Так пожалуйста! – Его уже подташнивало от всех этих перепадов. – Думаете, я очень держусь за свою должность? И без нее проживу. Так что старайтесь, трудитесь. И к черту, к черту!
– Я насчет вас положился на Уиллистона. Он сказал, что вы вполне ничего, и я устроил вам встречу с Редигером. Ясно? Я вообще не подозрителен. Не в моем характере. Рад отметить. Я же, в общем, понятия не имел, кто вы такой, просто пару раз видел у них в гостях.
– Я слишком паршиво себя чувствую, чтоб с вами тут разговоры разговаривать, Олби. Я готов оказать вам помощь. Я уже сказал. А устраивать на работу, чтоб потом видеть вас каждый день, – нет! И так там полно людей, которых мне не хочется видеть каждый день. Кстати, вы бы туда вписались не лучше, чем я. Но насчет них у меня нет выбора. А насчет вас – есть. И вопрос решен. Нет – и точка. Я этого не выдержу.
Олби, кажется, смаковал что-то понравившееся ему в словах Левенталя: улыбка цвела пышней.
– Да, – согласился он великодушно. – Зачем вам, чтобы я торчал рядом? Вы правы. Да, вы абсолютно правы. У вас есть выбор. Завидую я вам, Левенталь. Вот у меня в жизни, как дойдет до существенного, никогда не было возможности выбирать. Я не хотел, чтоб умирала жена. Будь у меня выбор, никогда бы она от меня не ушла. Не по моему выбору мне воткнули нож в спину у Дилла.
– Кто? Я воткнул вам нож в спину? – взвыл Левенталь, сжимая кулак.
– Ну, не по моему выбору Редигер меня выпер, так вам больше нравится? И у вас – какое-никакое положение, а у меня его нет. – Опять он впадал в этот тон задушевной вдумчивости, который бесил Левенталя. – Вообще я полагаю, что счастье… ведь существует же такая штуковина – счастье, и одним оно приваливает, другим – нет. В конечном счете не знаю, кому лучше. Ум за разум зайдет, если постоянно валит и валит счастье. Но в целом это недурная штуковина, особенно если дает возможность выбора. Не часто нам выпадает такая возможность, да? Для большинства-то? Ох, не часто. С этим трудно смириться, печально, но факт, да? Не очень-то мы выбираем. Не по собственному выбору рождаемся, например, и, за исключением самоубийц, время смерти тоже не мы выбираем. Но если кой-какой выбор имеется у тебя в промежутке, уже ты себя не чувствуешь жертвой неудачного аборта. Считаешь, что твоя жизнь нужна. Мир кишит людьми, тут уж не поспоришь. Чересчур забит. Мертвым – тем места хватает. Хотя их тоже иногда – штабелями хоронят, я слышал. Но им-то что, им все равно. А вот живым… Вам чего-нибудь хочется? Есть у вас какое-то такое желание на примете? Но сотням миллионов других хочется того же самого, говна-пирога. Не важно, бутерброд это, место в подземке, да мало ли. Точно не знаю ваших соображений по этому поводу, но мне лично трудно поверить, что моя жизнь кому-то нужна. Вам, боюсь, едва ли знаком вопрос католического катехизиса: «Для кого был создан мир?» Примерно так. И ответ: «Для человека». Для любого человека? Да, для каждого, кто рожден женщиной. Для всякого. Драгоценного для Бога, если желаете, созданного к вящей Его славе и получившего от Него в дар всю благословенную землю. Как Адам. И назвал он всякую тварь по имени, и вся она подчинилась ему. Быть бы мне на его месте. И ведь как ловко. Каждый, кто повторяет: «Для человека», – в уме держит: «Для меня». «Мир создан для меня, и я совершенно необходим, не только сейчас, но и во веки веков. Мир мой, во веки веков». Ну есть в этом хоть какой-нибудь смысл, а?
Вопрос сопровождался невнятно-пышным жестом, и только сейчас, вглядевшись в это потное лицо, Левенталь понял, насколько Олби надрался.
– Кому нужна тут такая куча народу, навеки особенно? Куда их всех сунуть? Какая кому от них польза? Посмотрите на всех этих вшивых я, для которых создан мир, и я его с ними делю. Любить ближнего, как самого себя? Да кто он, к чертям собачьим, этот ближний? Хотелось бы знать. Или, положим, я вдруг решил бы его ненавидеть, как самого себя, – но кто он такой? Как я сам? Боже меня избави быть, как те, кого я наблюдаю вокруг. Ну, а касаемо вечной жизни, думаю, я не открою вам особенной тайны, если скажу, что большинство рассчитывает умереть…
Левенталя разобрал смех.
– Нельзя ли потише, – сказал он. – Если мир для вас перенаселен, ничем не могу вам помочь, но зачем так орать.
Олби тоже засмеялся, натужно, вытаращив глаза, весь раздувшись. Потом выкрикнул хрипло:
– Горячие звезды, холодные души, вот вам ваш мир!
– Хватит вопить. Довольно. Шли бы вы спать. Идите проспитесь.
– Ах, добрый старина Левенталь! Добросердечный Левенталь, истинный иудей…
– Хватит, кончайте! – Левенталь не выдержал.
Олби послушался, хоть и продолжал скалиться. Время от времени не мог удержать вздох, совсем обмяк в кресле.
– Вы правда что-то собираетесь для меня сделать? – сказал погодя.
– Прежде всего вы должны кончать ваши штуки.
– A-а, да в гробу я видал вашего этого Бирда. И не собираюсь я вам там надоедать, если вы насчет этого.
– Вам надо самому постараться что-то с собой сделать.
– А вы-то будете стараться? Ну, блатом своим для меня воспользуетесь?
– Хоть лопни, я не много могу сделать. И пока вы себя будете так вести…
– Да, вы правы. Надо взяться за себя. Надо измениться. Я и собираюсь. Нет, правда.
– Вы же сами видите, да?
– Ну конечно. Думаете, я совсем ничего не соображаю? Я должен взять себя в руки, пока не все упущено… снова стать таким, каким я был, когда Флора была жива. Я же понимаю, во что я превратился. В ничтожество. – Пьяные слезы текли у него по щекам. – Было же во мне что-то хорошее. – Он запинался, бормотал, отчасти омерзительный в этом пылу самоуничижения, но отчасти… ах, невозможно его было не пожалеть. – Вам Уиллистон подтвердит. И Флора бы подтвердила, была бы она тут, могла бы говорить, меня простить. По-моему, она простила бы. Она меня любила. Сами видите, до чего я опустился, – такое вам говорю. Будь она жива, разве я бы мучился так из-за того, что к черту пропала жизнь.
– Ах, оставьте…
– Мне бы все равно было стыдно, но так не пришлось бы казниться.
– Вам-то? Ах вы ханжа, да никогда вы казниться не будете, хоть тысячу лет проживете. Знаю я таких.
– Нет, я виноват. Я знаю. Душенька моя! – Прижал к потному лбу ладонь, грубо раззявил рот и – ударился в слезы.
Левенталь смотрел на него с какой-то панической жалостью. Встал и думал, что же теперь делать.
Надо кофе ему сварить, вот что, решил он. Поскорей пошел, налил воду в кофейник, чиркнул спичкой, поднес к горелке. Пламя распустило лепестки. Он постучал ложкой по банке, отмерил кофе.
Когда вернулся в гостиную, Олби спал. Он кричал: «Проснитесь! Я вам кофе варю». Хлопал в ладоши, тряс его. Наконец приподнял ему одно веко, заглянул в глаз. «Отключился», – бормотнул про себя. И подумал с горькой брезгливостью: ну как его тут оставишь? Еще бухнется с кресла, всю ночь проваляется на полу. Довольно пугающая перспектива – так провести ночь: Олби на полу, вдруг проснется. Вдобавок все отвратней разило от него перегаром. Левенталь стянул Олби с кресла, поволок из комнаты. Возле кухонной двери взвалил себе на спину, придерживая за запястья, отнес в столовую и там бросил на тахту.