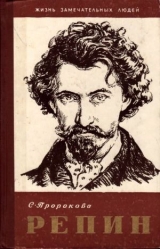
Текст книги "Репин"
Автор книги: Софья Пророкова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 27 страниц)
НАКАНУНЕ
Больше всего Репин любил искусство и больше всего ненавидел самодержавие.
Когда в феврале 1917 года на Руси не стало царя, Репин возликовал, и ему трудно было заметить, что со стремительной силой к власти прорывался другой страшный деспот, принесший на алтарь отечества вместо золотой короны золотой запас в банках.
Призрачные посулы свободы доверчивый художник принял за подлинную свободу и готов был служить новой республике всем оставшимся жаром своей хладеющей кисти.
Незадолго до Февральской революции Репин удивил интимный кружок друзей, собравшихся у Чуковского.
Когда в одно из воскресений хозяин попросил гостей написать в «Чукоккалу», чем, по их мнению, кончится война с Германией, Репин ответил очень веско:
– Жду Федеративной Германской Республики.
И чтобы быть убедительнее, тут же набросал в альбом германского рабочего, вывозящего на тачке Вильгельма II.
Человек, который и в мечтах никогда не доходил до мысли о победе пролетариата, удивил всех пророческой точностью своего ответа.
В России царь отрекся от трона, произошла «бескровная» буржуазная революция. Репин был очень доволен: он дожил до предела своей мечты. Республика существует! Нет более дикого разгула деспотизма.
Ликование сказывалось во всем. Ученик Репина Антон Михайлович Комашка уехал на фронт. Он получал из «Пенат» очень интересные письма. В них Репин радовался переменам, происшедшим в России. Письма эти не сохранились.
Одна из уцелевших записок, в которой Репин просил военных командиров использовать Антона Комашка как художника для зарисовки типов и портретов, неожиданно кончалась таким «криком души»: «Да здравствует Русская Демократическая Республика!» Это было 9 марта 1917 года. Художник вновь молодеет. Почувствовав большой прилив сил, Репин начинает новую эпоху с того же, чем он вступал в жизнь в 1873 году. Бурлаки! С ними начинался творческий путь художника, они опять пробудили его творческий интерес.
Давно ли он равнодушно наблюдал за бурлаками на реке Двине в своем поместье Здравнево? Тогда они оставляли его глухим к своим страданиям. А сейчас снова им всецело владели видения молодости, и он пишет новый вариант своей картины «Бурлаки на Волге».
Новый холст, новые краски, но слабеющие силы, иссякающий темперамент. С такими ресурсами трудно пойти на приступ картины, которая отняла когда-то пять молодых лет.
Придумано название: «Быдло империализма». Оно звучит несколько тенденциозно. Но зато какую глубокую мысль старался вложить в него художник, создавая новую редакцию своей картины!
Теперь старые знакомые, тянущие лямку, мыслятся как символ всяческой эксплуатации. Вот так, не считаясь с человеческой гордостью и достоинством, глумятся те, кто богаты, над простым покорным народом.
И ясно, как поступить этим людям: им остается только одно – навеки сбросить с плеч лямки.
Картина не считается для Репина удачной. В семьдесят три года трудно сделать что-то лучше, чем в двадцать девять. Но для нас чрезвычайно важен этот порыв, пробуждение прежнего Репина, того, который дорог всем последующим поколениям.
На передвижной выставке в 1918 году появились снова бурлаки: факт очень многозначителен. И говорит он о том, каким отзывчивым на события окружающей жизни всегда бывал Репин, как загорался в нем даже едва тлевший огонек художника-демократа.
Картину «Быдло империализма» смотрел уже новый зритель – тот, который завоевал советскую власть. Замысел художника был понят. И новые зрители не могли не почувствовать рядом с собой старого художника. Он был в строю.
Однако один из тех, кто не хотел встречаться с прежним Репиным, явный реакционер, прислал в «Пенаты» возмущенное письмо. Он оказался человеком не из храбрых и на всякий случай фамилии своей не поставил.
Вот что писал этот анонимный зритель:
«Посетил вчера выставку передвижников, видел «Быдло империализма» и удивлялся на нелепое название. Вы крупный художник в прошлом, ныне еще не умолкший старик. Но зачем же ломаться, манерничать в названии картины? Обидно за Репина, за русское искусство, что же – и оно на поводу у революции? Ваш поступок глубоко взволновал нас и опечалил. Он похож на румяна, прикрывающие бледность лица героини купринской ямы. Умолкни, старик».
Оскорбительные, наглые обвинения.
Репин нарушил традицию, написал ответ на анонимное письмо. Даже с каким-то былым азартом он готов был вступить в спор с каждым, кто считает позорным для русского искусства идти «на поводу у революции».
Этот ответ найден в черновых бумагах Репина в «Пенатах». Трудно установить его дату. Ясно одно: он написан после совершения Октябрьской революции, является резким протестом подлинного демократа против всякого проявления реакции и, видимо, предназначался для печати.
Вот какие слова нашлись у художника для ответа своему злобствующему анониму:
«Не только не умолкаю, но постараюсь во всеуслышание объяснить свою идею удачного названия картины моей «Бурлаки на Волге». Теперь это особенно необходимо, когда не одни бурлаки, а вся Россия не обратилась в быдло прусского империализма.
…Мой аноним так еще живет тем режимом: «Что же, и оно в поводу у революции?» – взволнованно печалится об искусстве этот, по всей вероятности, бывший полицейский цензор. Теперь ему уже чудится скорое возрождение у нас империализма. Ах, как соскучились по бывшей власти эти врожденные держиморды! Молчать! Не рассуждать, это только нам дано.
Мой печальник о русском искусстве боится повода революции в искусстве. Но ведь революция есть пропасть, через которую необходимо только перейти к республике. И тут, в будущем представляется грандиозное дело искусства».
Будто кто-то подменил старого художника. Он не считается с преклонным возрастом, приезжает в Петербург на многолюдное собрание столичных художников. 18 марта 1917 года они встретились в зале совета Академии художеств. Председательствовали на этом собрании И. Репин и В. Маковский. Было решено организовать «Союз деятелей пластических искусств». Репин ведет собрание, произносит жаркие речи, требует, чтобы продолжало существовать «Особое совещание при комиссаре над бывшим министерством двора», настаивает на своем мнении и добивается того, что с ним соглашаются.
Долгие годы Репин носился с мыслью о новой Академии художеств, в которой талантливые люди обучались бы искусству в некой коммуне производственно-учебного типа.
Теперь художник решил, что, наконец, наступила пора, когда его выслушают, поймут и проведут в жизнь идею, которая уже много лет не давала ему покоя.
В августе 1917 года Репин попал в кабинет Керенского, когда там происходило заседание генералитета. Позже он не без иронии вспоминал об этом событии:
«Здесь я сподобился видеть и Савинкова, и красавца Терещенко, и еще несколько лиц, освещавшихся солнцем Керенского. Такой букет не мог не ударить мне в голову. И когда я подымался вверх в столовую по круглой лестнице, у меня уже начинала кружиться голова».
Репин был приглашен на завтрак. Он не расстается со своим альбомом, делает беглые наброски, зарисовывает «бабушку русской революции» Брешко-Брешковскую, а потом подсаживается к ней и начинает взволнованно, жарко рассказывать о своем проекте «Делового двора». Но собеседница не проявила никакого интереса к идее старого художника, и он быстро остыл, видя, как вяло его слушают.
Снова проект остался без поддержки.
А от всех этих посещений кабинетов Временного правительства нам остался очень интересный портрет Керенского. Эпизод этот запечатлен В. Маяковским в его поэме «Хорошо!»:
Пришит к истории,
пронумерован
и скреплен,
и его
рисуют —
и Бродский и Репин.
Сам Репин потом рассказывал приехавшим к нему в «Пенаты» советским художникам о том, как писался этот портрет:
– Портрет Керенского написан с этюда с натуры в кабинете Николая Второго. Писали вместе с Бродским… Как Керенский сел в кресло, освещенное солнцем, так я его и написал.
Кисть чистосердечно переносила на холст облик человека, каким он был на самом деле. Долголетний опыт портретиста, исключительное умение давать коротко и безошибочно психологическую характеристику портретируемого и на сей раз не позволили Репину уйти от правды.
О живописных качествах портрета Керенского существуют различные мнения. Многие его недостатки объясняются тем, что портрет дорабатывался в мастерской, без натуры.
Но психологическая характеристика дана с таким потрясающим правдоподобием и провидением, что толки о недостатках живописи теряют всякую силу перед мощью и гениальностью раскрытия самого существа человека.
В пору наибольшей популярности Керенского Репин написал не знаменитого болтуна и краснобая, мечтавшего о карьере наполеона, а дряблого, желчного, серого, опустошенного человека, о котором потом сам сказал такие меткие слова:
– Вот человек имел славу почти императора, а оказался таким ничтожеством. Ведь он был самозванец, как Гришка Отрепьев.
Репин полон благожелательства ко всем переменам, какие ему удается наблюдать. И в том же ответе своему анониму он сказал «Похвальное слово русской республике».
Что же увидел нового художник-демократ? Его радует, что в городе в то голодное время исчезло нищенство. Он восхищается вежливостью солдат, тем, что они продолжают козырять офицерам «с какой-то даже грацией».
И уже с полным восторгом Репин восклицает:
«А как скоро привилось равенство. Достоинство! Никакого подхалимства. Как не бывало – это чудо!!!
Большая перемена уже в это короткое время. И поздно вечером, и утром раньше 6 часов такой порядок, спокойствие. Республика так заметно подбодрила и уже облагородила улицы. Все ходят быстро, торопятся по делам. Куда девалась прежняя лень, апатия».
Таковы были иллюзии старого художника, он спешил со своими выводами – такой он хотел видеть республику. Здесь больше было от желаемого, чем от действительности.
Репин приезжал в Петербург в дни пролетарской революции. 24 ноября 1917 года отмечался сорокапятилетний юбилей его художественной деятельности. Суровые были дни, но они не помешали тому, чтобы в фойе Михайловского театра старый художник услышал слова, полные ласки к нему, именем которого гордилась молодая пролетарская республика.
Это была последняя встреча Репина со своими родными зрителями и почитателями.
ГРАНИЦА ЗАКРЫЛАСЬ
Это произошло по-будничному просто. Ясным апрельским утром 1918 года Репин гулял с Комашка по парку «Пенат». Неожиданно послышался гул выстрелов, разрывы снарядов. Пули свистели и визжали совсем рядом.
В Куоккале шли бои финской Красной гвардии с белофиннами и немцами. Дома вокруг опустели, местечко будто вымерло, и только в уединенных «Пенатах» по-прежнему не прекращалась жизнь. Репин работал. Комашка читал ему газеты, речи Ленина; они много беседовали о происходящих событиях.
Репин говорил:
– Это прекрасно. Надо приветствовать народную революцию. Да, труд должен быть всеобщим, и управление должно быть всеобщим.
Утром, когда началась стрельба и пули свистели по дорожкам парка, Репин бодро спросил:
– Что это? Война?! Похоже на симфонию…
На другой день Комашка собрался поехать в Петроград. Репин надавал ему писем, просил привезти побольше новостей и поднялся к себе в мастерскую. Он обернулся, прощаясь, и сказал:
– Только не задерживайтесь, возвращайтесь поскорей…
Напутствие учителя осуществить не удалось. В этот же день закрылась граница с Финляндией. «Пенаты» остались на земле государства, враждебного молодой Советской республике.
1 мая 1918 года «Новая Петроградская газета» написала о том, в каком положении оказался Репин:
«…Стало известно, что И. Е. Репин находится в настоящее время в плену у финских белогвардейцев и едва не погибает от голода».
Комашка не мог вернуться в «Пенаты», и слова Репина, сказанные ему на прощанье, были последними, которые он от него слыхал.
За этим апрельским днем последовали двенадцать лет жизни художника, его зарубежный период. Самая унылая, самая трагическая пора.
Простая случайность. Если бы граница прошла несколькими километрами севернее, «Пенаты» остались бы на родной земле и жизнь великого Репина сложилась бы иначе.
Еще в дни Февральской революции он ожил, настроение бодрости и творческого подъема не покидало его и в грозную пору пролетарской революции. Комашка был свидетелем того, что Репин в конце 1917 и до весны 1918 года работал в мастерской гораздо напряженнее, чем обычно.
Он многого не понимал. Но стоило ему объяснить ход событий, показать конечную цель той великой ломки, какая свершалась на его глазах, и он открывал свое сердце для всего нового, что несла с собой великая преобразующая сила революции.
Но такого человека рядом не оказалось. Дома жила больная дочь Надя, а по соседству – сын Юрий, который с годами превращался в человека религиозно помешанного. Он был связан с какими-то монахами, мечтал о путешествии по «святым местам», занимался опровержением безбожия и испещрял свой дневник религиозными изречениями.
Очень скоро на известного художника набросились те, кому выгодно было воспользоваться его именем для антисоветских измышлений. В доме обосновался племянник Репина; долгие годы он был его секретарем.
Что можно было ждать от белогвардейского штабс-капитана, участника многих антисоветских кампаний? Чем, кроме самого горького яда вражды, наполнял он сердце старого художника? И Репин, который только начал обретать самого себя, только почувствовал прилив энергии и готов был чистосердечно принять Октябрьскую новь, оказался в лапах белоэмигрантов, которые селились возле самой границы в надежде, что скоро их призовут владеть заводами, банками, дворцами.
Они-то и служили теперь для Репина единственным источником информации о Советской России.
Оторванный от друзей, не зная правды о родине, Репин жил в мире грязных сплетен и клеветы. В 1919 году в Петрограде умерла его первая жена Вера Алексеевна. Старшая дочь Вера Ильинична еще некоторое время работала в драматическом театре, а потом навсегда переехала в «Пенаты». Враждебная цепь вокруг Репина замкнулась. Дочь добавила к затхлому белоэмигрантскому захолустью свою лютую вражду ко всему советскому.
Перед отъездом из Петрограда она продала все картины кисти Репина, хранившиеся в семье, а отцу сказала, что большевики их конфисковали.
То, что всякий здравомыслящий человек воспринимал как анекдот, в «Пенатах» выдавалось за чистейшую правду.
Первое время Репин еще пытался сопротивляться, не давал опутывать себя липкой паутине лжи, какую искусно плела его дочь. Он читал Ленина, Луначарского, новые произведения советских писателей.
Но когда жизнь стремительно катится к восьмидесятилетию, трудно быть особенно стойким.
Дни были сотканы из нелепых слухов: «Сошел с ума Чуковский!», «Выброшены из музеев все картины Репина, уничтожено все им созданное, большевикам не нужно его искусство!»
А тем временем правительство молодого Советского государства в дни тяжелой борьбы с экономической разрухой и контрреволюцией проявляло неустанную заботу о культуре и искусстве.
Через неделю после Октябрьской революции был опубликован приказ Народного комиссара просвещения Луначарского, посвященный вопросам охраны памятников искусства и архитектуры, описи дворцового имущества.
Здесь же объявлялась благодарность тем служащим Зимнего дворца, которые в ночь с 25 на 26 октября 1917 года, оставаясь на своих постах, охраняли народные сокровища Зимнего дворца.
При Наркомпросе был создан Отдел изобразительных искусств, а также Отдел музеев и охраны памятников искусства и старины.
В июне 1918 года был опубликован декрет, подписанный Лениным, о национализации Третьяковской галереи.
В апреле 1918 года декретом Совнаркома была упразднена Академия художеств как официальный художественный центр, диктующий свои законы и вкусы в искусстве. Высшее художественное училище при ней было преобразовано в Свободные художественные мастерские.
Государство позаботилось о том, чтобы художники были обеспечены мастерскими и специальными пайками.
Совершенно иным стал труд художника. В. И. Ленин сказал об этом:
«В обществе, базирующемся на частной собственности, художник производит товары для рынка, он нуждается в покупателях. Наша революция освободила художников от гнета этих весьма прозаических условий. Она превратила советское государство в их защитника и заказчика» [2]2
«Ленин о культуре и искусстве». Сборник статей и отрывков. Изогиз, 1938 г., стр. 298.
[Закрыть].
И все это происходило тогда, когда господа белоэмигранты вопили о вандализме большевиков, о гибели русской культуры.
Дом в «Пенатах» наполнялся людьми, единственное назначение которых пачкать, чернить все, что доносится из-за рубежа. Гостем принимают, почетом окружают белогвардейца, кирилловца офицера Максимова, который пользовался особым расположением Веры Ильиничны, все еще ходившей в невестах.
Пуще всего она, да и все живущие в «Пенатах» приживалы, никчемные, беспомощные люди, боялись, как бы Репина не потянуло в родные края, к друзьям.
Чтобы не тянуло, ему подносится сплетня о том, что расстрелян его лучший друг Поленов, а с ним и Нестеров, В. Васнецов. Сокрушенный потерей близких людей, старый художник служит в куоккальской церкви панихиду по невинно убиенным. Он, который сорок лет не бывал в церкви, поет теперь на клиросе и простаивает самую долгую службу, не зная устали.
Вдруг – о радость! – Репину попадается обрывок газеты «Правда», из которого он узнает, что маститые художники В. Поленов и В. Васнецов присутствовали на открытии выставки, а Нестеров по болезни быть не мог и прислал письмо-приветствие.
Взрыв негодования. Репин неистовствует. А Вера Ильинична знает, что отец отходчив и гнев его недолог, он простит ей сплетню.
Репин служит в церкви молебен за здравие тех, кого он недавно поминал на панихиде.
Поленов – ровесник и друг Репина, которого он заживо похоронил, – жил деятельно, посвятив свой талант созданию народного театра. Он восторженно принял все преобразования и еще 16 марта 1917 года писал Л. В. Кандаурову:
«То, о чем мечтали лучшие люди многих поколений, за что они шли в ссылку, на каторгу, на смерть, совершилось. Россия в настоящую минуту охвачена великой радостью воскресения».
Родина наградила Поленова званием народного художника. Она чтила и лелеяла его талант, гордилась им.
До Репина в искаженном виде доходила и та борьба на эстетическом фронте, которая происходила у нас в первые годы революции.
В Отделе изобразительных искусств Наркомпроса ведущее положение заняли формалисты, которые зачеркивали все художественное наследие и видели революционность искусства лишь в совершенно новых формалистических исканиях.
То, к чему призывали леваки в искусстве, Репину выдавалось за уже совершенное. И очень легко было убедить его в том, что все созданное им эти лихие новаторы отправляли на свалку: формалисты и модернисты всех мастей в России не первый день вели борьбу против Репина.
И теперь, дорвавшись до руководящего положения на изофронте, они собирались рассчитаться со всем классическим наследием русского искусства и готовы были выбросить из музеев даже такого гиганта реализма, как Репин.
Этого не случилось, но призывы формалистов, увеличенные до грандиозных размеров, доходили до старого художника и раздирали его давно не заживающие раны.
Когда в 1922 году Репин получил письмо хранителя Русского музея Нерадовского, он не поверил глазам своим:
«Ваше письмо меня очень обрадовало. Оно с того берега, о котором думается только со страхом и беспокойством».
Оказывается, Русский музей не только открыт и картины Репина живут в нем, но они даже заново повешены. Как захотелось ему еще хоть раз взглянуть на свои вещи на новых местах!
Но разве выпустят его родичи и подлипалы из своих цепких лап?
Скульптор И. Гинцбург, вторично посетивший Репина в 1930 году, рассказал в своих воспоминаниях о той обстановке, в которой доживал великий художник. Он вновь встретил там белогвардейца Максимова. «Здравия желаю, ваше благородие! – надменно вскрикнул этот кирилловец, увидев меня. – Вас ждут».
Он был главным советчиком Веры Ильиничны по всем делам, и не без его участия бесценное художественное наследие Репина было не только расхищено при жизни художника, но и распродано по белу свету после его смерти. Это он не допустил, чтобы ценные альбомы с рисунками Репина были проданы советским музеям.
Свои печальные наблюдения И. Гинцбург заключил такими горестными словами:
«Он узник, заложник в руках тех, кто из чувства мести и злобы готовы запачкать все прошлое, славу и имя великого русского художника, который своим творчеством принадлежал и будет принадлежать свободной России».
Да, он был узником в своем доме. Не верил, не хотел верить хорошим вестям. Тому же Нерадовскому он писал:
«Как небылице, я не верю Чуковскому, будто бы «Государственный совет» в музее, а его портрет и «Группа славянских композиторов» – в Третьяковской галерее».
Лучший друг, с которым несколько лет назад делил и радость и беду, вышел из доверия, кажется обманщиком.
Только любимая дочь со своими белогвардейскими приятелями говорит правду. Так думает Репин. А она творит, что хочет, за спиной быстро дряхлеющего отца. Она не отсылает неугодных ей писем Репина, адресуемых друзьям на родину, не передает ему пришедшие в «Пенаты» заботливые, нежные письма товарищей.
Репин удивляется, негодует, почему никто не отвечает. Его заставляют поверить в то, что в России полностью разрушена работа почты, телеграфа. Коварный замысел достиг своей цели. Человек чувствует себя покинутым, забытым. Его поглощает одиночество.
А над ухом жужжат все одни и те же слова о том, как мало ценят его по ту сторону границы, как никому он там не дорог.
Подозрительность, недоверие окутывают теперь все думы художника о родине.
К. Чуковский вспоминает о том, как в «Пенаты» приезжали почитатели Репина из Петрограда и оставили корзину прекрасных фруктов. Подозрительный художник не поверил этим по-рубенсовски прекрасным плодам. Ему показалось, что в них – отрава, он даже почувствовал, что отравлен. Послал фрукты в лабораторию и получил ответ, что в них яда не обнаружено.
Он слушает на берегу залива музыку из Сестрорецка – и сердце его сжимает тоска. Но где взять силы, чтобы преодолеть в себе это недоверие и вернуться к своим?
Жизнь в «Пенатах» замерла. Как прежде, по средам собираются гости. Но кто это? Ему ли, видевшему в этих стенах цвет русской культуры, довольствоваться этими случайными людьми? Иногда, не дослушав какой-нибудь бредовый теософический доклад, он готов выгнать их, мутящих душу. А когда долго никто не приходит, то радуется даже тем, кого готов был прогнать: «не умирать же со скуки».
Силы заметно убывают. Старость. И только великая страсть к искусству поддерживает в этом высохшем старичке потребность жизни.
Как и прежде, каждое утро Репин поднимается в мастерскую. Донимают головокружения. Он подходит к мольберту, цепляясь по стенам, но все же подходит и пишет. Каждый день он работает над картинами, пишет портреты, перебирает свои рисунки, эскизы, думает о новых холстах, которые, он знает, ему уже не удастся осуществить.
Какие в таком состоянии могли прийти в голову сюжеты! Только то, что знакомо с детства и к чему мысль обращалась десятки раз. Снова «Голгофа», «Утро воскресения», «Неверие Фомы», «Отрок Христос в храме». Репин жалуется в письме к известному юристу и литератору А. Ф. Кони:
«Я, как потерянный пьяница, не мог воздержаться от евангельских сюжетов. И это всякий раз на страстной. Они обуревают меня… Нет руки, которая взяла бы меня за шиворот и отвела от этих посягательств».
Руки такой действительно не было, и Репин вновь обращался к евангелию.
Почему так много библейских сюжетов в творчестве Репина и почему их становится все больше к концу жизни?
Легче всего дать этому самое простое объяснение: дескать, атеист, богохульник, великий обличитель духовенства сам на старости лет стал религиозным, полез петь на клирос в куоккальской церкви, стал набожен.
Но это было бы неверно. В церковь Репин действительно ходил частью от скуки, а еще больше от того чувства озлобления, какое он питал к антирелигиозной пропаганде в Советской России.
От скуки он слушал и всяких мистиков у себя дома, иногда лишь взрываясь от возмущения и прогоняя от себя антропософов.
Но библейские темы всегда привлекали Репина. Пока он жил в центре общественной жизни и черпал из нее свои драматические сюжеты, библейская тема лишь просачивалась в его творчество. Доминирующей же она стала, когда глубоким стариком Репин остался один, в окружении враждебных России родственников и белоэмигрантских подонков.
Темперамент художника не был растрачен до конца его дней. И вот тогда-то, опустошенный, оторванный от жизни художник находил отзвук своим порывам в библии, в этой драматической легенде, которая питала творчество многих поколений художников во многие века. Его мучило то, что он не создал ни одного произведения, которое бы пережило века, он искал вечной, общечеловеческой темы, той, к которой обращались все гении прошлого – Тициан, Эль Греко, Рембрандт.
Эпоха крушения народничества и похода буржуазных эстетов против идейного искусства еще тогда посеяла в душе Репина сомнения и неуверенность; казалось, что все сделанное им недолговечно, забудется и не останется в музеях ни одной его картины, которая бы напоминала о нем.
В старости эти поиски «вечной» темы завершились «Голгофой», которая была для Репина темой возмездия за зло и ярким выражением невинности страдания, его жертвенности.
Он искал в библии все то же выражение огромности человеческих чувств – страдания, отмщения, величия жертвы, мерзости предательства.
Это порывы. А каким было их осуществление? Оскудевали силы, слабела память. Но в Репине с неугасающей яркостью жило стремление к поискам новой, оригинальной композиции. Уже глубоким стариком он не прекращал поисков и находил неожиданные пластические и композиционные решения своих картин.
Картина «Голгофа», известная у нас только по воспроизведениям, считается лучшей из серии этих религиозных картин. Она выделяется напряженностью и своеобразием композиционного замысла.
Только «Утро воскресения» мы можем сейчас посмотреть, картина осталась в «Пенатах» после панического бегства Веры и Юрия, когда в 1939 году советские войска освободили Куоккалу.
Мы стоим перед этим высоким вертикальным холстом. Здесь и тонко увиденный в природе рассвет, и одновременно болезненная экспрессия европейских художников XX века, и неугасшее репинское дерзновение, и чрезмерный реализм, который никак не уживается с данным сюжетом.
Произведения Репина последнего периода совсем не похожи по композиции и технике живописи на его прославленные картины прошлого века. Для них характерна почти импрессионистическая техника живописи, сочетающаяся с экспрессионизмом в композиции и характеристике образов.
Когда-то, еще в 1906 году, Репин писал Стасову по поводу впечатления от увиденной им композиции М. Антокольского «Нападение инквизиции»:
«Все прочие, хорошо знакомые Вам фигуры, были только эбошированы; но это была та прелесть импрессионизма – первого пыла чувства художника, которая неповторима и исчезает навсегда, как только пойдет в дальнейшую обработку.
Вот отчего такие громадные таланты, как Трубецкой, предпочитают оставить навеки свои эбоши в горячем виде, вылившимися прямо из сердца, и правы: эти дивные создания кипевшей вдохновением души неповторимы. Они очаровательны по своей свежести жизни и горячему, как бред, чувству художника.
В наше время еще не было даже и слова импрессионизм. А то, что эскизно – недокончено, совсем почти не ценилось. Разве крупное имя великого мастера составляло исключение».
В этом письме изложен с необычайной ясностью репинский вкус и его живописные идеалы; причем импрессионизм он понимал совершенно не так, как этот термин трактуется в современном искусствознании.
Яркими иллюстрациями его символа веры в живописи этой эпохи являются этюды к «Государственному совету», портрет Короленко, Н. А. Морозова, М. Т. Соловьева, Чуковского, Р. И. Бродской, Сварога и других.
В данном случае под импрессионизмом художник имеет в виду непосредственность, экспрессию, широту обобщений, обостренность пластики и цвета – словом, все то, что уводит изобразительное искусство от фотографии.
Столь взволнованные строки этого письма становятся особенно понятны, если припомнить, сколько раз Репин сам засушивал свои работы, прекрасно, с горячим темпераментом и широтой написанные в первые сеансы.
Примеров этому множество. Расскажем об одном из них словами художника Ф. Ф. Бухгольца:
«Однажды Илья Ефимович, увидев одну заинтересовавшую его женщину, пожелал написать ее портрет. Дама, польщенная этим, конечно, охотно согласилась ему позировать, но просила Илью Ефимовича дать возможность еще двум художникам, которым уже давно обещала позировать, писать одновременно. Илья Ефимович приготовил большой холст, а я и художник Браз – по небольшому. Илья Ефимович установил позу и принялся писать. Нам не видно было его работы, так как большой холст этому мешал, но мы чувствовали, с каким увлечением он работал. И во время перерыва также неловко было взглянуть на портрет, так как Илья Ефимович не переставал писать; но когда кончился трехчасовой сеанс и Репин, забрав свой ящик, ушел, мы не вытерпели и взглянули.
От удивления и восторга мы просто онемели. Как живая, была изображена на холсте изящная женщина, виртуозно написанная, с замечательным портретным сходством. Блестящее исполнение делало картину музейной. А когда мы взглянули на наши угольком набросанные контуры, нам стало совестно просить эту женщину позировать для нас, так как мы были вполне уверены, что Илья Ефимович свою работу совершенно окончил.
Спустя два дня назначен был второй сеанс; когда я пришел, Илья Ефимович уже работал. Пришел и Браз; и когда мы подошли к нашим холстам, то увидели, что поза женщины была совершенно другая, а на вопрос наш Репин сказал, что та поза была не характерна и он ее изменил. Но нами овладел ужас, когда мы заметили, что Илья Ефимович стал все переделывать, не жалея гениально написанного им портрета, сделанного в продолжение первого сеанса; он им не дорожил и добивался разрешения новых задач».
Этот портрет Е. Н. Корево был в 1904 году на Всемирной выставке в Сент-Луис в Америке, где международная комиссия присудила Репину наивысшую награду – Памятную золотую медаль и диплом за особые труды и заслуги на поприще живописи и искусства. Портрет был приобретен для одного из американских музеев.
В последний зарубежный период, наряду с интересными колористическими поисками более светлой и яркой палитры, живописная техника Репина все больше и больше склоняется к уже ставшим трафаретными приемам дробного, раздельного мазка. Появляется вялость формы и нарочитый примитив рисунка.








