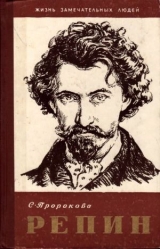
Текст книги "Репин"
Автор книги: Софья Пророкова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 27 страниц)
ПИСАТЕЛЬ И ХУДОЖНИК
Репин оставил нам отрывки воспоминаний о Толстом. Он писал о нем в письмах к друзьям. Можно собрать его высказывания о писателе, в которых один восторг, поклонение перед гением, фимиам. Можно с таким же успехом привести выдержки из дневников и писем, опровергающие все восторженные отзывы. В них – резкая оценка религиозно-нравственных высказываний писателя, несогласие с ними и откровенное осуждение.
Чему верить?
Пожалуй, в жизни своей Репин ни к кому не испытывал такой противоречивости чувств, как к Толстому. Он преклонялся перед художником и сопротивлялся проповеди Толстого. В сопротивлении, постоянной борьбе и, в конечном итоге, в поражении заключается история этой сложной дружбы.
Толстой умел себе подчинять.
Первая встреча произошла 7 октября 1880 года и была принята Репиным очень восторженно.
Стасов предупредил художника, что к нему в любой день может прийти Толстой. Критик сумел заинтересовать писателя творчеством своего любимца и посоветовал непременно с ним познакомиться.
Несмотря на предупреждение, Репин так растерялся, обрадовался приходу Толстого, так был счастлив, что два часа, проведенные писателем в его мастерской, показались ему несколькими короткими минутами.
«Я почувствовал себя такой мелочью, ничтожеством, мальчишкой! Мне хотелось его слушать и слушать без конца, расспросить его обо всем. И он не был скуп, спасибо ему, он говорил много, сердечно и увлекательно.
Ах, все бы, что он говорил, я желал бы записать золотыми словами на мраморных скрижалях и читать эти заповеди поутру и перед сном».
Эти слова написаны Стасову под первым впечатлением посещения Толстого.
Во втором письме больше подробностей состоявшегося разговора и тех советов, которые Репин восторженно принимал.
В мастерской тогда были картины «Запорожцы» и «Крестный ход», которым отдано столько мыслей, вдохновения и долгих месяцев упорного труда. Как пишет Репин, в «Запорожцах» Толстой подсказал ему «много хороших и очень пластических деталей первой важности, живых и характерных подробностей. Видно тут было мастера исторических дел».
Но после этих советов, данных писателем, и общего разбора картины Репину показались «Запорожцы» какими-то «каракулями», сама изображенная сцена глупой, и он решил ее бросить, пока не найдет другую, более широкую тему.
Такое же сомнение писатель посеял в сердце художника и своей оценкой «Крестного хода». Хоть картина ему и понравилась, но он не понимал, зачем художник взял такой избитый, истрепанный сюжет, «в котором он не видит ровно ничего». И, ослепленный высоким вниманием, художник готов зачеркнуть свое творение, плод глубоких мыслей и огромного труда. Он соглашается с писателем: «и, знаете ли, ведь он прав».
Картина, которая целиком занимала все помыслы художника, теперь отставляется, а вместо нее он собирается работать над другой композицией, которую более всего отличил Толстой, ее единственную он назвал картиной, а все другие, вместе с прославленными «Бурлаками», представлялись ему только этюдами.
Писатель похвалил больше всех «Вечерницы», посредственную жанровую картинку, изображающую пляшущую девушку на вечеринке в темной избе, освещенной светильниками. Она так и не удалась Репину, не сладил он с изображением динамики танца, фигура девушки осталась застывшей, а вся сцена написана в скучных тонах.
Несмотря на высокую похвалу прославленного писателя, картина у Репина не получилась, зато две другие, им осужденные, постояв в мастерской, вновь привлекли к себе Репина, он долгие годы работал над ними, обе они стали впоследствии его крупными художественными победами.
Здесь уместно вспомнить о том, как в подобном случае поступил Суриков, услышав серьезные замечания Л. Толстого о своей картине «Переход Суворова через Альпы». Писатель увидел несколько солдат в красных мундирах и заметил художнику, что так на войне не бывает, так как солдаты идут одноцветными группами. Суриков выслушал это замечание, сказал очень уверенно: «Так красивее», – ничего в картине не изменил.
Большое счастье, что со временем и для Репина бесспорные поначалу замечания Толстого потускнели, потеряли значение, и он, вернувшись к своим работам, создал два неповторимых, самобытных произведения.
В день, когда Толстой посетил Репина, писатель приехал в Москву гостем и только через год поселился там. Тогда-то Репин особенно сблизился с писателем, часто бывал у него дома или без устали бродил с ним по московским улицам.
Позднее художник вспоминал:
«…часто после работы, под вечер, я отправлялся к нему, ко времени его прогулки.
Не замечая ни улиц, ни усталости, я проходил за ним большие пространства. Его интересная речь не умолкала все время, и иногда мы забирались так далеко и так уставали наконец, что садились на империал конки, и там, отдыхая от ходьбы, он продолжал свою интересную беседу».
Находя эти разговоры бесконечно увлекательными, Репин привлек к ним Сурикова и Васнецова.
В первый год знакомства Репин не писал Толстого, не рисовал его с натуры.
Первое изображение писателя относится к 1882 году. Толстой принимал участие в московской переписи населения. Он ходил по лачугам бедняков в районе Смоленского рынка, по Проточному переулку, и видел сцены самой неприкрытой нищеты.
Репин иллюстрировал позднее статью Толстого о переписи и в нескольких сценах изобразил его самого.
С переездом в Петербург Репин стал реже встречаться с Толстым, изредка наезжал к нему в Ясную Поляну. В каждый из этих приездов он много писал и рисовал Толстого, всегда подпадал под обаяние его личности.
Выехав за ворота усадьбы, Репин начинал спорить с писателем, но вновь тянулся к нему и рад был каждому приглашению в Ясную Поляну.
ВПЕРЕД, К НОВЫМ БЕРЕГАМ!
Музыка потрясала, радовала, печалила, но чаще всего вдохновляла. Она манила Репина, пленяла, вызывала к жизни новые, неизведанные ощущения, рождала замыслы картин.
Иногда, прослушав какую-нибудь полюбившуюся ему вещь, Репин приходил к окончательному тональному решению картины, над которым долго бился. Звуки преломлялись в его душе в краски. Так бывало нередко. Но еще чаще художник просто наслаждался музыкой. Он любил песню – грустную и веселую, сам хорошо пел. Он затихал, слушая бетховенские сонаты и симфонии. Он трепетал от невероятного блаженства, присутствуя при рождении симфоний и опер Бородина, Римского-Корсакова, Балакирева, Мусоргского.
Это были его современники, люди, с которыми художник поддерживал знакомство. Он знал, как возникали «Князь Игорь» и «Борис Годунов», «Снегурочка» и «Хованщина», «Богатырская симфония» и «Картинки с выставки», слышал симфонию еще в ее первой, самой черновой мелодической записи, слышал, как постепенно она обрастала сложным сплетением звуков.
Художник помнил наизусть почти все мелодии новых вещей и мог судить о них со знанием дела. И хотя он не имел специального музыкального образования, но умел так восторженно слушать, так понимал музыку, что был принят как свой в кружке композиторов.
Особая близость возникла у Репина с Мусоргским. Их тянуло друг к другу большое родство душ. Художник сразу почувствовал самобытную силу дарования композитора и признал, полюбил, восхитился им, когда еще само имя его для всех оставалось в тени. Позже Репин писал в своих воспоминаниях:
«Ах, нельзя без тоски вспоминать и сейчас, что Владимиру Васильевичу не посчастливилось дожить до наших дней признания всей Европой нашего самородного гения русской музыки – Мусоргского! В те времена все строго воспитанные в наркотически-сладких звуках романтизма наши опекуны музыкальных вкусов даже не удостаивали запомнить имя тогда уже вполне определившегося родного гения».
На музыкальных собраниях у Стасова Репин слыхал все новое, что создавал Мусоргский, пылко восхищался его импровизациями. Однажды они даже выступили в соавторстве: Репин нарисовал заглавный лист для сборника детских песен, сочиненных Мусоргским.
Любовь свою к композитору художник пронес через всю жизнь; он так был сам скромен, что уже в глубокой старости в письме к А. Н. Римскому-Корсакову, сыну композитора, удивлялся, почему Мусоргский дарил его такой привязанностью. И объяснил это только тем, что он всегда восторгался каждым новым произведением композитора: «меня, как натуру непосредственную, глубоко поражал этот гений».
Они творили рядом. Композитор идет на выставку и видит картину «Бурлаки». Она производит на него ошеломляющее впечатление. Это сказано в красках то, что поет в его душе звуками. Он пишет о своем потрясении Стасову, восхваляет молодого художника, который увидел новые страны и повел искусство к новым берегам. Он пишет Репину о своем восхищении и признается, что и его душа стремится к тому же:
«То-то вот: народ хочется сделать: сплю и вижу его, ем и помышляю о нем, пью – мерещится мне он, он один цельный, большой, неподкрашенный и без сусального… Какая неистощимая… руда для хватки всего настоящего, жизнь русского народа! Только ковырни – напляшешься, если истинный художник».
Когда Репин уехал в Париж, он переписывался с Мусоргским. Но этого было ему мало. Почти в каждом письме к Стасову – беспокойный ласковый вопрос о Мусорянине. Репина интересует все: и как он себя чувствует, и что написал, и что задумал. Он ждет многого от этого гениального человека.
В июне 1873 года Мусоргский писал своему молодому другу:
«Я ужасно рад, что Вы в Европу выехали, но еще более буду рад, когда, осмотревшись и наглядевшись, заживете в укромном месте работе предаваясь…», «…Ну скажите, коренной Илья Ефимович, взаправду ли Европа лучше?»
Стасов как-то в шутку назвал Репина «коренником» в тройке любимых его представителей разных родов искусств, где Антокольский и Мусоргский были пристяжными. Шутка привилась, и друзья в письмах пользовались этим прозвищем.
Неповторимо самобытна и образна была лексика Мусоргского, здесь он тоже новатор, как и в сочинении музыки. Но и от своих друзей по шутливой упряжке он также постоянно требовал новизны, обновления изобразительных средств. В том же письме в Париж это стремление сказалось очень выпукло в таких словах: «Вези, коренник, – воз тяжел, а кляч много. Думалось бы, что в совершенно иной природе, чем всероссийская болотная гуща, еще рельефнее и бойчее должен явиться Ваш колорит, г. коренник».
Музыкант понял, в чем было самое большое затруднение художника. Правда, он тут же, через фразу устыдился своей прозорливости, говоря: «молчи, пристяжная». Но уже сказано главное: он хотел бы видеть у Репина колорит «бойчее». Значит, у композитора были какие-то претензии к цветовому решению картин, которым он в целом давал такую высокую оценку.
И Репин запомнил этот совет друга, так как преклонялся перед ним, дерзко ломающим все старые устои в музыке.
Через год Репин обрадовался возможности в Париже послушать новую оперу Мусоргского «Борис Годунов». Он писал Стасову:
«Приехала сюда жена покойного Серова, поселилась недалеко от нас… И даже у нее есть, что бы вы думали, «Борис Годунов» Мусоргского, и поэтому нам теперь раздолье!!!»
Еще не приезжая на родину, Репин знал наизусть основные партии новой оперы своего любимца, полюбил их, может быть, с еще большей силой потянулся домой, чтобы поскорее кистью создавать людей, похожих на Варлаама или юродивого.
В середине июля 1876 года Репин в Петербурге. Его огорчают собственные неудачи, он страшится встречи с друзьями. И не напрасно. Обдал его холодом разочарования Стасов, не принял всего сделанного в Париже Крамской, и только Мусоргский поддержал друга.
Композитор верил в могучий талант художника и говорил ему только правду. Он отозвался хорошо о «Садко», но в свое время дал уничтожающую оценку картины Репина «Царевна Софья».
Все хотелось бы ему видеть в этой картине иначе. «Если бы она, т. е. Софья, из опочивальни вошла в молитвенную келью и, увидев братнины безобразия, как тигрица кинулась бы к окну и отвернулась, а глаза ее сошлись бы у самой переносицы и застыли, и она бы застыла сама с зачугуневшими кулаками, – я понял бы художника, я узнал бы Софью». Мусоргский сам, работая над «Хованщиной», глубоко проникся XVII веком и поэтому мог судить о картине Репина со своей точки зрения.
«Моя мечта звала меня к маленькой толстоватенькой женщине, не раз испытавшей жизнь без прописей, а увидел я петрусхожую бабу, злую, но неозлобленную, бабу огромную, но не маленькую, бабу не толстоватенькую, а всю расплывшуюся до того, что при ее огромной величине (по картине) зрителю было мало места – мне казалось».
Мусоргский мог быть непримирим. Но картина «Садко» ему понравилась, и Репин в этой единственной похвале пытался в те трудные для него дни найти хоть малую отраду.
Вскоре после приезда домой, когда еще не раздался суровый приговор над всем, сделанным за границей, Стасов пригласил Репина к себе. Играл Мусоргский. Он показал другу все, чем был занят без него. Стасов писал об этом брату Дмитрию 31 июля 1876 года:
«В прошлую пятницу я позвал Мусоргского вместе с Репиным, и этот последний был в диком восторге от всего, что Мусоргский сочинил в эти три года, пока его не было здесь. Да, ведь в самом деле Мусоргский все это время так крупно шел вперед, что просто мое почтение».
Пока Репин жил за границей, была поставлена опера «Борис Годунов», написаны «Картинки с выставки», романсы «Без солнца».
Может быть, уже в тот вечер композитор сыграл какие-то фрагменты из «Хованщины», над которой упорно работал, или из «Сорочинской ярмарки», такой близкой Репину именно тогда. Ведь, живя на юге Франции, он сам увлекался Гоголем и создавал по его искристым рассказам много эскизов. Да и вообще-то Украина была всегда ему особенно близкой. Поэтому он узнавал новую оперу по частям, и когда она вся была готова, то оказывалась ему знакомой.
И вот на выставке показывается репинский «Протодиакон». Какой восторг Мусоргского он вызвал, сколько близкого персонажу своей оперы в нем увидел! И он сразу же делится своим свежим впечатлением со Стасовым:
«Дорогой мой… generalissime, видел протодиакона, созданного Вашим славным Ильей Репиным. Да ведь это целая огнедышащая гора! А глаза Варлаамищи так и следят за зрителем, что за страшный размах кисти, какая благодатная ширь! А тот – «из робких», шельма, мужичонка-разбойничек: поворот головы и бесчеловечный взгляд, чего доброго, ручаюся, что при удобном случае и десяток человеческих душ укокошит».
Репин давно мечтал написать портрет Мусоргского. Но все откладывал. И только тревожное известие в газете о тяжелой болезни композитора заставило его поторопиться. Страшное предчувствие сковало сердце. Репин приехал в Петербург.
Великий композитор был болен безнадежно. Последние дни ему суждено было провести в солдатском госпитале, да и то устроил его туда Бородин, воспользовавшийся своими связями.
Убогая, жалкая обстановка. Больничная койка. Последнее пристанище гения. Величайший позор нации! Композитор погибал в полном забвении, в полном равнодушии. Как это было похоже на царскую Русь, безразличную к судьбе талантливых своих сынов! Сколько из них сошло в могилу раньше времени только потому, что никто не взлелеял их таланта, не оберег!
Скольких гениальных произведений лишилась русская культура только потому, что чудовищных размеров достигло чиновничье бездушье, потрясающая казенщина и социальная кастовость!
Репину Модест Петрович очень обрадовался. В последние дни ему как раз стало немного легче, он лучше выглядел, даже строил планы будущих работ.
Сердце художника сжалось, когда он увидел, в какой обстановке лежит великий композитор. Кровь закипала от негодования.
Стояли ясные, солнечные мартовские дни. Больничная палата была залита солнцем. Мусоргский сидел в кресле. Репин не имел даже мольберта и устроился со своим холстом у столика.
Модест Петрович поверил в скорое исцеление, повеселел, был разговорчив. Репин провел четыре незабываемых по напряжению дня. Он писал в одном из своих состояний экстаза, когда портрет удается, когда внутреннее чувство подсказывает: получается большое, настоящее произведение.
Негодование подхлестывало. Репин никак не мог смириться с мыслью, чтобы для такого композитора в России не нашлось более подходящего места, чем больничная койка в заброшенном солдатском госпитале. И художник создал больше, чем портрет, – он написал картину наисильнейшего социального обличения. Он бросил обвинение: смотрите, как ценят у нас гениальных людей, вот как погибает у нас человек, именем которого будут гордиться все последующие поколения! Мне, художнику, стыдно за наше общество, за наше государство, в котором возможен такой позор!
Этот немой укор невольно читается и в печальных глазах композитора, и во всем лице его, озаренном скорбной мыслью.
Могучий сломленный гений. Он не выдержал борьбы. Надорвался… Прекрасное, одухотворенное лицо. С каким волшебством выражена в нем сила мысли! Кажется, этот человек в халате с малиновыми отворотами, если бы мы даже не знали, что он композитор, – мыслит, погружен в глубокую думу.
Сеансы окончены. Репин попрощался с Мусорянином, чтобы больше никогда с ним не увидеться…
Портрет был показан на передвижной выставке и произвел огромное впечатление. Стасов писал П. М. Третьякову:
«…Рано утром 18 марта 81. Дорогой – дорогой – дорогой Павел Михайлович, поздравляю Вас с чудной высокой жемчужиной, которую Вы прибавили теперь к Вашей великолепной народной коллекции!!! Портрет Мусоргского кисти Репина – одно из величайших созданий всего русского искусства. Что касается сходства – все друзья, приятели, родственники покойного Мусоргского не перестают дивиться, – просто живой Мусоргский последнего времени! Что же касается художественной стороны дела, то послушайте вот что: вчера с утра я привез портрет на передвижную выставку, и все наши лучшие художники, прибывавшие мало-помалу в течение дня в помещение выставки и заходившие в «комнату художников», в один голос трубили славу Репину! Около 5 часов дня я с панихиды Мусоргского в 3-й раз вчера заехал еще раз туда же, чтобы поторопить выставление портрета (так как рамку некогда делать теперь, то картину просто задрапируют черным сукном или коленкором), и что я нашел? В глубине комнаты я увидел Крамского, сидящего на стуле, спиной к нам, придвинувшегося прямо почти лицом к лицу – к портрету, пожирающего его глазами и словно ищущего отпечатать его у себя в голове. Когда мне удалось поднять его со стула, он обратился ко мне со словом восторга: «Это невероятно, это просто невероятно, – говорил он мне, – что этот Репин нынче делает! Моему удивлению нет пределов. Вот портрет Писемского chef d'oeuvre, какое-то чудесное соединение Веласкеза и Рембрандта, а этот портрет, этот портрет что-то еще новое: кто знает, быть может, что-то еще выше! И все это в каких-нибудь 4 сеанса – просто невообразимо!!!! Какая новость приемов, какое своеобразие, что за письмо и лепка!» Про себя не говорю. Я уже вторую неделю вне себя от восхищения».
Трагична судьба творца радостной музыки, трагична картина. Потрясенный последними днями композитора, Репин рассказал о них правду миру со всей трагической силой, на какую был способен в пору расцвета своего таланта.
По общему признанию, в портрете Мусоргского Репин использовал совершенно новые изобразительные приемы. Он не мог поступить иначе. Великий композитор и большой друг был для него олицетворением нового, дерзновенного в искусстве. Девизом его беспокойной жизни было: «Дерзай! Вперед к новым берегам!»
Для Репина это значило гораздо больше, чем стремление только в музыке опрокинуть каноны и бросить в мир неслыханную никогда прежде гармонию звуков. Для него это был призыв к новаторству в разных областях искусства.
Интересен в этом смысле такой случай. На склоне лет, в 1915 году, Репин слушал Маяковского. Это происходило на даче К. Чуковского в Куоккале. Писатель был очень обеспокоен тем, как старый художник примет новаторские стихи поэта. Репин не только восторженно принял их, но неожиданно для многих поэзию Маяковского сравнил с музыкой Мусоргского.
Если вдуматься, в этом сравнении все было закономерно. Для художника Мусоргский оставался борцом, сметающим на своем пути рутину, ломающим традиции. Поэтому Маяковский в его сердце и нашел место где-то рядом с Мусоргским.
Композитора-новатора нельзя было писать по-старому. Репин отверг традиционный светотеневой способ лепки формы. Ни одной тени! Он лепил красками. Какой при этом плотной получалась голова, с какой чарующей легкостью достигнута безупречность и ощутимость объема.
Вот они, постигнутые в совершенстве законы пластики!
Непостижимое таинство свершилось: вы стоите рядом с холстом, но видите не краски, а одухотворенное лицо человека мыслящего, чувствующего. Репин писал в воспоминаниях о Мусоргском:
«…этот превосходно воспитанный гвардейский офицер, с прекрасными светскими манерами, остроумный собеседник в дамском обществе, неисчерпаемый каламбурист…», «одетый, бывало, с иголочки, шаркун, безукоризненный человек общества, раздушенный, изысканный, брезгливый…»
Но не таким изобразил его Репин, а человеком, презренным обществом, непонятым гением, доведенным непризнанием, большими невзгодами до алкоголизма – болезни, окончательно сгубившей композитора. И художник как бы следовал заветам самого Мусоргского, который так определил еще в 1875 году в своем письме к Стасову задачи искусства:
«жизнь, где бы ни сказалась; правда, как бы ни была солона; смелая искренняя речь к людям á bout portant (в упор), вот моя закваска, вот чего хочу и вот в чем боялся бы промахнуться. Так меня кто-то толкает и таким пребуду».
До старости Репин лелеял мечту написать картину, которая бы выразила искристое, радостное существо музыки любимого композитора. Он назвал это большое полотно «Гопак» и посвятил его Мусоргскому.
Долго оно не давалось ему, так и осталось незаконченным. Старый художник поставил перед собой почти непосильную задачу. Он хотел изобразить пляшущих людей, да так, чтобы все они были видны в вихре пляса, самого бравурного, безудержного, самого отчаянного. Уже перед смертью Репин сокрушался, что ему так и не удастся довести до конца свой замысел. И можно сказать, что он сошел в могилу, помня о великом прокладывателе новых дорог в русской музыке – Модесте Петровиче Мусоргском.








