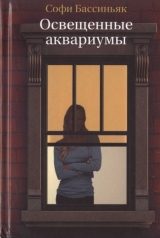
Текст книги "Освещенные аквариумы"
Автор книги: Софи Бассиньяк
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 12 страниц)
Поддавшись желанию еще раз посмотреть на Джотто и Уччелло, она спустилась в метро на станции «Сен-Мишель». Только что в какой-то наугад выбранной паршивой забегаловке она жевала салат и вот как по волшебству стояла перед святым Франциском Джотто. Необъяснимое ускорение, какое порой обретает течение времени, оказывает всем, кто страдает хронической скукой, неоценимую помощь сродни маленькому чуду. Ей хватило нескольких минут, чтобы от видимого мира перейти к «галлюцинации» – чрезвычайно хрупкой и, как она знала по опыту, целиком зависящей от степени концентрации внимания. Она называла это «необходимостью привести себя в нужное состояние». Так, прежде чем проникнуть внутрь живописного полотна, она присаживалась и принималась наблюдать за проходящими мимо людьми, настраиваясь на нужный лад. В тот день в зале оказалось довольно много китайцев, и она порадовалась, что больше не путает их с японцами. Перед ней возникло лицо Ишиды. Его образ преследовал ее, и она не находила в этом ничего хорошего. Не то чтобы она ни в чем не желала менять свою жизнь – она не хотела кардинальных перемен. К тому же она не могла закрывать глаза на тот факт, что в жизни этого человека слишком много теневых зон. Ее внимание привлекла итальянская парочка. Не останавливаясь ни на секунду, они двигались вдоль вывешенных полотен, от Чимабуэ до Гоццоли, и снимали все подряд на крошечную камеру, пока экскурсовод на них не рявкнул. Что за странная идея – снимать картины, даже не утруждаясь их рассмотреть? «Люди складывают увиденное в музее как в амбар, полагая, что таким образом получают на него некое право собственности, и именно это для них – главное», – мелькнуло у нее.
Она поднялась и застыла перед «Венчанием Богородицы» Фра Анжелико. И мгновенно все вокруг перестало для нее существовать: окружающий шум, шаги посетителей музея, вся ее земная жизнь. Она вошла в живописное полотно, как ребенок вступает в сказочной красоты дворец, ослепленный его богатством и золотым сиянием. Ее взгляд скользил по блаженным лицам святых и ангелов, окунался в бледные переливы голубого и розового, словно погружался в теплую мягкую воду в радужных разводах. Она особенно любила живопись Раннего Возрождения, которая одной ногой еще стоит в Средневековье. Живые создания в ней суть фикции, чистые сущности без костей и жил. Написанные на деревянных досках, они и сами кажутся деревянными – жесткие складки одежды, склоненные головы. Бесконечная нежность, сквозившая в их чертах, переворачивала Клер душу. Она погрузилась в созерцание «Венчания», затем прошла чуть дальше, к «Битве при Сан-Романо» Уччелло. Она обожала безумное напряжение этого полотна, на котором воины и кони сбились в кучу, охваченные бешеной барочной пляской. Именно благодаря этой суровой картине, репродукцию которой она увидела в кабинете одного автора, Клер заинтересовалась итальянской живописью. И рухнула в нее как в тяжелый наркотик. Очень скоро фрески Мазаччо, Пьеро делла Франчески и Боттичелли вытеснили из ее ночной жизни городской декор. Отныне ей снилось, что она прогуливается по лабиринтам флорентийских улочек XV века, смешивается с золоченой венецианской толпой с полотен Джентиле да Фабриано или мнет ногами черную жирную траву Боттичеллиевой «Весны». Сутками напролет она вникала в мельчайшие детали картин, восхищалась божественным освещением драпировки и предпочитала Мантенье Леонардо, а Чимабуэ – Джотто.
Не в силах остановиться, столь же неистово она принялась изучать подробности жизни святых, населяющих живописные шедевры. Прирожденная атеистка – как, по ее собственному выражению, люди рождаются «низенькими брюнетами или высокими блондинами», – Клер без памяти влюбилась в умопомрачительные истории христианских мучеников – все эти забрасывания камнями, четвертования, колесования, утопления, изнасилования, выдирание зубов и отрезание грудей, во все эти утыканные стрелами торсы, отрубленные головы и израненные тела, по которым будто бы прошлись железным гребнем. Любому, кто соглашался слушать, она с жаром рассказывала о почерневшей ноге Юстиниана, о святом Евстахии и световом кресте, мерцающем меж рогов оленя, о святом Петре, распятом вниз головой, о рыцарственном святом Георгии, которого она путала со святым Михаилом, о звериных шкурах святого Иоанна Крестителя, о еще одном святом Петре – с топором в голове, об одиннадцати тысячах дев святой Урсулы. Она поражалась, почему раньше ничего обо всем этом не слышала. Она рассматривала в книгах десятки Мадонн с младенцем, распятий, сцен бегства в Египет и поклонения волхвов. Всем прочим библейским сюжетам она предпочитала Благовещение. Луизе, с трудом скрывающей зевоту, она объясняла, что больше всего ее восхищает идеально выверенная дистанция, разделяющая архангела Гавриила и Деву Марию, дистанция, выражающая не холодность и отчужденность, но взаимную уважительную деликатность и доброжелательную внимательность, то есть свойства, которые сама Клер ценила едва ли не больше всего.
Так и текла ее жизнь, балансируя на опасной грани яви и вымысла. Она продолжала жадно впитывать в себя Священную историю – вплоть до того ужасного дня прошлой зимы, когда с утра пораньше отправилась в Лувр, в зал итальянцев. «Пора оторвать нос от книг, – сказала она себе тогда, – и насладиться реальностью полотен». Она стояла перед картинами мастеров Кватроченто, полная намерений проверить свои знания: определить по атрибутам, где какой святой, разобраться в стилях разных художников, вспомнить, что за места изображены на заднем плане, найти точку схода и так далее. Но она ничего не увидела. И ничего не почувствовала. Она стояла как в столбняке и понимала, что медленно сходит с ума. Из музея она вышла совершенно разбитая, с диким взглядом и всю дорогу кляла себя на чем свет стоит, презрительно называя самоучкой – высшая степень оскорбительности в ее табели о рангах. Потом она поняла, что зашла слишком далеко, захлопнула книги, тетради, специальные словари и решила дать себе «отдохнуть». И вот сегодня, рассматривая пастельных ангелов Фра Анжелико, она с облегчением осознала, что к ней снова вернулась вся яркость ощущений.
Домой она пошла пешком, через улицу Риволи, площади Шателе, Рамбюто и Вьей-дю-Тампль до Зимнего цирка. Она чувствовала себя в отличной форме и уже обдумывала план изучения японской гравюры. Она не станет придерживаться строгой хронологии – лучше отдастся на волю инстинкта и, черт с ним, попробует эту «перемену» на вкус, как пробуют новый сорт конфет.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Действительность кинулась Клер в лицо стремительно и неотвратимо, как мяч, брошенный соперником в жокари [9]9
Жокари– национальная баскская игра, в которой используют мяч на тонком резиновом шнуре.
[Закрыть]. Под козырьком подъезда консьержка беседовала – явно на повышенных тонах – с новым соседом. Тот, кто до сих пор существовал для нее в виде темного силуэта на балконе или пары ног, шаркающих по полу, обрел лицо. С зоркостью сыщика, выискивающего улики, она отметила, что он одет в клетчатую рубашку и вышедшие из моды джинсы. На ногах – черные кожаные ботинки. Обручального кольца нет. Он оказался голубоглазым блондином, и она сейчас же придумала ему детство, проведенное в Бретани, где-нибудь возле Перро-Гирека, среди надуваемых ветрами рыбачьих парусов. Однако далеко не наивный взгляд мужчины заставил ее вспомнить также Томаса Манна и Германию начала XX века. В общем, он приводил ее в замешательство – это следовало признать. Консьержка – сербка по национальности – изъяснялась на весьма оригинальном французском языке, с трудом поддающемся пониманию, особенно для непосвященного. Фанатично преданная традиции, трусливой, но необходимой, она пыталась втолковать новичку правила поведения, принятые в доме. Клер вмешалась, объяснив мужчине с максимально безразличным видом:
– Она говорит, что вы не имеете права приклеивать скотчем бумажку со своим именем на почтовый ящик. Надо позвонить в правление кооператива, и они закажут вам табличку. Ее вам быстро сделают. Всего за несколько дней.
Он посмотрел на обеих женщин как на двух идиоток.
– А до тех пор?
Клер повернулась к консьержке.
– Он займется этим сегодня же, – авторитетно объявила она, четко выговаривая каждое слово. – А пока пусть оставит свою бумажку на ящике, хорошо?
Клер чувствовала, как взгляд мужчины скользит по ее коже, перебирается со лба на шею, вызывая покалывание у корней волос. Она взяла из рук консьержки бумажку и сама прилепила ее к почтовому ящику соседа. «Это временно», – сказала она самой себе. Консьержка пробурчала нечто нечленораздельное и исчезла в дворницкой.
Спасибо, – поблагодарил сосед, ничуть не смущенный. Он по-прежнему глядел прямо на Клер.
– Не за что. – Ей пока удавалось сохранять равнодушную интонацию. – Вот что я хотела вам сказать… Я работаю дома. Днем, а иногда и вечером. Мне нужна тишина. – Собеседника поразила жесткость в ее голосе. – Ну ладно, всего хорошего, – бросила она, чувствуя, что дольше сдерживаться не сможет.
И устремилась к лестнице, потрясенная размером жизненного пространства, которое этот человек сумел себе захапать.
Через несколько дней, посвященных упорным трудам, Клер получила от Ишиды приглашение на ужин. «А то, – сказал он ей по телефону, – вы совсем куда-то пропали». Она представила, как на том конце провода он улыбается своей иностранной улыбкой, слегка гордясь собственным умением играть нюансами французских слов. Он приготовил восхитительный, эстетически безупречный японский ужин, послуживший поводом к целому потоку комментариев на тему японской кулинарии.
– Вы знаете, что вас всем видно? – спросила Клер, указывая на двор. – Наши квартиры похожи на аквариумы с подсветкой, поставленные друг на друга. Разве в Японии не принято зашторивать окна?
– Это не так, – ответил Ишида. – Но я опоздал вешать шторы. Соседи уже привыкли видеть меня каждый вечер, и, если я вдруг лишу их зрелища своей гостиной, они меня не поймут. Но вы-то понимаете? Они сочтут это оскорбительным. Слишком поздно.
Они продолжали молча есть, поклевывая содержимое крохотных огнеупорных горшочков, выставленных на низеньком столике. Клер по-прежнему смотрела во двор. Ее квартира оставалась темной. Как-то, впервые попав в дом напротив, она воспользовалась случаем, чтобы рассмотреть ее оттуда. При мысли о том, что другие люди могли вот так за ней наблюдать, она испытала шок. Она поняла, что в гостиной, казавшейся более темной, чем она была на самом деле, картина висит слишком низко, а люстра и вовсе производит впечатление убожества – маленькая, тусклая от пыли. Над спинкой старого дивана обнаружилось сомнительного вида пятно, выделявшееся на фоне желтой, цвета мочи, стены.
Ее взгляд все так же скользил вдоль фасадов. Окна в квартире нового соседа светились, но отсюда, от Ишиды, был виден только потолок. Поразительно, до чего тихо вел себя этот человек. Побаивался соседей? Вообще не бывал дома? Клер терялась в догадках. Квартира Блюаров, расположенная под ней, сияла огнями, как терминал аэропорта. Люстры и торшеры позволяли в мельчайших подробностях рассмотреть буржуазный интерьер жилья: светлые, даже на вид жесткие – в соответствии с современной дизайнерской модой – диваны, старинные безделушки, абстрактные картины, светильники прямолинейной формы. И ни намека на присутствие Люси, подумала Клер. Это место создано не для ребенка, а для того, чтобы подчеркивать безупречность длинных ног Луизы. Сейчас она разложила их на шелковой подушке, словно бесценное сокровище. Дьявольски похожая на Дельфину Сейриг, она сидела, запустив пальцы в свои венецианские кудри, и лениво попивала шампанское, старательно изображая крайнюю степень скуки. Антуан что-то горячо рассказывал, рубя руками воздух. Спинами к окну стояли гости.
Ишида вырвал Клер из просмотра этого немого кино, спросив, видела ли она уже нового соседа.
– Да, – вздохнув, ответила Клер.
– И что вы о нем думаете?
– Даже не знаю, что вам сказать. Пока мне хочется побольше о нем разузнать. На данный момент я практически уверена, что он не представляет собой ничего интересного.
– Он вам сильно досаждает? – спросил Ишида.
– Совсем не досаждает. А больше мне от него ничего и не надо. – Она замолчала, проглотила кусочек тэмпуры [10]10
Тэмпура– блюдо японской национальной кухни: обжаренные во фритюре ломтики рыбы, морепродуктов и овощей.
[Закрыть]и добавила: – Лицо красивое, это верно, но в наши дни красота – пустой звук.
– Да ну? – с сомнением хмыкнул Ишида.
– От этого типа так и веет скукой. Воняет – хуже, чем потом. – Она засмеялась, хотя он оставался серьезен. – На свете очень мало людей, способных меня удивить, – заключила она, словно ставя финальную точку. И почувствовала, что тонет, – как в те вечера, когда он спокойно смотрел на нее, барахтавшуюся в потоке противоречий.
На сей раз он соизволил протянуть ей спасительную палку:
– Как-то вы говорили, что, по вашему мнению, интересными нас делают другие люди.
Клер перевела дух – к ней вернулась способность нормально дышать.
– Да, – проговорила она, – я думаю, есть люди, которые одним фактом своего присутствия, своей способностью слушать других заставляют нас выделывать всякие пируэты. Мы разливаемся соловьем и сами поражаемся силе своего красноречия. Это как в спорте. Если перед вами бежит более быстрый соперник, вы тоже бежите быстрей. А в обратном случае… – Она бросила взгляд на окно Луизы. – А в обратном случае это не жизнь, а дремота. Между нами говоря, стоит ли стараться поразить дурака?
Она произнесла это с дрожью в голосе. Своим высокомерием она и так разогнала от себя почти всех друзей. Осталась пара-тройка – тех, кто терпел ее выходки потому, что не считал себя их мишенью. Но Ишида, думала она, непроницаем для ее сарказма.
– Кроме того, можно – сознательно или неосознанно – повести разговор так, чтобы собеседник не сказал ничего личного. Это своего рода тирания, заставляющая его держаться на расстоянии.
– Это вы обо мне? – с ноткой беспокойства в голосе спросила она.
– Я просто продолжаю вашу мысль. – Сказав это, Ишида поднялся и исчез на кухне, унося с собой несколько опустевших горшочков.
Клер, засмеявшись, крикнула ему вслед:
– Не мне учить вас официальному этикету!
Он ничего не ответил. Но она не волновалась. В этот вечер она испытывала абсолютное доверие к Ишиде – и к себе самой.
Воспользовавшись его отсутствием, она вернулась к подглядыванию в окна. Гостиная Блюаров опустела; гости и хозяева перешли в столовую. Свет у верхнего соседа погас. Клер чувствовала благодарность к этому человеку за то, что он, даже не подозревая, как мог ей навредить, оставил ее в покое. Вернулся Ишида и уселся напротив Клер, гибкий и проворный, как мальчик.
– Над чем вы сейчас работаете? – спросил он.
– О, одна специальная книга. Об остеохондрозе.
– Как поживает ваш издатель? – продолжал расспрашивать японец.
Клер успела настолько подробно описать ему Леграна, что казалось вполне нормальным, что Ишида интересуется, как у него дела.
– Да так себе. Слишком много времени тратит, глазея на голубей. Выглядит паршиво и сказал, что собирается меня уволить. – Ишида вытаращил глаза, но Клер его успокоила: – Он грозит мне увольнением примерно раз в полгода. Я его раздражаю. – Она налила в синюю фарфоровую чашку немного горячего чаю. – Мне стало известно, что у него нелады с женой. Слышала, что он собирается разводиться, но не верю. Слишком много сложностей, слишком много общих интересов… Я ее несколько раз встречала на вечеринках. Как говорится, красивая женщина. Тощая, стервозная, шикарная. Типичная модель с улицы Бак или Университетской. Она меня возненавидела с первого взгляда. Мы принадлежим к разным мирам. Моя вялая экзотика ее не воодушевляет – недостаточно эстетики. К тому же мне всегда будет на двадцать лет меньше, чем ей! Честное слово, иногда мне кажется, что она ненавидит меня с такой силой, что чуть не плачет, стоит ей меня увидеть. Легран жутко в нее влюблен. Они – одного поля ягоды, настоящие соратники по оружию. Но она его прикончит, если и дальше будет выдвигать к нему требования, более разумные для молоденькой девушки.
Она в упор посмотрела на Ишиду. Ей немного надоело говорить одной.
– В традиционной Японии, при императорском дворе, – начал тот, – запрещалось стареть. Взгляните на гравюры. Проходят века, бежит время, но лица и наряды не меняются. Мои предки обладали таким развитым чувством красоты, разрушаемой временем, что всегда изображали пожилых людей в карикатурном виде безобразных стариков.
– Если не двигаться, время останавливается. – Клер произнесла это с напускным безразличием, в которое Ишида не поверил ни на секунду.
– Это химера, и вам это прекрасно известно. Постоянство, как мы называем это в Японии, – всего лишь идея, не более того. Мы живем и умираем, как все прочие люди. Мы еще дети, – добавил он, и в его голосе прозвучала непривычная дрожь.
– Дети-вундеркинды! – уточнила Клер.
И, словно делясь друг с другом опытом осознания времени, они надолго замерли, сидя по-турецки лицом к лицу и уставив взоры на дно чайных чашек. Наблюдай за ними в эту минуту кто-нибудь из жильцов дома, он был бы поражен неподвижностью Клер и Ишиды – двух темных фигур, омываемых звездным светом на черном фоне фасада.
Она вернулась к себе поздно, сразу легла спать, поднялась рано утром, не помня, что ей снилось, и села завтракать с газетой, не открывая окна. Вот уже несколько дней она придерживалась жесткого графика работы, не оставлявшего места для неожиданностей. Организованная, сосредоточенная, деятельная – вот какой она стала. Казалось, даже небо, неизменно голубое, сообщало ей малую толику того постоянства, о котором накануне рассуждал Ишида.
Приведенная трудами венгерского мастера в божеский вид, квартира Клер успела покрыться патиной, как будто со времени ремонта прошло не четыре года, а все сорок. Обилие предметов и разнородных безделушек производило впечатление, что здесь живет человек с яркой личной историей, с богатой генеалогией, человек, немало поездивший по свету. Но это было обманчивое впечатление. Просто-напросто Клер никогда ничего не выбрасывала. После истории с «картонной коробкой» она зареклась использовать дом родителей в качестве временного склада своего имущества. За несколько лет до того огромная обувная коробка с надписью: «Вещи Клер», оставленная ею в шкафу своей девичьей спальни, очутилась в «Эммаусе» [11]11
«Эммаус»– сеть благотворительных магазинов во Франции.
[Закрыть]. «Ну извини», – небрежно пробормотала мать, глядя на нее отсутствующим взглядом. Огромное количество книг, тесно уставивших дешевые полки, фотографии писателей в рамках, мебель с бору по сосенке – все это наводило каждого, кто входил в квартиру Клер, на мысль, что он попал к человеку весьма преклонных лет, прожившему насыщенную жизнь, но к старости решившему стать затворником. Она об этом знала и ничуть не возражала, что ее принимают за представительницу совершенно другой эпохи, пусть даже ее жилье казалось грязноватым.
Гостей она приглашала крайне редко. Даже Ишиду, которому всего-то и надо было, что пересечь двор. Она терпеть не могла оставлять чужих людей сидеть в гостиной, пока она на кухне варит кофе. Боялась, что они схватят какую-нибудь книгу и скажут: «Возьму почитать». Не хотела, чтобы посторонние смотрели на ее кровать. Стеснялась доносившихся с кухни пищевых запахов. Терпеть не могла, чтобы кому-то еще помимо ее воли стало известно, как она живет. Пустить к себе в дом чужого – все равно что отдать руль своей машины незнакомому человеку: ну и что, что он выглядит добропорядочно, а вдруг он лихач?
Каждое утро, приняв рискованно горячий душ, она включала стиральную машину и складывала в плетеный короб чистое белье, накануне вывешенное для просушки на металлический карниз над ванной. Затем садилась за письменный стол, заваленный словарями и справочниками. К помощи компьютера она прибегала неохотно, только в случае крайней необходимости. Книги казались ей более надежными. Утро за работой пролетало быстро. Книга Дитриха оказалась хорошо и убедительно написанной. Авторские рисунки изображали мужчин и женщин в различных позах, которые немедленно хотелось принять самому, такими они казались простыми. Впрочем, Клер узнала некоторые из них – Дитрих учил ее, и она помнила, что это было больно.
В час дня она прерывалась на обед, во время которого смотрела по телевизору новости. Как и все прочие, она считала себя обязанной присутствовать при этой ежедневной «литании» ужасов, всегда примерно одинаковых, происходящих то тут, то там, в каких-то неведомых городах, которые редакция предусмотрительно отмечала на карте, прежде чем пустить репортаж специального корреспондента. Клер отказывалась нести какую-либо ответственность за бедствия, охватившие мир якобы по той причине, что у нее из крана всегда свободно течет вода. Вместе с тем она не захотела бы объяснить, почему с некоторых пор перестала ходить по одной из улиц своего квартала. На протяжении долгих месяцев там стоял высокий сутулый старик, игравший Душераздирающую музыку, – он извлекал ее смычком из пилы. Больше всего он напоминал провинциального пенсионера, бывшего учителя младших классов или бухгалтера, после смерти жены оставшегося в одиночестве. Его вид выворачивал ей душу наизнанку. Пробежавшись по магазинам, она останавливалась возле него и опускала в валявшуюся на земле кепку деньги, перед тем убедившись, что до нее это уже сделали и другие. Затем быстро отворачивала голову, боясь встретиться взглядом с этим человеком, который наверняка приходился кому-то дедушкой. Жалость к нему так изъела ее сердце, что одним печальным утром она постановила больше никогда не ходить этой улицей квартала Марэ. Чужое горе давило на нее такой тяжестью, что ей стало казаться: она обречена закрывать на него глаза, иначе ей не выжить в этом мире. На самом деле нельзя сказать, чтобы осознание своей исключительной хрупкости – довольно-таки удобной – полностью решало проблему. Она отводила глаза, проходя мимо бездомных, бесформенными кучами устроившихся в метро на ночевку под грязными тряпками, но иногда наступали дни, когда она чувствовала их отчаяние как свое. Братья-человеки…
Она дожевывала последний кусок стейка, когда в дверь позвонили. Она вскочила, сейчас же выключила телевизор, пулей слетала на кухню – отнести поднос – и попутно посмотрелась в зеркало, проверить, не застряло ли в зубах чего-нибудь неположенного.
– Кто там? – спросила Клер. – И, не дожидаясь ответа, открыла дверь.
Это оказался старик Лебовиц, единственный ее сосед по лестничной клетке. Она посторонилась, пропуская его в квартиру, и указала ему на кресло. На диван она его больше не приглашала, поскольку знала, что у него болят колени и сидеть на мягком ему неудобно. Месье Лебовиц был крошечный человечек с пышной седой шевелюрой. Сморщенная матовая кожа покрывала его скелет, как будто приклеенная, на длинных ухоженных руках отдавая голубизной. Зимой и летом он неизменно ходил в темном костюме с застегнутой на все пуговицы сорочкой, не всегда безупречно чистой. Несмотря на это, выглядел он так, что эта «паршивка из булочной» на бульваре ни за что не посмела бы назвать его «дедулей», как она имела обыкновение обращаться ко всем местным пенсионерам. Клер каждое утро проверяла, что он благополучно спустился вниз забрать почту, а по вечерам не забывала убедиться, что в его окнах загорелся свет. Он практически никогда не шумел. Только изредка, во время еврейских праздников, он тихонько напевал, и тогда Клер прижималась ухом к двери и слушала эти песни иных времен и стран. Его жена умерла молодой, в семидесятые, а единственная дочь жила в Израиле. Она приезжала его навестить дважды в год, всякий раз шокируя Клер своей грубостью, особенно дикой в сравнении с фарфоровой хрупкостью этого маленького человечка. То ли она не желала признавать, что ее отец постарел, то ли мстила за неправильное, по ее мнению, воспитание и свою скучную и невеселую юность, прошедшую в темной квартире на третьем этаже, с окнами во двор.
Клер предложила старику кофе, от которого он вежливо отказался. В последнее время он что-то начал задыхаться. Она на минутку заскочила к себе в кабинет и вышла оттуда с книгой в руках, которую тут же вручила месье Лебовицу.
– Вот, смотрите! – торжествующе воскликнула она. – Я ее нашла!
Это был старый атлас, изданный в 1920-е годы. Месье Лебовиц долго и безуспешно его искал. Клер потратила несколько минут, чтобы напасть на него в Интернете. Возможно, старик и не подозревал о существовании подобного инструмента.
Пристроившись возле него на коленках, Клер с восторгом рассматривала вместе с ним страницы, которые он перелистывал дрожащей рукой, словно они обжигали.
– Мазел тов! [12]12
Какое счастье! ( идиш).
[Закрыть]– пробормотал Лебовиц, улыбаясь сам себе.
Клер ощущала рядом с собой его присутствие. Она сидела не шевелясь и прислушивалась к его слегка посвистывающему дыханию. Привычка «чуять», как она это называла, жизнь других людей, устраиваясь поближе к ним и пытаясь впитать в себя их существование, осталась у нее с детства. Ей никогда не удавалось никому объяснить, как это происходит, – никому, кроме Ишиды, который понял ее с полуслова. В присутствии месье Лебовица ей чудилось нечто особенное. От его костюма исходила сложная смесь запахов: кухни, светлого табака – он неразумно много курил, – и русского одеколона, который ему привозила дочка. Через его кожу, почти мертвую, больше не просачивалось ничего, но его быстрое и неглубокое дыхание оставалось дыханием мужчины – мужчины, сжимавшего в объятиях женщин перед тем, как обременить их ребенком. От месье Лебовица отчетливо веяло интеллектуальной мощью. Именно это труднее всего поддавалось объяснению – неотразимое обаяние ума.
– Сколько я вам должен? – с подчеркнутой серьезностью спросил месье Лебовиц.
– Нисколько, – ответила Клер.
– Нет, я настаиваю, – строго возразил сосед.
– Как вы себя чувствуете, месье Лебовиц? – поинтересовалась Клер, переводя разговор на другую тему.
– Я чувствую себя просто великолепно.
Он всегда отвечал так. Иногда говорил:
«Я здоров как бык», или «Что мне сделается?», или «Меня ни одна холера не берет!» – в зависимости от настроения и личности собеседника. Консьержку, которая не понимала его чувства юмора, это приводило в ярость. Месье Лебовиц никогда не жаловался. Только от его дочери Клер узнала, что у него запущенный суставной ревматизм и он почти не выходит из дому, потому что от боли порой не может шевельнуться.
– Знаете, – начал он, – да, конечно, знаете: чем старше становишься, тем чаще вспоминаешь прежние дни. Так что, дорогая Клер, если у вас было счастливое детство, значит, вас ждет не менее счастливая старость.
Клер опустила глаза, слегка сбитая с толку. Не только молодые годы Лебовица были запретной темой по причине перенесенных им ужасов, но и юность самой Клер вряд ли заслуживала самой малой толики сожалений. «Какой все-таки потрясающий человек, – подумала Клер. – В нем как будто дремлет чудовищной силы гнев, который он держит в клетке и не выпускает на волю, опасаясь неизбежных разрушений».
– А вы, моя милая, как вы себя чувствуете? – спросил он.
За этим вопросом крылся другой. Когда Клер интересовалась здоровьем старика, она подразумевала: как там у вас, месье Лебовиц, с приближением смерти? Когда его, в свою очередь, задавал старик, он имел в виду: как там у вас, Клер, с мужчинами?
– Спасибо, хорошо.
– Вы видели, у нас появился новый сосед? – с ноткой беспокойства в голосе спросил Лебовиц.
– Видела, – задумчиво произнесла Клер.
– Он мне не нравится.
– Почему? – Клер не скрывала удивления. Она привыкла к тому, что ее старый друг относится к окружающему миру либо с безразличием, либо с доброжелательностью.
– То ли он здесь, то ли его нет – понять невозможно. По лестнице ходит бесшумно. Вдруг остановится на площадке, как будто подслушивает, что у кого творится. Мне сдается, он сюда не жить переехал.
– А для чего же тогда? – спросила Клер, заинтригованная.
– Он что-то ищет… Или кого-то.
– В нашем доме?
– Да. – Он на миг умолк. – Вас, меня, кого-то еще. Этого ужасного дворничихиного кота… – Он засмеялся.
– Вы шутите, месье Лебовиц.
– Не знаю… Возможно.
Он продолжал улыбаться лукавой детской улыбкой. Но внезапно его лицо напряглось, и он бросил на Клер такой пронзительный взгляд, что она похолодела.
– На этой земле, моя дорогая, есть такие люди… – Он остановился и сжал зубы. В последнее время у него появилась манера прерывать себя, не договорив, – раньше он ничего подобного себе не позволял. Он глубоко вздохнул и поднялся: – Спасибо, Клер. Разрешите как-нибудь вечерком пригласить вас на ужин, если вы не против. Знаете, есть тут один итальянец неподалеку, он только что открылся…
– С удовольствием, – ответила Клер.
Он с улыбкой посмотрел на нее и добавил:
– Уверен, что вы еврейка.
Клер со смехом воздела очи горе:
– Я ведь вам уже говорила, что мой отец – бретонец, а мать – из Эльзаса.
Месье Лебовиц повернулся и открыл дверь. Уже из коридора он прошептал, словно не желая, чтобы его услышал кто-нибудь из соседей:
– В Эльзасе много евреев. И в Бретани немножко есть.
Клер расхохоталась. Дождавшись, когда он скроется в своей квартире, она закрыла дверь. Потом задумалась: этот длинный и тонкий шрам у него за ухом, который она только что заметила, – он был там всегда? Да, разговаривать с людьми легко, но вот наблюдать за ними – все равно что глядеть в бездонный колодец. Она раскрыла рукопись на главе «Поясничные позвонки» и принялась за работу.







