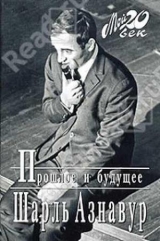
Текст книги "Прошлое и будущее"
Автор книги: Шарль Азнавур
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 18 страниц)
На ступенях дворца
Я не появлялся на парижской сцене в течение семи лет. Переговоры с Жан – Мишелем Бори, художественным руководителем зала «Олимпия», пришедшим на смену Бруно Кокатриксу, ни к чему не привели. Поэтому мы с Левоном Сейяном решили, что открытие сезона состоится на сцене Конгресс – центра. Сцена была, на мой взгляд, слишком большой, поэтому я решил поместить в центре лестницу, чтобы не пришлось долго идти к ее середине. Правда, у меня, как обычно, было некоторое опасение, что зрители не будут аплодировать достаточно долго для того, чтобы дать мне возможность туда добраться. Но после первого же выступления я успокоился: такой овации не было ни на одном из моих парижских открытий сезона. Артисты и зрители аплодировали стоя. Они все пришли сюда, они были в зале, а в моей дурной голове за долю секунды пронеслись воспоминания о годах мучений, непонимания. Я ощущал незримое присутствие тех, что любили меня с самого начала и всегда верили в меня. Я ощущал рядом их незримое присутствие, все они стояли за моей спиной рядом с оркестром – РОДИТЕЛИ, Эдит Пиаф, Рауль Бретон, Анри Дейчмейстер, Патрик и многие другие…
Неприятности
Успех во Франции считается делом неблаговидным. Это вам не англосаксонские страны, где принято его афишировать. Во Франции успех стараются скрыть, выискивая всяческие оправдания, чтобы не прослыть богачом. Например, если кто‑нибудь говорит вам: «Вы хорошо зарабатываете», то вы обязательно должны процедить сквозь зубы «да» и добавить: «Но у меня большие расходы, а потом, государство отбирает у меня столько, что в результате я зарабатываю не так уж много, как вам может показаться». Точно так же некоторые артисты стараются умолчать о своих выступлениях за границей. Французская публика очень эгоистична, она прощает заграничные гастроли только тем артистам, которые ее больше не интересуют. А вот англосаксы предпочитают гордиться успехами своих сограждан.
Я не интересуюсь политикой и никогда по – настоящему не примыкал ни к какому политическому течению. Всюду есть люди хорошие и плохие, и я считаю, что моя публика не принадлежит к ка– кой‑то одной религии, социальной среде, не имеет определенной политической направленности. По моему мнению, в концертных залах, где я выступаю, собираются лишь люди, влюбленные в искусство, и в частности в шансон. Я пел в Марселе перед выступлением Франсуа Миттерана, бывшего тогда всего лишь партийным лидером, пел в Болонье на митинге органа итальянской компартии «Унита», в Париже на празднике газеты «Юманите» и на выступлении Валери Жискар д’Эстена. Каждый отблагодарил меня по – своему. Франсуа Миттеран в Елисейском дворце вручил мне мой первый орден Почетного Легиона, а вот выборы Жискара навлекли на мою голову все возможные неприятности, которые только можно себе представить. Меня подвергли преследованиям под предлогом охоты на богачей, мне пришлось разориться и из своего кармана заплатить за спасение собственной репутации. Не стоит обольщаться: во Франции абсолютно невозможно заработать большое состояние на нашей профессии, как это делают в Италии, Германии, Англии, не говоря уже о Соединенных Штатах. Суммы, публикуемые в прессе, это всего лишь реклама. Сколько артистов, оставив сцену, вынуждены доживать свои дни, получая мизерную пенсию.
Но вернемся к моей истории. После турне по СССР финансовый инспектор, не найдя в налоговой декларации сумм, заработанных в этой стране, подверг меня процедуре уточнения налога, одновременно с этим предъявив иск за задержку уплаты налога с требованием заплатить штраф в размере от пяти до семи вышеупомянутых сумм. Напрасно я пытался объяснить ему, что артисты, выступавшие за занавесом, который называют «железным», не имеют права вывозить из этих стран рубли, и что мне пришлось потратить все деньги на месте. Это не помогло, я по – прежнему был должен эту сумму, и все тут. Я не стал препираться и заплатил, но урок пошел мне на пользу. В дальнейшем, отправляясь на гастроли в страны Восточной Европы, заблаговременно требовал оплаты всех расходов, отказываясь от гонорара.
В другой раз правительство оказало неслыханную честь, возбудив против меня громкое дело, и все для того, чтобы произвести впечатление на сограждан и доказать, что я являюсь одним из французских толстосумов. По этому поводу мне вспоминается чудесный анекдот. У выхода из версальского Дворца правосудия меня поджидал достаточно немолодой человек. Он подошел, доброжелательно улыбнулся и, положив мне руку на плечо, сказал по– армянски: «Видишь ли, сынок, даже это судебное дело – большая честь для тебя». По его мнению, я должен был испытывать благодарность за то, что руководство такой великой страны, как Франция, проявляет невероятное упорство в борьбе со мной, жалким иностранцем. Я долго смеялся, а вот Рене Эйо, мой адвокат, веселился не так, как я: в сутолоке Дворца правосудия какой‑то субъект стянул у него портфель. «Вот видишь, Рене, в наше время нельзя доверять даже местам, которые находятся под охраной», – сказал я.
Чтение
Несмотря на то, что я относительно правильно и без акцента изъясняюсь по – армянски, я никогда не учился читать и писать на языке, который, если бы не известные события, должен был стать для меня первым и основным. Этим объясняется мое глубокое невежество во всем, что касается армянской литературы, а она, говорят, очень богатая. Конечно, в молодые годы я просто не испытывал желания погружаться в нее. Иногда сожалею об этом, но, что поделаешь, время проходит, и упущенного уже не вернуть. Это только потом мы говорим: «Ах, если бы я знал!» Я не интеллектуал и не эрудит, иначе об этом было бы известно, но читаю невероятно много – русских авторов, американских, итальянских, испанских, южноамериканских, английских, немецких и конечно же французских. Однако осталось еще множество наших писателей, к которым я пока не успел приступить. Так же дела обстоят и с древнегреческими авторами. Я успел бегло ознакомиться с Грецией, но, к моему большому сожалению и даже стыду, не могу сказать того же о ее литературе. Будучи ребенком, я не раз брал книги в небольшой библиотеке на улице Сен – Северен, в нескольких шагах от церкви, где рано утром прислуживал при обедне до занятий в частной школе, находившейся на улице Жи – лё – Кёр. Но кто мог посоветовать мне прочитать произведения античной литературы в тех краях, какими бы уютными и симпатичными они ни были! Когда впоследствии мы с Мишлин, молодоженами, жили на улице Лувуа, 8, в комнатушке, куда нас пустили родственники, на седьмом этаже без лифта и с окном, выходящим в коридор, я часто проходил мимо хранилища золотого запаса литературы – Государственной библиотеки. Но никогда не заходил туда, чтобы избежать шока: я догадывался, что перед таким изобилием книг растеряюсь и не буду знать, с какого произведения начать самообразование. Там было слишком много авторов, о которых я ничего не знал. Это как на каком‑нибудь приеме, куда меня часто приглашали и где я не знал, к кому обратиться. И хотя с упоением и даже яростью проглатывал семьдесят – семьдесят пять книг в год – за шестьдесят лет усердного чтения это составляет около четырех тысяч произведений – все равно считал себя безграмотным. Зная свои пробелы в области литературы, я опасался, как бы столкновение с таким количеством литературных произведений не отбило у меня навсегда охоту читать. По правде сказать, это было бы трагедией! Не стоит раньше времени разрушать иллюзии, убивать их на корню… корень по – французски – «расин». Да – да, Расин, а еще Лафонтен, Мольер, Корнель, Виктор Гюго… Конечно, я прочитал их всех, ведь хотел стать актером и, выбрав самый короткий, но самый правильный путь, «питался» этими авторами, впоследствии добавив к ним Аристофана, Софокла, Теренция. Наверное, я был слишком молод! Общество трех последних меня скорее утомило, но я стоически заставил себя дочитать их до конца, чтобы научиться, обучиться, и, в особенности, иметь возможность показать себя в наиболее выгодном свете! Но во всем, что касается профессии, мне пригодились лишь французские авторы, в частности Жан де Лафонтен. С «французами» я ознакомился намного позже, не считая Виктора Гюго, которого открыл для себя в школе. В детстве я постоянно слышал, как мои родители читают стихи армянских поэтов Сарянца и Грегуара де Нарека, а особенно они любили Саят – Нова, поэта и трубадура, произведения которого мой отец пел с той же страстью, которую сам автор вложил в стихи и музыку.
Читать, читать… Конечно, но только что? И с чего начать? Когда ты где‑то учишься, всегда есть учитель, который направит, заинтересует, укажет нужный путь. Но когда ты один и, кроме того, застенчив и закомплексован, то подбираешь авторов наугад, однако тебе так и не удается удовлетворить свой литературный голод. Такие имена, как Оноре де Бальзак, Эмиль Золя, Анатоль Франс, Вольтер или Рабле, – это прекрасные указатели, по которым можно определить, на какой улице вы находитесь, однако если бы на них, кроме дат рождения и смерти, были еще и списки произведений… К счастью, существует общение с теми, кто хочет приоткрыть для вас окошко, кто бросит луч света на участок поля, который еще предстоит вспахать. Первым из таких людей стал не кто иной, как Жан Кокто, и произошла эта удивительная встреча после того, как я получил послание из нескольких слов, написанное его тонкой, элегантной и породистой рукой. Записка, которую мне доставили на дом, прямо как во времена эпохи Просвещения, была очень короткой: он всегда считал, что самые лучшие письма – это письма короткие. В ней говорилось о том, что со мной хочет познакомиться его подруга, которой, писал он, понравились мои песни. Она должна была подойти за кулисы после моего выступления в казино «Болье». Через некоторое время после знакомства мадам Франсина Вейсвеллер пригласила меня на обед к себе в Кап – Ферра вместе с Жаном, который был другом дома. Она преподнесла мне просто царский подарок! Я немедленно был покорен его незаурядной личностью – личностью, выходящей за рамки нашего времени. Со мной он был таким, как обычно – простым и милым, и я, находясь рядом с ним, научился одной очень важной веши, которой впоследствии неизменно следовал. После обеда Жан каждый раз уходил, но не для того, чтобы вздремнуть: он шел работать. Однажды я поинтересовался, над чем он работает – над новой театральной пьесой или очередной книгой? Он ответил: «Нет, просто пишу каждый день. Очень важно каждый день писать, хотя бы понемногу». Сочинительство – это как мышцы, которые надо постоянно поддерживать в форме. С тех пор я ежедневно тренирую свое перо. В большинстве случаев из‑под него не выходит ничего интересного, одни тексты я сразу рву и бросаю в корзину, другие оставляю, мало ли что. Важен сам факт работы.
Люблю, не люблю
Страстно люблю все свои профессии. Им посвящаю почти все свое время. Я живу среди клавиатур, ручек и компьютеров, испытываю особую радость, подыскивая верное слово, рифму, интонацию, ноту, с беспокойством ожидая реакции публики.
Как актер, люблю ощутить себя «новым», свободным от лишнего груза, способным воспринять все что угодно, стать таким, каким меня хочет видеть режиссер – постановщик, и при этом выложиться, отдать всего себя, создавая новый образ. Я уе играю роль, я сам становлюсь этим персонажем.
Как певец, люблю по сто раз исполнять одну и ту же песню, каждый раз добавляя какую‑нибудь небольшую находку, чтобы удивить нас с вами – себя и публику. Странная вещь, но разные «Ах, сегодня вы пели лучше, чем обычно!» и другие подобные высказывания никогда не убеждают меня. Я не слишком полагаюсь на внешние оценки и считаю, что только мне одному на самом деле известно, действительно ли я был в лучшей форме на сегодняшнем представлении. Ужасно теряюсь, когда мне говорят комплименты, не спасают даже неловкие попытки отшутиться в ответ.
Как автор, я счастливейший из людей. Я влюблен во французский язык, но одновременно с тем не претендую на идеальное знание его. Несмотря на все старания, у меня еще полно пробелов. Люблю слова, их звучание, вызывающее образные ассоциации: например, слово «круглый» – действительно округляется во рту, а слово «острый» действительно становится колючим, когда его произносят. Когда я сочиняю, то выбираю не наиболее точное слово, а то, которое лучше звучит. Например, слово «торнадо», в котором можно с упоением раскатывать «р» – «тор – р-р– р – надо» – содержит в себе больше силы, чем, например, «тайфун» или «буран». Меня приводит в ужас только слово «триумф»: «У меня, у него, у нас вчера был такой триумф!» Это не рифмуется ни с чем. Само слово «триумф» ни с чем не рифмуется.
В силу обстоятельств, по воле событий случилось так, что я стал работать в четырех профессиях. Одна открывает двери для другой, другая подталкивает следующую, и, время от времени пересекаясь, эти четыре ипостаси, в конечном счете, дополняют друг друга: актер, певец, автор текстов, композитор. Я занимался ими немного беспорядочно, иногда урывками, но не как дилетант, хотя и не был до конца профессионалом. Главным для меня всегда было чувство добросовестно сделанного дела, «хорошая работа», как любили говорить одно время. Во всяком случае, что касается одной из них – профессии певца, я надеюсь, что после шестидесяти девяти лет на сцене честно выполнил контракт, связывавший меня с моим «хозяином» – публикой.
Осень
Лет в четырнадцать – пятнадцать от одной мысли о том, что рано или поздно придется встретиться со смертью, у меня волосы вставали дыбом. Позже я был слишком поглощен развлечениями, девочками, погоней за успехом, и эта мысль мало – помало отдалилась, возникая лишь в случае смерти кого‑то из родственников или друзей. Но наступает возраст, когда ловишь себя на том, что осенью с умилением глядишь на листья деревьев, которые постепенно краснеют, желтеют, а затем опадают, уносимые порывами ветра. Вот в этом‑то возрасте и начинаешь считать те немногие годы, что тебе отпущены для жизни! И тогда мысль о смерти становится спутницей твоих дней, а вернее, ночей. Ты пытаешься представить себе все это, начинаешь задумываться о вещах, которые прежде не приходили тебе в голову. Независимо от того, верующие мы или нет, мы все сомневаемся. Прошлое все чаще приходит в наши воспоминания, и мы начинаем менять свои привычки. Мне понадобилось много лет, чтобы полюбить природу, заинтересоваться деревьями и цветами, хотя я всегда хотел жить за городом. И только теперь мне интересно узнать название каждого растения, каждого насекомого, каждой мелочи, которую рождает земля. Только теперь я стал жалеть, что не умею рисовать. Может быть, это всего лишь попытка отсрочить неминуемый конец? А может, я вдруг стал понимать, что так и не успел познать истинной красоты?
Мы вошли в третье тысячелетие. Если многие рады тому, что вышли из второго, то я сожалею о тысячелетии, которое только что подошло к концу и которое видело рождение важнейших открытий, величайших изобретений. Мне кажется, что наступает эра, в которой каждый будет жить только для себя, эра отсутствия дружелюбия, бесстыдства и вульгарности. Теперь нет никаких табу, время стоит дорого, в то время как человеческая жизнь, похоже, ценится не дороже пули от револьвера «магнум 375».
Время бежит так быстро, словно колесницу моей жизни вдруг понесло, а я, опираясь на свой возраст, все пытаюсь замедлить ее бег. И чем дальше уплывает плот моего детства, тем большее желание я испытываю быть рядом с близкими – с семьей, друзьями. Мне всегда хочется сказать им «до скорой встречи», потому что однажды наступит день, когда один из нас с грустью скажет: «Как жаль, что мы не виделись чаще».
Сегодня я думаю о тех, кого знал, с кем был рядом, кого любил в молодые годы, и невольно испытываю чувство сожаления, смешанное с угрызениями совести. Озабоченный больше тем, как накормить своих птенцов и наверстать упущенные в юности возможности, я забыл вернуться туда, где проходило мое детство, и поинтересоваться тем, как живут Мина и Пьеро Приоры. Я до сих пор не знаю, что с ними стало и как они умерли. Я вспоминаю о нашей труппе, о Бруно, Джеки, Тонни Гидише и многих других… Полвека спустя я решил посетить деревню Кинзон в Альпах Верхнего Прованса, в которой ничто не изменилось. Там я встретился с Пальмирой, она была супругой мэра и одно время – первой дамой здешних мест. С приходом армии Освобождения я увидел вернувшегося из Англии Гарри Скенлона, примерного английского ребенка, которому во время войны удалось добраться до Лондона, записаться там в добровольные войска и вместе с ними участвовать в образцово – показательной войне. А остальные, все остальные, кто мог бы разыскать меня, учитывая мою известность, оказались слишком скромны и так и не сделали этого. Какая жалость! Я постоянно вспоминаю обо всех друзьях, с которыми у нас было общее детство, общие волнения и радости. Мысленно представляю себе, как мы катим в сторону юга: дядюшка Приор, ведущий «рено» с правым рулем, слева от него Мина, а вся детвора теснится на заднем сиденье. Как сейчас слышу истерические крики Мины, когда ее муж – певец, по тем временам просто сумасшедший гонщик, разгоняется почти до пятидесяти километров в час: «Пьеро, ты хочешь нашей смерти! Пьеро, помедленнее! Ах, Пьеро, мое сердце…» Интересно, у нее действительно были проблемы с сердцем или она каждый раз разыгрывала спектакль?
Жорж Гарварянц, муж моей сестры, мой самый великолепный коллега и просто друг, перенес сложнейшую операцию на сосудах. Он работал с излишним рвением, ночи напролет не спал, приклеившись к фортепьяно и оркестровкам, чтобы не задержать выход фильма или запись песни, пил слишком много кофе, слишком много курил. Промучившись после операции в реабилитационных центрах Гарша и Йера, подарив мне напоследок чудесную мелодию, на которую я написал песню «Твое милое лицо», он покинул нас, так же как Эдит, Амалия, Далида, Тьери ле Люрон и многие другие, оставив после себя пустоту, которую невозможно восполнить. Два последних сезона я открывал без него, репетиции и выступления прошли без его поддержки, его веселого участия. Затем наступил черед мадам Бретон. В соответствии с ее пожеланием я и мой друг Жерар Даву выкупили музыкальное издательство Рауля Бретона, владеющее многими шедеврами французского шансона, созданными в основном Жаном Ноэном, а также Шарлем Трене и Мирей – к великой радости Шарля Трене. Но и он подвел нас, скончавшись незадолго до Пьера Роша. День за днем ностальгия все больше сжимает сердце.
Мой день рождения
22 мая 2001 года мне посчастливилось перейти в новое тысячелетие. Семьдесят семь лет – я выиграл уже два сета, как говорят в теннисе. Зачем праздновать их, если еще один прожитый год означает, что тебе осталось жить на год меньше? Жизнь постепенно, год за годом, день за днем сходит на нет, неумолимо подталкивая меня к оборотной стороне существования. Глядя на свои руки, с недавних пор замечаю на них коричневые пятна. Мои волосы, вернее, то, что от них осталось, потеряли свой естественный цвет, а лицо испещрено морщинами. Многие из моих товарищей прибегли к недолговечной помощи кудесников – косметологов. Я мог бы поступить так же, но только зачем? То, что остается за разрушенным, несколько обрюзгшим фасадом, все равно уже не изменишь, семьдесят семь ударов пробило, и ничто не вернет мне ловкости и живости моих двадцати лет. Тогда зачем? Чтобы обмануть самого себя или доказать публике, что я сохранил вечную молодость? Следя за мной в течение десятилетий, она видела, как я менялся, как время обтесывало меня, она ко мне привыкла, как и я сам привык к себе. Делать косметические операции? Одному богу известно, на что я могу стать похож: а вдруг получится этакий старый молодец, гладкий, как лакированный селезень, с крашеными волосами, отдающими синевой. Нет уж, спасибо, слишком мало для меня.
Чем дальше углубляюсь в жизнь,
Тем я яснее понимаю,
Что в легком ветерке безумств,
Я не заметил, как проходит время.
Пока я спал без задних ног,
Зарывшись в юности в постели,
Не глядя на часы среди утех,
Я не заметил, как проходит время.
Я не заметил, как оно бежит,
Не слышал я, как бьют часы,
Отсчитывая мои победы,
Пока я рвался напролом
К тому, что будущим считал,
Все будущее стало прошлым.
На тысячи вопросов, что мой ум
Так часто беспокоят,
Напрашивается лишь один ответ:
Я не заметил, как проходит время.
Может быть, у меня украли лет двадцать, а я и не заметил? Не заметил, как прошло это время. Когда я на сцене, мне кажется, что я моложе лет на двадцать – тридцать. Ай – ай – ай, мои пальцы, которые становятся похожи на виноградные лозы, так же как и глаза, которым вот уже двадцать лет как необходимы очки, напоминают о том, что не следует забываться. Итак, это мой день рождения, и, как в каждый день рождения, у меня спрашивают, что я ощущаю. Так вот, не ощущаю ничего особенного. Возможно, со мною не все в порядке. Большинство моих друзей впадают в некую депрессию всякий раз, когда им исполняется очередной десяток. Возможно, это связано с моим восточным происхождением. Жизнь есть жизнь, а смерть является ее частью, и с этим надо смириться! Сегодня у меня есть жена, дети, внуки, я очень хочу жить и видеть, как они рождаются и растут, но смерть больше не пугает меня. Она стала чем‑то само собой разумеющимся, о чем я часто говорю и над чем даже подшучиваю. Ведь, когда я бросаю взгляд на прожитые годы, вижу пройденный мною путь и оцениваю удачу, которая, несмотря ни на что, сопутствовала мне в жизни, то говорю себе, что чудеса существуют, и мысль о смерти утопает в улыбке.
Почему я стал тем, что я есть? Уверен, что нужен был голос, который напомнил бы людям, что армянский народ еще существует, несмотря на все, что он пережил и вынес – и геноцид, и предательство восточных стран, пожертвовавших кровью целого народа ради нефти, и несоблюдение Женевского и других международных договоров, и так называемое соблюдение государственных интересов. Порабощение маленькой обескровленной Армении Советким Союзом, землетрясение, проблемы Карабаха, блокада, навязанная Турцией. Я твердо убежден, что именно мой голос был избран для этого. Почему я, а не кто‑то другой? На этот вопрос может ответить только Господь Бог.








