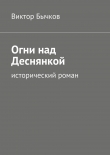Текст книги "О чем грустят кипарисы"
Автор книги: Шамиль Ракипов
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 20 страниц)
Ночь семьсот девятая
«Как все нормальные люди, буду спать ночью, поднимусь утром», – подумала я, забираясь в постель. Но долго лежала с открытыми глазами – поспала днём, часа полтора, видимо, перебила сон. Скучно без Лейлы.
На её подушке – письмо от Ахмета. Наверно, напишет ему из госпиталя, он сможет её навестить. Вместо Алупки – Ялта.
Мысленно пролетела над Крымом, от аэродрома к аэродрому, покружила над Золотой балкой, которая представилась мне сплошным виноградником… Открыла глаза – на кровати Лейлы сидит в ночной сорочке Валя, смотрит на меня, словно ждёт, когда я проснусь.
– Я тебя не разбудила? – тихо спросила она.
– Нет. Почему не спишь?
– Какой может быть сон, когда я умираю. От любви!
– От любви не умирают.
– Он дал мне адрес. Просил прислать фотокарточку. Ой, умора, говорит, до сегодняшнего дня думал, что в нашем полку – крепкие» пожилые женщины, которые прошли огонь, воду и медные трубы, с папиросами в зубах и грубыми, сиплыми голосами. А оказалось… Все такие интересные, скромные и так далее. Он техник эскадрильи. Окончил лётную школу, но по пути на фронт их эшелон попал под бомбёжку. Все выбежали из вагонов, бросились в кусты, в крапиву, говорит, никогда не думал, что люди могут так поддаваться животному страху. Осколок пробил ему лёгкое, а друга его убило. Он из Белоруссии, родители в оккупации ничего о них не знает. Жалеет, что не познакомились раньше. Проводил меня, стали прощаться, думаю, поцелует или нет, руку не выпускает, тянет меня к себе. Я, конечно, упираюсь, мамочка моя, ведь я ни разу ещё не целовалась, щёчку ему подставила, думаю, вдруг увидят, умереть можно. Не помню, как здесь очутилась.
Когда танцевали, спросил: что же будем делать с ревнивым мужем, кто он такой, из какого полка, часто ли мы встречаемся. Говорю, полковник, чуть не каждый вечер провожает меня на задания, спохватилась, думаю, идиотка, захлопнула рот, молчу, как последняя дура. А он: что же ты танцуешь с каким-то младшим лейтенантом? Молчу, только вздохнула. Он улыбнулся, говорит, пошли к чёрту своего ревнивого полковника, выходи за меня замуж. Говорю, я пошутила, а замуж, пока не кончится война, выходить не собираюсь… Ты не спишь?
– Нет.
– Тебе неинтересно меня слушать?
– Что ты, очень интересно. Игорь твой мне понравился.
– Да? По-моему, он хороший, просто чудесный парень, такой искренний. Месяц в одной дивизии и ни разу не встретились. Если бы не концерт… Вдруг завтра утром: по машинам! Курс – на Белоруссию. И всё.
– Почему – всё?
– Ну как же, война. Это был самый счастливый вечер в моей жизни. Почему он меня, такую замухрышку, выбрал, удивительно.
– Ты была ослепительна, Валюша. Все тобой любовались, не он один.
– Ну, ты скажешь… Магуба-джан, пойдём погуляем? Такая ночь, звёзды…
– Иди погуляй. Я ещё посплю. Устала.
Валя быстро оделась, бесшумно выпорхнула из комнаты. На душе у меня было легко, к этому времени я уже пересмотрела свою точку зрения на сердечные дела в военное время и уснула спокойно.
Ночь семьсот десятая
Первая мысль, которая пришла в голову, когда я проснулась: свобода! Только мы с Валей лежали в постелях. Девушки уже поднялись – стирали, гладили, строчили письма.
– Поднимайтесь, лежебоки!
– Позавтракаем и – к морю.
На прогулку собрался чуть ли не весь полк.
– Сыртланова, срочно на КП! – раздался голос адъютанта Командира полка.
«Вот и кончилась свобода», – усмехнулась я про себя. Подругам сказала:
– Не ждите меня. Догоню.
Бершанская внимательно посмотрела на меня, спросила ласково:
– Ты не очень устала?
– Готова выполнить любое задание, товарищ майор!
– Получен приказ: послезавтра утром вылетаем в Белоруссию. Бери самолёт, предписание, отправляйся в Ялту за Сапфировой.
– Есть лететь в Ялту за Сапфировой, – радостно отчеканила я. – Доставлю живую или мёртвую!
– Лучше живую, – улыбнулась Евдокия Давыдовна.
Через пятнадцать минут я вылетела в Ялту.
Море, жемчужно-голубое, тихое, сливалось с безоблачным, золотистым небом. Легко дышалось, гляделось, никакого напряжения, душа отдыхала.
Севастополь… Руины расцвечены бельём, одеялами. Дымятся костры. В бухтах – полузатопленные катера, баржи, транспорты. На аэродроме – те же разбитые самолёты. По всему берегу – группы людей, в город возвращались его хозяева, – моряки.
По Балаклавскому шоссе, вздымая пыль, медленно движутся колонны военнопленных.
«Рады, конечно, что остались живы, выползли из ада на свет божий, – подумала я, накреняя самолёт. – Повезло этим людям, после войны вернутся на родину».
Идут, опустив головы. Выбрать бы одного, рядового солдата, среднего возраста, спросить: «О чём думаешь?» Видел Тельмана, Гитлера, слушал их на митингах, сравнивал. Знал, что путь Тельмана – это мир, честный труд, дружба с Советским Союзом. Путь Гитлера – война, разбой, захват чужих земель. За спиной Тельмана – Маркс и Энгельс, Гёте и Бетховен, за спиной Гитлера – Крупп, Мессершмитт, военщина.
До прихода Гитлера к власти Тельман был кандидатом в президенты, депутатом рейхстага, за него голосовали миллионы немцев. На чьей стороне ты был тогда, будущий рядовой преступной армии? Просто ждал – кто кого? Дождался, получил в руки «Памятку немецкого солдата», в которой чёрным по белому написано:
«У тебя нет сердца и нервов. Уничтожь в себе жалость и сострадание – убивай всякого русского, советского, не останавливайся, если перед тобой старик или женщина, девочка или мальчик, – убивай…»
Неужели не содрогнулось твоё сердце, не заскрипели нервы – ведь они у тебя ещё были? Добровольно отказаться от лучшего, что подарили тебе природа, и стать античеловеком, чудовищем – неужели ты пошёл на это без душевной борьбы, без раздумий? Так с ходу и поверил: немецкие мальчики и девочки хорошие, а русские, советские, – плохие, настолько плохие, что их надо, не раздумывая, убивать? Не приходила в голову мысль о возмездии, о том, что тебя и твою страну Гитлер и его компания толкают к пропасти? Фюрер, Геринг, Геббельс – аморальные люди, казались тебе идеальными представителями высшей арийской расы?
Наступило прозрение в херсонесских траншеях или нет? Пожалуй, наступило. Наверно, сейчас твердишь про себя с надеждой, как молитву:
«Гитлеры приходят и уходят, а народ германский, а государство германское – остаются. Поскорее бы эти русские, советские доконали фашистскую сволочь и отпустили меня домой, к жене и детям, я буду честно трудиться на своей земле, никаких войн, прощай оружие. Аминь».
Фашисты бросили Тельмана в тюрьму в 1933 году, как только пришли к власти. Ходят слухи, что он жив. Конечно, фашисты на свободу его не выпустят, замучают. Но останутся его соратники, единомышленники, всех замучить эти изверги не смогут, останутся миллионы немцев, которые скоро поймут, что людей без сердца и нервов не должно быть и не будет на Земле.
Идут, колонна за колонной, думают свою главную думу – о завтрашнем дне, о новой Германии… Посмотрим, до чего додумаются.
При свете дня я вволю нагляделась на Крымские горы. Какая радуга: на голубом фоне в лучах солнца сияют вершины Аи-Петри и Роман-Коша, покрытые снегами, под ними – изумрудная зелень высокогорных лугов, ещё ниже – жёлтые клубы кизила, тёмные крымские сосны и – море. А вдали – тяжёлая, таинственная, тёмно-синяя громада, увенчанная, как тюрбаном, багряным облаком.
– То Чатыр-Даг был, – прошептала я, глянув на карту.
Ялта. Город сильно разрушен, но каким-то чудом некоторые здания сохранились. В маленькой гавани теснятся сейнеры, катера. На узких улицах, сбегающих с – гор, жители расчищают завалы. Спрашиваю у пожилой женщины, где находится нужный мне госпиталь.
– В Ливадии, в бывшем царском дворце, – ответила она. – Три километра придётся пройти пешком. Впервые у нас?
– Да. Только пролетала над городом, ночью.
– Ведьма? – улыбнулась женщина.
– Ага. Хорошо, что хоть эти дома сохранились.
– Немцы всё заминировали, но взорвать не успели. Спасибо лесным матросам, партизанам. Если бы не они, остались бы от Ялты одни камешки. Свалились, как снег на голову, с гор, немцы и драпанули…
Любуясь морем, иду вдоль берега. Бот и Ливадия, бывшее царское поместье, огромный белокаменный дворец с колоннами. Лейлу мне искать не пришлось: я увидела её и Ахмета на берегу, они стояли рядом, позируя моряку с фотоаппаратом. Оба – в больничной одежде. Заметив меня, она, слегка прихрамывая, кинулась навстречу. Пока обнимались, целовались, я успела сказать главное: прилетела за тобой, послезавтра полк отправляют в Белоруссию. А она твердила, как заведённая:
– Я так и знала! Я так и знала!..
Фотограф кружил вокруг нас, как коршун, и щёлкал аппаратом. Подошёл, приложил руку к груди:
– Саша, корреспондент газеты «Красный флот». – Вскинул мой рюкзак, набитый гостинцами, на плечо. – Куда прикажете? Можете называть меня: мой мичман.
Я вопросительно посмотрела на Лейлу.
– Иди к главном врачу, – озабоченно сказала она. – Не будем терять времени. Он меня не отпускает!
– Правильно делает, – заявил Ахмет, крепко пожимая мне руку.
– Так, всё ясно, заговор, – рассмеялась я. – Ты опять ранен? Третий раз, если не ошибаюсь?
– Ошибаешься, – сказала Лейла. – Пятый. Вынужденная посадка, сломал три ребра.
– Пустяки, – Ахмет махнул рукой. – Мы тебя тут подождём. Кабинет главного на первом этаже.
– Я вас провожу, – предложил Саша. – Он сейчас у себя. Диктатор, Павел Тимофеевич, чудесный старик.
«Диктатор» оказался худеньким, сутулым старичком с белой бородкой и умными, лукаво прищуренными глазами. Выслушав меня, сказал сердито:
– Не отпущу. Санфирова останется здесь до конца войны, понятно?
– Вы шутите?
– Будет работать в госпитале медсестрой. После войны поступит в мой институт.
– Это невозможно, – я никак не могла понять, шутит он или говорит серьёзно. – Она здесь зачахнет, умрёт.
– И вы оставайтесь, – моих возражений он словно не слышал. – Повоевали и хватит. Мужички за вас довоюют.
– Вы уверены, что довоюют? – Я начала злиться. – Глубоко ошибаетесь. Хотелось бы вылететь сегодня. В крайнем случае – завтра утром.
– Значит, по-хорошему не хотите. – Диктатор закурил папиросу. – Думал сохранить ногу Санфировой, ничего не поделаешь, придётся ампутировать.
Я облегчённо рассмеялась.
– Ампутируйте, только поскорее.
– Хорошо, постараюсь. Надо бы ей побыть у нас еще недельку. Пусть оставит расписку, что никаких претензий к госпиталю у неё не будет. Выпишем завтра в десять ноль-ноль.
– Спасибо. Между прочим, наш полк уничтожил, кроме всего прочего, не одну тысячу гитлеровцев. Если бы не мы, раненых в вашем госпитале было бы побольше. А там, на полях сражений, – убитых.
– Неубедительный довод. Остаюсь при своём мнении…
С таким мнением – женщинам, мол, не место в воинских частях – я, как и Марина Раскова в своё время, сталкивалась не раз. После войны поинтересовалась, сколько женщин и девушек было на фронте. Оказалось – восемьсот тысяч! Нашлось место.
Мой мичман ждал меня в коридоре. Глянул мне в глаза.
– Улетаем завтра утром.
– Я так и знал! – воскликнул он, удивительно точно воспроизведя интонацию Лейлы. – Для Ахмета – удар. Я здесь со вчерашнего дня, пишу очерк о лесных матросах. Познакомился с вашими друзьями, удивительно милые люди. Про женский полк слышал, кое-что читал, но с военными лётчицами встречаюсь впервые. У меня о них было совсем другое представление.
– Знаю. Превратное.
– Конечно. Куда вас перебрасывают?
– На вершину Ай-Петри.
– Хорошее место, – рассмеялся он. – Сверху видно всё…
В укромном месте на берегу моря мы устроили маленький пир, выпили бутылку «Муската» из царских погребов, которую я привезла с собой. Ахмет не подавал виду, что расстроен. А Лейла была просто счастлива.
– У меня крошечная, но отдельная палата, – сказала она. – Поместимся. Хочешь, устроишься на полу, хочешь, на кровати.
– Нет, я буду ночевать на аэродроме, – возразила я. – Боюсь вашего диктатора.
– И слышать не хочу. Будешь спать в моей палате, – настаивала Лейла. – Ты ещё не рассказала, как вы там без меня жили, как воевали.
– Ещё расскажу. Ночевать в госпитале ни за что не соглашусь, не уговаривай. Внесут на носилках, никуда не денешься, но чтобы добровольно… Придумала тоже. Твоя палата – номер шесть? Угадала?
Все рассмеялись.
– Угадала, сдаюсь, – Лейла махнула рукой. – Приходи завтра пораньше.
Саша предложил мне осмотреть город, я с удовольствием согласилась. Подумала: «Ахмет и Лейла расстаются надолго, может быть, навсегда, пусть побудут вдвоём. Всё-таки судьба подарила им встречу».
Мой мичман очень хорошо знал Ялту, я поинтересовалась:
– Бывали здесь до войны?
– Много раз. Когда-нибудь напишу о здешних подпольщиках. Террор, голод, а люди боролись, совершали подвиги. Вот на этой стене при немцах висела витрина.
– Сверху надпись: «Ялтинская городская управа извещает жителей города». Под этой надписью вывешивались приказы коменданта, объявления. Однажды в декабре 1941 года, как обычно, один лист бумаги был заменён другим. О чём извещались жители? Заголовок, крупными буквами: «О разгроме немецко-фашистских войск под Москвой». И – полный текст сообщения Совинформбюро.
– Представляю, как бесновались немцы.
– Видите в саду белое здание с верандой? Дом-музей Чехова. Сад посадил сам Антон Павлович. Здесь его навещали Горький, Бунин, Куприн, Шаляпин, артисты Художественного театра. Директор музея – Мария Павловна, сестра Чехова, ей 80 лет. Сумела сохранить дом, великое ей спасибо…
Мы вошли, я познакомилась с очень приветливой, интеллигентной хозяйкой. Осмотрели гостиную, кабинет. Хотелось о многом расспросить Марию Павловну, но я не смогла преодолеть свою робость.
Молча посидели на скамейке в саду. Потом, не сговариваясь, направились к морю.
– Расскажите о себе, – неожиданно предложил Саша.
– Вы думаете, это так просто? – удивлённо посмотрела я. – И зачем?
– Напишу очерк «В небе – Магуба Сыртланова». Сколько у вас боевых вылетов?
– Это военная тайна. Не смешите меня.
– Я говорю совершенно серьёзно.
– Значит, я расскажу, вы напишете, очерк появится в газете… Вы представляете, что обо мне подумают в полку? Прилетела в Ялту, воспользовалась случаем, наболтала корреспонденту: вот я какая, Сыртланова! Как я подругам в глаза глядеть буду?
– А вы и о них расскажите.
– Не имею права. Корреспондент удивился:
– Кто же запретил вам рассказывать о подругах?
– Я сама себе запретила, – твёрдо заявила я.
– Почему? Женский гвардейский авиационный полк в боях за Крым – это страница истории. О вас ходят легенды.
– Пусть ходят. Если я расскажу, например, о Санфировой, знаете, что будет? Кончится наша дружба.
– Но ведь в армейской газете о вашем полку писали. Сам читал: «Так воюют девушки!»
– С корреспондентами беседовала Рачкевич, заместитель командира полка по политической части.
Саша не отступал:
– Хорошо, даю вам слово, что ничего писать не буду. Расскажите для начала о своём первом боевом вылете. Что ему скажешь?
– Испугалась, – говорю, – до смерти, когда обстреляли. Так что ничего интересного.
– Ну тогда – о погибших подругах, о Жене Рудневой. Вы с ней летали?
– Не могу.
– Почему?
– Наверное, не пришло время. Не утихла боль. Может быть, расскажу после войны, наберитесь терпения.
Саша демонстративно промолчал, и так как я ничего не говорила, уныло сказал:
– Не везёт мне в Ялте. Тут в госпитале есть один моряк, с «Червоной Украины». Участвовал в обороне Севастополя с первого до последнего дня, даже до последнего часа. Был в группе прикрытия. Немцы оттеснили их на мыс. Херсонес. Эвакуироваться не смогли. Прорывались группами и поодиночке в горы. Удалось это немногим. Считается, бои за Севастополь закончились 3-го июля 1942 года, а эти орлы 12-го июля ещё держались. Расскажи, говорю, как было дело, для истории важно, а он рычит: ближе чем на пять метров не подходи. Злой, как чёрт. Партизанил, освобождал Ялту, здесь его и зацепило осколком. Дружки пошли штурмовать Севастополь, а он попал в госпиталь. Глядит зверем, как будто я его ранил.
– А что за ранение?
– Правая рука в гипсе.
– Остынет, побеседуете.
– Он остынет, когда умрёт! – усмехнулся Саша.
– Сочувствую вам, – я тоже чуть не рассмеялась.
– А сами…
– Но, мой мичман, я на вас не рычу, идём рядышком.
– Утешили.
– Давайте поменяемся ролями. Вы о себе расскажите. И о людях, с которыми сводила вас судьба.
Он охотно согласился – так мне показалось. Во всяком случае, упрашивать или ждать не заставил.
– Хорошо, подам пример, – сказал оживлённо. – Мне 23 года. Холост. Выполняю задания редакции. О себе больше нечего, всё. О людях…
– Не всё, – перебила я его. – За что вас наградили? На груди моего мичмана – медаль «За отвагу».
– За репортажи из Севастополя.
– А говорите – всё.
Больше он не стал распространяться, а в свою очередь спросил:
– Вы слышали о снайпере Людмиле Павличенко?
– Слышала, но очень мало. Вы её встречали?
– Да. Разговаривал с ней один раз. Обаятельная девушка, умница. До войны окончила педагогический институт, по специальности историк. Работала в Одесской научной библиотеке и занималась в снайперской школе. Добровольно пошла на фронт. В боях под Одессой уничтожила около 300 гитлеровцев. Представляете? В Севастополе лучшие снайперы 11-й немецкой армии устроили на неё охоту. Манштейн обещал щедрую награду тому, кто уничтожит девушку, не знающую промаха. Но дуэли заканчивались не в пользу немцев. Снайперов у них поубавилось.
Одна дуэль затянулась. Немец занимает позицию. Людмила тоже. Высматривают друг друга с рассвета до позднего вечера, выжидают, по другим целям огня не ведут. Декабрьской ночью Людмила пробралась на минное поле, укрылась в окопчике под сухими ветками.
Лежит, не шелохнётся. Утром фашистский снайпер её обнаружил, выстрелил. Пуля пробила шапку Людмилы. Теперь она знала, где укрылся враг – за расщеплённым деревом.
Исхода дуэли ждали и мы, и немцы. Десятки биноклей с обеих сторон обшаривали каждый кустик, каждый бугорок. О том, что немецкий снайпер промахнулся, знала только Людмила. Прошёл час, другой – никакого движения. Наступила ночь. Светила луна, вспыхивали и гасли ракеты. Мучительно медленно тянулось время. Двадцать пять часов Людмила не спускала глаз с убежища фашистского снайпера. И он не выдержал. Видимо, решил, что выстрел был точным, стал отползать. И она его кокнула. Немцы сразу открыли бешеный огонь из пулемётов, миномётов, орудий. Наши артиллеристы ответили. Под прикрытием огненного вала Людмила добралась до первого окопа…
– Молодец! – восхищённо воскликнула я. – Она жива?
– Жива-здорова.
Я в дальнейшем интересовалась судьбой этой удивительной девушки. Позднее узнала, что в 1944 году, ещё до открытия второго фронта, она в составе советской молодёжной делегации побывали в Соединённых Штатах Америки. Хозяева познакомили её с автомобильным королём Фордом. Людмила предложила организовать митинг на одном из его заводов. Это означало – остановить конвейер. Форд сначала не соглашался. Организаторы встречи оказались в неловком положении: ведь русская девушка, красавица в офицерской форме, героиня, пересекла океан не ради того, чтобы просто знакомиться с американскими миллиардерами. Форду пришлось уступить, он согласился остановить конвейер… на три минуты. «Это много! – с улыбкой сказала Людмила Павличенко. – Хватит одной минуты».
Рабочие соорудили из ящиков трибуну, гостья поднялась на неё, и когда наступила тишина, произнесла очень короткую, но поистине снайперскую речь: «Американские парни! До каких пор вы будете прятаться за юбки русских девушек?..»
– О защитниках Севастополя можно рассказывать без конца, – продолжал Саша. – Седьмого ноября 1941 года, когда в Москве на Красной площади проходил военный парад, пять моряков, вооружённые пулемётом, противотанковыми гранатами и бутылками с горючей смесью, заняли позицию в районе посёлка Дуванкой на шоссе, ведущем к Севастополю. Рыть окопы времени не было, расположились в кюветах. Слева и справа – высокие холмы. По шоссе двигались семь вражеских танков. Короткий бой – три машины охвачены пламенем, остальные отошли назад.
Вторая атака гитлеровцев, на шоссе – 15 танков. Пулемётчик Василий Цибулько стрелял, как снайпер, – точной очередью по смотровой щели остановил головной танк. Под гусеницу второго швырнул связку гранат. Два танка поджёг Иван Краснопольский, но упал сам, сражённый пулемётной очередью. Цибулько был ранен, в руке – последняя связка гранат. Пошёл на сближение с танком… Взрыв. Друзья видели, как отважный пулемётчик упал.
Теперь путь вражеской колонне преграждали трое: политрук Николай Фильченков, его товарищи Юрий Паршин и Даниил Одинцов. Почти в полный рост они пошли навстречу танкам – в свою последнюю атаку. На матросских ремнях – гранаты. И в руке у каждого – граната с выдернутой чекой. Бросились под танки, один за другим. Пятеро героев уничтожили одиннадцать танков. Враг не прошёл. Когда к месту боя прибыл батальон морской пехоты, Василий Цибулько был ещё жив. Словно ждал своих, чтобы рассказать о подвиге товарищей. Рассказал и умер.
«Богатыри, – подумала я. – Манштейн мог бы сообразить, что ожидает его армию»…
– А как сражались лётчики-черноморцы!.. – Мой рассказчик заводил разговор о людях особенно близкой мне военной профессии. И это вызвало у меня повышенный интерес.
– Только два гвардейских авиационных полка, 5-й и 6-й, – сказал далее Саша, – с июня 1941-го по апрель 1942 года уничтожили более 10 тысяч гитлеровцев, более 100 танков, 140 орудий, взорвали десять складов, подожгли два нефтезавода, потопили 11 транспортных судов с войсками и техникой. Бич божий!
– Здорово поработали, – восхитилась я.
Волны шумно накатывали на берег. Я остановилась, любуясь прибоем, попросила:
– Расскажите ещё о морских лётчиках. Саша кивнул головой.
– Мне довелось видеть много воздушных схваток. Однажды четвёрка наших истребителей вступила в бой с двенадцатью «Мессершмиттами». Прошло несколько минут – на земле горят четыре «мессера», остальные скрылись в облаках. Один из наших лётчиков, Павел Закорко, совершил вынужденную посадку на вражеской территории. Командир звена лейтенант Виктор Куликов вернулся на аэродром, пересел в «По-2» и отправился выручать товарища. Разыскал подбитый самолёт, приземлился рядом. Через час оба лётчика были на родном аэродроме.
– Бальзам на моё сердце, – улыбнулась я.
Саша, довольный, что наконец-то обрадовал меня, стал рассказывать и о других подобных случаях:
– Лётчик-истребитель Яков Иванов, – продолжал он, – 12-го ноября 1941 года израсходовал в воздушном бою боезапас и решил таранить немецкий бомбардировщик, который прорвался к Севастополю. Ударил лопастями «МиГа» по хвостовому оперению «Хейнкеля-111», сбил его и благополучно приземлился на своём аэродроме.
Спустя четыре дня Яков Иванов совершил второй таран. Атакованный им бомбардировщик «Дорнье-215» развалился на куски, а сам Иванов погиб – удар был слишком сильный. Ему, первому на Черноморском флоте, было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза…
Я слушаю молча: о многом Саше известно. Да, война есть война. Тут всегда сражения и гибель… Никуда от этого не деться. Саше как корреспонденту везде приходится бывать и, о многом он, конечно, слышал. Заторопился, стал говорить быстрее:
– В марте 1942 года два наших «Ила» возвращались с задания. Один повреждён, дотянуть до ничейной полосы не удалось. Приземлился рядом с вражеской траншеей. Лётчик, капитан Талалаев, выскочил из кабины и побежал к ничейной полосе. Его ведомый, старший лейтенант Евгений Лобанов, развернулся, чтобы прикрыть огнём командира. Немцы, выскочив из траншеи, бросились за капитаном, хотели взять живым. Лобанов на бреющем полёте пролетел вдоль ничейной полосы, поливая гитлеровцев огнём из пулемётов. Талалаев добежал до нашего окопа… За спасение жизни командира Евгению Лобанову посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза…
Солнце скрылось за горными вершинами, мы направились к аэродрому.
Между прочим, лётчики Черноморского флота едва не отправили на тот свет самого Манштейна. Вот что пишет он в своих «Утерянных победах»:
«Я совершал поездку вдоль южного берега до Балаклавы на итальянском торпедном катере. На обратном пути у самой Ялты… на наш катер обрушились два истребителя. Так как они налетели на нас со стороны слепящего солнца, мы не заметили их… За несколько секунд из 16 человек, находящихся на борту, 7 было убито и ранено. Катер загорелся. Это была печальная поездка. Был убит итальянский унтер-офицер… Погиб также и начальник ялтинского порта капитан 1 ранга фон Бредов. У моих ног лежал мой самый верный боевой товарищ, мой водитель Фриц Нагаль, тяжело раненный в бедро. Ночью эта молодая жизнь погасла…»
Жаль, что лётчики-черноморцы не сделали второго захода и не погасили жизнь кровавого фельдмаршала – как выяснилось позднее, у них было другое задание, катер они атаковали попутно, не хотели задерживаться, расходовать боеприпасы. Эриху фон Манштейну повезло, как никогда, – отделался испугом. Его скорбь по погибшим спутникам, конечно, наигранна, но можно поверить, что «самым верным боевым товарищем» генерала-фельдмаршала был юный Фриц, личный шофёр: армия, знающая подлинную цену «утраченным победам», по-видимому, ненавидела и презирала своего командующего.
Восход солнца я встретила на скамейке у госпиталя. Мне очень хотелось ещё до отлёта посекретничать с Лейлой, узнать, как складываются у неё отношения с Ахметом. В кармане моей гимнастёрки лежало его письмо, про которое я вчера забыла.
На крыльцо вышел раненый, невысокого роста, худой, с тёмно-коричневым от загара лицом. Он неторопливо спустился по ступенькам и направился ко мне. Правая рука забинтована, на перевязи.
«Наверно, тот самый моряк, о котором говорил Саша, – почему-то подумала я, с любопытством глядя на незнакомца. – Что ему надо?»
Не обращая на меня внимания, он сел на противоположный край скамьи, выложил из кармана кисет, короткую трубку, спички. Я подумала, что он рассчитывает на мою помощь, но ошиблась. Одной руки ему вполне хватило, чтобы развязать кисет, набить трубку табаком, зажечь спичку. Даже двумя руками невозможно проделать эти операции быстрее.
На коротких, почти чёрных пальцах раненого не было ногтей. «Наверно, побывал в гестапо, – с ужасом подумала я. – Его пытали».
Заметив мой взгляд, он буркнул:
– Сам ободрал. Нечаянно.
Я хотела встать и уйти, но раненый ошеломил меня неожиданным вопросом:
– За Лейлой?
– Да, – растерянно ответила я.
– Сыртланова Магуба? Здравия желаю.
От удивления я не могла вымолвить ни слова, лишь кивнула в ответ на несколько запоздалое приветствие.
– Что глаза вытаращила? Ахмет мой приятель.
Я рассмеялась, в голове мелькнула мысль: «Ошиблась – лётчик».
– Хочу спросить кое о чём, – раненый, попыхивая трубкой, внимательно посмотрел на меня. – Извини, не представился: старшина второй статьи Семён Заруцкий.
– Лесной матрос?
– Так точно.
– С «Червоной Украины»?
Пришла очередь удивиться моему собеседнику.
– Ахмет, что ли, обрисовал меня?
– Не угадали.
– Ну, тогда Сашка, мичман, видел я тебя с ним вчера. Жаловался, небось. Неплохой парень, только охламон, героя из меня собирался сделать, я его и шугнул.
– О чём бы хотели спросить у меня?
– О Севастополе. Как проходил штурм, как он теперь выглядит.
– Мы же ночные бомбардировщики. В Севастополе я не была, сверху мало что разглядишь.
Старшина помрачнел, мне стало неловко перед ним. «Расскажу, что видела и слышала», – решила я.
И рассказала. Старшина слушал, прищурив глаза, забыв про трубку. Когда я умолкла, задал несколько вопросов, особенно его интересовал почему-то Херсонесский аэродром.
«Наверно, о штурме города ему уже рассказывали, – подумала я, – а о Херсонесе впервые слышит от меня».
– Обидно, – коротко вздохнув, сказал старшина и постучал трубкой по забинтованной руке.
– Ваша очередь рассказывать, – я набралась храбрости, придвинулась поближе. – Вы были в группе прикрытия… Не хмурьтесь, мичману ничего не скажу. У меня в полку подруга, выросла в Крыму, будущая учительница, очень интересуется обороной Севастополя. Вы мне расскажете, я ей, она детям.
– Детям нельзя, заиками станут, – глухим голосом сказал старшина, выколотил трубку и снова набил табаком. – Самосад. Некурящая?
Я отрицательно покачала головой.
– Расскажу, ничего не поделаешь, долг платежом красен. Последние дни, мыс Херсонес… Это была агония. Группа прикрытия – можно, конечно, сказать и так. Только, кроме нас и немцев, на мысу никого не было. Мы прикрывали Чёрное море.
– Родину, – тихо добавила я.
– Родину, – как эхо, повторил старшина. – Но прикрывать-то было нечем. Боеприпасов осталось всего – ничего. Нашими частями командовал генерал-майор Пётр Георгиевич Новиков. Держались трое суток, до последнего снаряда. В последние контратаки ходили с камнями в руках. Те, кто остался в живых, забились в норы, в расселины на склонах обрыва.
Меня, контуженного, затащили в небольшой грот. Собралось там человек тридцать, почти все раненые, чёрные, оборванные. На всю группу – с десяток «лимонок», два трофейных автомата, несколько винтовок и пистолетов. Командовал нами майор-артиллерист. Навёл порядок. Немцы сунулись, мы их огрели не столько огнём, сколько бранью – на сутки оставили нас в покое. Майор назначил двух заместителей, в нише устроил продовольственный склад.
Я оклемался, шарю в темноте – ни винтовки, ни гранаты, ни ножа. И сапога одного нет. Чёрт с ним, с сапогом, но остаться без оружия – последнее дело. Отвожу, значит, душу, майор на меня: «Молчать!» Зубами скриплю, он подошёл, спрашивает: «Больно? Нянька нужна? Думаешь, ты один тут раненый? Потерпи, милок, фельдшер скоро освободится, посмотрит, что у тебя». Не раненый я, говорю, воевать нечем. Он мне в ладонь суёт свой наган, учти, говорит, один патрон, занимай позицию у входа, стоять насмерть. На кой лях, говорю, мне наган с одним патроном, нож мой верните, на поясе был, а другое оружие я сам добуду. Нож нашёлся, я хотел сделать вылазку, но майор не разрешил – рассвет скоро.
Утром немцы начали рвать скалы над нами. Свод обрушился. Крики, грохот. Вход завалило. Тьма. Когда утихло, я подал голос: есть живые? «Я живой!» – отозвался один. В той же стороне – кашель. Не пойму, двое там или один. Спрашиваю: это ты кашлял? И у самого в горле першит, мочи нет, сам начал кашлять, слышу голос, а слов разобрать не могу, после контузии плохо слышу. Крикнул: кто живой, ко мне! Тот же голос отвечает: сам сюда двигай, мне ногу придавило.
Ползу, думаю: неужели всего двое в живых осталось? Добрался до придавленного, высвободил ему ногу, ощупал – плохо дело, кость раздроблена. Кто ты, спрашиваю, как звать? Стянул с себя тельняшку, перевязал товарищу ногу, что, спрашиваю, молчишь? Он что-то начал выкрикивать, не по-русски, я понял – бредит. Пошарил кругом – ни оружия, ни еды.