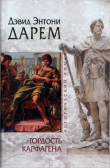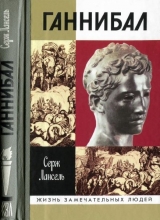
Текст книги "Ганнибал"
Автор книги: Серж Лансель
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 32 страниц)
Горькое поражение Антиоха (192–189 годы)
После эфесской встречи положение Ганнибала при дворе Антиоха заметно ухудшилось. Не зря так старательно увивался вокруг него Виллий! Ловкий прием римлянина сработал. Когда переговоры окончательно зашли в тупик, Антиох исключил Ганнибала из членов своего военного совета. Советники царя, в том числе уроженец Акарнании Александр, незадолго до того служивший в штабе Филиппа Македонского, всячески подталкивали Антиоха к войне, предлагая использовать Ганнибала для отвлекающего маневра в Африке (Тит Ливий, XXXV, 18, 8). Именно тогда между Антиохом и Ганнибалом, разъяренным и оскорбленным до глубины души тем, что его осмелились заподозрить в проримских симпатиях, хотя вся его жизнь неопровержимо доказывала обратное, и состоялась знаменательная беседа, во время которой он рассказал царю про свою детскую «клятву», принесенную Гамилькару. Как помнит читатель, ребенком он поклялся отцу, что никогда и ни при каких обстоятельствах не станет другом римлян. Судя по всему, после этой встречи царь вернул ему свое доверие, хотя непохоже, чтобы в его отношении к полководцу произошел качественный перелом.
Нам, конечно, чрезвычайно трудно установить, какие мысли занимали Антиоха в преддверии надвигавшейся войны с Римом. Отдельные специалисты видят в личности Антиоха человека, «склонного к колебаниям, утратившего выдержку перед необходимостью принятия серьезного решения, удрученного смертью сына и находившегося под сильным влиянием своих советников» (P. Pedech, 1964, р. 232).
Действительно, Антиох, этот продолжатель династии Селевкидов, более всего озабоченный тем, чтобы вновь не растерять с таким трудом отвоеванных завоеваний своих предков, являл собой полную противоположность типу авантюриста. Нельзя назвать его и игрушкой в руках обстоятельств. Он всегда преследовал вполне определенную цель: добиться, чтобы Рим не вмешивался в его дела и оставил за ним право распоряжаться в районе проливов. Для давления на римский сенат, в частности, на Фламинина, зимой 193/92 года совершившего вместе с тремя другими легатами большую поездку по Греции, он намеревался использовать этолийцев. Ранней весной 192 года состоялось собрание Этолийского союза, усилиями Фоанта принявшее документ (очевидно, заранее согласованный с сирийским царем), в котором содержался призыв к Селевкидам взять на себя роль освободителей Греции и выступить посредником в улаживании разногласий с Римом. Ясно, что Антиох задумал отплатить римлянам их же монетой: «Взяв на вооружение их же тактику, он по их примеру и им во вред стал проводить в жизнь проэллинскую политику. Стремясь надавить на Рим, он заявлял о своей готовности защищать малоазийских греков; стремясь надавить на малоазийских греков, он брал на себя заботу о греках европейских, в частности, об этолийцах» (М. Holleaux, 1957, р. 394). Но ему приходилось принимать в расчет и еще целый ряд обстоятельств. Летом 192 года Набис был уничтожен Филопеменом, который командовал войсками Ахейского союза, конфедерации пелопонесских греков, настроенных явно проримски [132]132
Набис – тиран Спарты. В 195 г. он был разбит Титом Фламинином и заключил союз с Римом, но нарушил его. Обстоятельства его гибели переданы не совсем точно. Набиса убили, причем убили из-за денег его же союзники, этолийцы. Но этим воспользовались давние враги Спарты ахейцы, которые захватили Спарту и присоединили к своей конфедерации.
[Закрыть]. Кроме того, Филипп Македонский, далекий от того, чтобы оказывать ему помощь, оставался верен союзу с Римом, заключенному после поражения при Киноскефалах. Антиох прекрасно понимал, что соотношение сил меняется очень быстро и отнюдь не в его пользу, а потому его собственная позиция по сравнению с позицией Рима может в ближайшее время серьезно ухудшиться (Е. Will, 1967, р. 171). Наконец этолийцам удалось завладеть фессалийской крепостью Деметриадой, со 196 года удерживаемой римлянами. Возможно, это событие подтолкнуло Антиоха к активным действиям. Так или иначе, но осенью 192 года он двинул в область Фессалии средних размеров войско, состоявшее из десяти тысяч пехотинцев, пятисот всадников и нескольких слонов.
Так, без формального объявления, фактически началась война, в которой Ганнибал так и не участвовал. Военный совет, принявший решение о вторжении в Фессалию, в конце концов отказался предоставить карфагенскому полководцу даже ту небольшую эскадру, которую ему первоначально обещали для проведения отвлекающей операции в Африке. «Благодарить» за унижение Ганнибалу следовало Фоанта, который упорно повторял Антиоху именно то, что тому больше всего хотелось слышать. Стоит сирийскому царю появиться в Греции, твердил ему этолиец, как все греки пойдут за ним, как пошли этолийцы. Уверенные речи Фоанта свидетельствовали лишь о том, что он очень плохо знал греков, существовавших хоть и разобщенно, но после Истмийских игр 196 года в большинстве своем смирившихся с дружбой, навязанной римлянами, а также о том, что он явно недооценивал значения Ахейского союза. Наконец, он совсем не знал римлян, которых успел прекрасно изучить Ганнибал, наверное, единственный из них, кто понимал: Рим, решивший все свои проблемы в Испании и частично решивший их в Цизальпинской Галлии, ни за что не оставит без ответа столь явный вызов себе, тем более что со стороны за развитием событий будет наблюдать нейтральный, но далеко не равнодушный зритель – Филипп Македонский.
Но Ганнибалу досталась роль если не простого зрителя, то, в лучшем случае, критика. Считая ошибочным весь стратегический план, он неодобрительно оценивал и главный тактический прием селевкидской армии – знаменитую македонскую фалангу, вступавшую в бой, ощерившись, словно еж иглами, шестиметровыми копьями-сариссами. При всей своей «непробиваемости» подобное построение отличалось статичностью и малой маневренностью. Как военный инструмент, македонская фаланга принадлежала прошлому, тогда как в настоящем – и Ганнибал с его 15-летним опытом сражений на полях Италии, Испании и Африки знал об этом лучше кого бы то ни было – использовалась совсем другая тактика, основанная на подвижности боевых соединений, на умении вклиниться в ряды противника, окружить его и взять в кольцо. Римляне, оказавшиеся достойными учениками карфагенского полководца, быстро освоили все эти приемы, которые с тех пор успешно использовали против самого «учителя». Сохранился анекдот, пересказанный Авлом Гелием («Аттические ночи», V, 5), известным любителем старины, который, к сожалению, не счел нужным указать источник, проливающий свет как на умонастроения Ганнибала, так и на его положение при дворе Антиоха. Как-то раз царь любезно пригласил своего гостя полюбоваться на учебные маневры своей армии, проходившие в чистом поле. Взору Ганнибала открылась действительно впечатляющая картина: огромное количество коней с сияющими на солнце золотыми и серебряными фалерами [133]133
Металлические бляхи, украшавшие сбрую лошади.
[Закрыть], богато отделанные колесницы, верблюды и азиатские слоны – гигантские животные, куда огромнее тех, что использовались в пунийской армии, тащившие на спине башни, в которых прятались лучники… Селевкид, конечно, спросил у Ганнибала, как, по его мнению, достаточно ли всего этого для римлян, на что карфагенянин с дерзкой насмешкой отвечал, что, на его взгляд, как бы жадны ни были римляне, но такой военной добычи хватит даже им. Конечно, оценивая ответ Ганнибала, необходимо делать скидку на глубокую обиду человека, которого лишили привычной ему роли командира. Все же армию Антиоха никак нельзя было назвать опереточной (В. Bar-Kochva, 1976, pp. 94-103).
Но и первые победы, одержанные Антиохом, в частности взятие крепости Халкида осенью 192 года и захват острова Евбея, не поколебали скепсиса Ганнибала относительно военной стратегии царя. Зимой 192/91 года в Деметриаде собрался военный совет, и Ганнибал, которого до той поры явно оттирали в сторону, держал на нем речь. Содержание последней известно нам лишь в изложении Тита Ливия (XXXVI, 7), которым мы и вынуждены довольствоваться за неимением соответствующего текста Полибия. Итак, карфагенский полководец дал реальную оценку успехам сирийского царя, по его мнению, весьма скромным. В самом деле, кроме этолийцев в его лагерь перешли только евбейцы и беотийцы – народы, не имевшие собственной армии, да и те, как подозревал Ганнибал, с легкостью переметнутся к римлянам, стоит им пригрозить оружием. Он по-прежнему считал, что необходимо применить задуманный им план, слегка изменив его ввиду новых обстоятельств. Первостепенное значение он придавал достижению господствующего положения на море и призывал Антиоха усилить боевую мощь экспедиционного корпуса, явно недостаточную даже для выполнения тех скромных задач, которые перед ним стояли. Затем следовало как можно скорее нарастить военный флот и часть его бросить к острову Коркира, дабы преградить римлянам путь на Адриатику. Еще одну эскадру пустить к южному побережью Италии, чтобы, обогнув Сицилию, она обрушилась на Рим с запада. Наконец, Антиох, собрав в кулак все свои сухопутные войска, сосредоточит их на правом берегу Аоя, в нижнем течении реки, и тем самым отрежет римлян от Греции, так как именно с северо-запада иллирийского побережья открывается лучшая дорога на Грецию (P. Cabanes, 1976, р. 281). Читатель, возможно, помнит, что именно в этом районе в конце 199 года Филипп Македонский также пытался перекрыть подходы к Греции вначале Виллию Таппулу, а затем Фламинину. Осуществление подобного плана требовало огромного напряжения сил, мобилизации всех ресурсов, в том числе подготовки флота, но главным образом – времени. Антиох на данном этапе не располагал ни тем ни другим. Вот почему у нас вызывает серьезные сомнения достоверность рассказа Тита Ливия. С какой стати Ганнибал стал бы читать Антиоху лекцию по ведению войны и излагать план столь же блестящий, сколь и неосуществимый, как, впрочем, и предшествующий ему план, якобы предложенный весной 193 года? Мы полагаем, что Тит Ливий, а вслед за ним и вся римская историография преследовали вполне определенную цель: любой ценой, даже греша против истины, доказать, что Ганнибал был и оставался для Рима врагом номер один.
Добавим также, что, если верить Титу Ливию, Ганнибал настойчиво уговаривал Антиоха заключить союз с Филиппом, действуя где дипломатией, а где и силой, например, пригрозить вторжением Селевка, сына Антиоха, во владения македонян со стороны Фракии, то есть из восточных пределов. Что и говорить, союз с Филиппом Антиоху ни в коем случае не повредил бы, но ведь и царь, и Ганнибал не могли не знать, что тот давно уже отказался от роли нейтрального наблюдателя. В ноябре 192 года в Иллирию на всякий случай вошло войско претора М. Бебия Тамфила. Но римский военачальник быстро успокоился, когда Филипп первым сообщил ему о вступлении армии Антиоха в Фессалию и пообещал свою помощь. И сделал он это вовсе не потому, что, как уверяет нас Тит Ливий (XXXVI, 8), он не мог простить Антиоху, что Селевкид с почетом похоронил македонских воинов, четырьмя годами раньше погибших в битве при Киноскефалах [134]134
Антиох сделал это, думая снискать расположение македонцев, но Филипп принял его поступок за утонченное издевательство и пришел в ярость.
[Закрыть]. Просто от союза с Римом он ничего не терял, зато выигрывал многое.
Так что для формального объявления войны Риму не хватало сущего пустяка – официального предлога. Но за ним дело не стало. Неизвестно, что тому виной – опрометчивость или трезвый расчет, но только в конце осени 192 года один из ближайших помощников Антиоха, человек по имени Менипп, напал на римский гарнизон, стоявший в Делии, небольшом беотийском городке близ Танагры, и перебил три сотни римских солдат. Конечно, в принципе им там находиться не следовало, ибо еще в конце 196 года Фламинин пообещал убрать с этих земель все свои гарнизоны. Однако зло свершилось. Вопрос об объявлении войны Антиоху прошел срочное обсуждение в народных комициях, получил одобрение сената и немедленно перешел в стадию активных действий. Подготовкой к войне вплотную занялся один из консулов 191 года – Маний Ацилий Глабрион, назначенный наместником Греции, «новый человек» и друг Сципиона, пользовавшийся его покровительством с 201 года, когда он, в ту пору народный трибун, при поддержке еще одного трибуна, Кв. Минуция Терма (Н. Н. Scullard, 1951, р. 81), помог герою Африки взять верх над происками Корнелия Лентула, мечтавшего присвоить плоды чужой победы при Заме. Как и его покровитель, как и Фламинин, Глабрион считался истым приверженцем греческой культуры, на что в тогдашнем сенате уже начинали смотреть косо. Поэтому для пущей надежности военными трибунами в армию Глабриона были назначены сразу два консерватора – М. Порций Катон и Л. Валерий Флакк. Оба уже вместе избирались консулами в 195 году и так же дружно станут цензорами в 184-м (P. Grimal, 1975, р. 192).
Рим пустил в ход свою военную машину. В конце февраля 191 года Ацилий Глабрион с армией в 20 тысяч пеших и две тысячи конных воинов высадился в Аполлонии и сразу же взял курс на Фессалию, где с этолийскими союзниками Антиоха уже сражались Бебий Тамфил и Филипп Македонский. Всего за несколько недель они полностью заняли страну. Сирийский царь, находившийся в евбейском городе Халкиде, двинулся навстречу римлянам в направлении Ламии, намереваясь задержать их в Фермопильском ущелье, издавна служившем «воротами» в Центральную Грецию и ставшем знаменитым после гибели здесь в 480 году до н. э. Леонида Спартанского. Около середины апреля сюда же подтянулся со своим войском и Ацилий Глабрион. Лучники и пращники Антиоха, рассыпавшиеся по склонам ущелья, обрушили град своих стрел и дротиков на правый фланг римского войска, не давая противнику приблизиться к фаланге, основательно укрепившейся в его глубине. Тогда Катон, прихватив с собой двухтысячный отряд, ночью преодолел горный кряж и напал на армию Антиоха с тыла, обратив ее в беспорядочное бегство. К концу апреля Антиох вернулся в Халкиду, а некоторое время спустя вместе с остатками своей армии переправился в Эфес. Он проиграл войну, потерпев поражение в одной единственной битве. Ганнибал в ней участия не принимал, но судьба уготовила ему шанс вскоре испытать себя в роли флотоводца.
Война в Эгейском море и в Азии. Ганнибал руководит морским сражением
Мы знаем, что Антиох очень рассчитывал на этолийцев, надеясь, что они помогут ему задержать римлян в Греции. Они и в самом деле доставили немало хлопот Ацилию Глабриону, который с легкостью покорил беотийцев, фокидян и халкидян, но застрял на все лето под стенами Навпакта. В это время Филипп Македонский не мешкая восстанавливал свое присутствие в Фессалии, в частности захватив Деметриаду. Подобное развитие событий совершенно не устраивало Фламинина, поскольку грозило перечеркнуть результаты его дипломатических побед лета 196 года, поэтому, когда он был послан сенатом в Пелопоннес к ахейцам, он вмешался в действия Ацилия, чтобы заключить с этолийцами почетный мир (Тит Ливий, XXXVI, 34–35).
Покончив с войной в Греции, Рим развязал себе руки для того, чтобы продолжить преследование Антиоха в Азии. Сирийский царь тем временем успел укрепить Херсонес Фракийский, в частности крепость Лисимахию, и приказал своему флотоводцу, родосскому эмигранту Поликсениду привести корабли в боевую готовность. В свою очередь, Ганнибал получил от своих осведомителей и тотчас же передал Антиоху информацию о том, что в конце весны из Остии отчалила мощная римская эскадра в сопровождении пятидесяти палубных кораблей (такие корабли из-за своей большой вместительности использовались для переброски морем сухопутных войск), к которой по пути присоединились шесть кораблей, поставленных Карфагеном, и 25 – италийскими союзниками. В Пирее к ним добавились еще 25 квинкверем Атилия Серрана, срок преторских полномочий которого подходил к концу. Командовал всей этой мощной армадой Г. Ливий Салинатор, сын одного из победителей в битве при Метавре. Но и флот Поликсенида выглядел не менее грозно: 70 палубных кораблей, по меньшей мере столько же открытых. Флотоводец Антиоха поставил перед собой цель – перехватить римский флот и по возможности уничтожить его до того, как им навстречу подоспеют дружественные военно-морские силы Евмена Пергамского и родосцев. Однако римские корабли, поначалу стоявшие на якоре на Делосе, оказались столь быстроходными, что обошли вражеский флот и за короткое время добрались до Фокиды, куда вскоре подоспело и подкрепление в виде пятидесяти кораблей Евмена. Флот Поликсенида разом утратил свое численное преимущество, но он торопился дать противнику решающее сражение, пока к тому на подмогу не подошли еще и родосцы. Битва разыгралась близ мыса Корик, который мы, к сожалению, не можем точно идентифицировать, зная лишь, что он располагался где-то на нынешнем турецком побережье, в районе пролива, отделяющего материк от острова Хиос. Тит Ливий (XXXVI, 44–45) оставил нам подробное, но несколько сумбурное описание этой морской битвы (древнеримский историк гораздо увереннее чувствовал себя, повествуя о сражениях на суше), в которой римляне с успехом применили абордажный бой, используя явное численное превосходство над противником.
Между тем 191 год близился к концу, следовательно, наступало время избрания новых консулов. На сей раз выборы состоялись даже раньше, чем обычно. На повестке дня стояло завершение войны с Антиохом, и потому, как об этом без обиняков заявляет Тит Ливий (XXXVI, 45, 9), свои исполненные надежды взоры сограждане обратили на Сципиона Африканского. Однако Сципион в 194 году был консулом уже второй раз, а на дворе стояли совсем не те времена, что в 215–207 годы, когда Риму грозила страшная опасность и никого не смущало, что Фабий Максим, Фульвий Флакк или Клавдий Марцелл занимали высшую государственную должность в течение четырех, а то и пяти сроков подряд. Тогда того требовали обстоятельства. Теперь требовалось действовать иначе, но в конце концов выход был найден. Комиции проголосовали за Г. Лелия, близкого друга Сципиона, многим ему обязанного, и за его же родного брата Луция. Оставалось решить, кто из них отправится наместником в «Грецию», то есть в Азию. Как пишет Тит Ливий (XXXVII, 1, 7-10), Лелий предложил, чтобы этот вопрос сенаторы решили самостоятельно, не полагаясь на волю жребия. Разгорелись споры, конец которым положил сам Публий, объявивший, что если в Грецию поедет Луций, то он сам будет его сопровождать в качестве легата. Несколько иначе представляет дело Цицерон («Филиппики», XI, 17), и его версия звучит гораздо обиднее для Луция. По жребию ехать в Грецию якобы выпало Луцию, но сенаторов такой вариант не устроил, и они пересмотрели результат жеребьевки в пользу Лелия. Именно тогда в спор вмешался Сципион Африканский, пообещавший отправиться в «провинцию» вместе с братом. На том и порешили. Нам кажется, что версия Тита Ливия выглядит правдоподобней, впрочем, как бы там ни было, совершенно ясно, что решающую роль сыграл личный авторитет покорителя Африки. С таким солидным «довеском» даже безликий Луций мог рассчитывать на доверие сограждан. Примечательно, что спустя четверть века после того как два других брата Сципиона бились плечом к плечу в Испании (в 217–211 годах), эстафету приняли представители нового поколения этого известнейшего в Риме семейства. Не менее примечательно и то, что судьба словно посылала Ганнибалу еще один шанс встретиться со своим великим противником 202 года, теперь, как и он сам, выступавшим на втором плане.
Впрочем, если бы эта историческая встреча и произошла, то, конечно, не на другой же день. Кстати сказать, она так и не состоялась. В эти первые месяцы 190 года решался кардинальный вопрос: кто будет безраздельно владычествовать в Эгейском море? Антиох понимал, что бессмысленно укреплять Херсонес, если не удастся сохранить морское господство в проливах. И он бросил все силы на восстановление своего флота, серьезно пострадавшего в предыдущей схватке. По его просьбе Ганнибал отправился в Сирофиникию, вероятно, в Тир, где должен был собрать и оснастить новую эскадру. Некоторое время спустя флотоводец Антиоха Поликсенид в проливах близ острова Самос провел очень удачное сражение против родосского флота, уничтожив значительную его часть. В апреле на смену римскому флотоводцу Ливию Салинатору прибыл новый претор, М. Эмилий Регилл, обнаруживший, что состояние дел на азиатском побережье Эгейского моря далеко от радужного. К концу весны Регилл, сосредоточивший свои основные силы на Самосе, практически созрел для переговоров с Антиохом, которого, в свою очередь, немало тревожила весть о прибытии в Македонию Сципионов. Родосцы также отнеслись к идее переговоров благосклонно, однако самым решительным образом воспротивился Евмен Пергамский.
Между тем до Самоса докатилось известие о том, что к северу быстро движется Ганнибал с флотом, собранным в Финикии. Ему навстречу вышли родосские моряки на тридцати шести судах. Обе эскадры встретились в море в самый разгар лета (Тит Ливий, XXXVII, 23, 2), по-видимому, в августе, на широте Памфилии, неподалеку от полуострова Сида. Флот Ганнибала имел явное численное превосходство; карфагенянин командовал его левым флангом, развернутым в сторону открытого моря; на правом фланге распоряжался знатный сородич Антиоха из династии Селевкидов. Благодаря перевесу в числе кораблей Ганнибалу поначалу удалось нанести противнику, которым руководил наварх Евдам, ощутимый урон, но затем родосцы, справедливо считавшиеся в то время лучшими моряками Средиземноморья, призвали на помощь весь свой боевой опыт, максимально использовали маневренность, прочность и скорость своих квинкверем и в конце концов сумели переломить исход сражения в свою пользу. К концу дня выяснилось, что потери Ганнибала больше, чем у противника, и тогда карфагенянин отвел свои суда к Коракесию (ныне Алания), расположенному чуть восточнее Сиды. Нетрудно представить, каким испытанием стал для почти 60-летнего человека этот продолжавшийся целый день под безжалостно палящим солнцем бой. Уйти из Коракесии он не мог, так как родосский флот почти в полном своем составе остался близ Ликии, курсируя вдоль побережья и не спуская с него глаз.
Итак, Ганнибала удалось вывести из игры, правда, дорогой ценой: почти весь родосский флот бездействовал, исполняя роль его стража. Евмен в это же время находился гораздо севернее; он оберегал границы своих владений и ждал Сципионов. Антиох счел, что настал подходящий момент для того, чтобы взять реванш за поражение при Корикосе. Флот Селевкидов встретился с римским флотом, усиленным небольшой родосской эскадрой, неподалеку от места первой битвы, близ мыса Мионнес. При выходе из гавани Эфеса Поликсенид располагал чуть большим числом кораблей, чем Регилл, но и на сей раз маневренность родосских кораблей и редкостное мастерство их кормчих сыграли свою роль. Тит Ливий (XXXVII, 30, 3–4) особо выделяет применение «зажигалок» – глиняных горшков, заполненных смесью смолы и подожженной серы и привязанных на длинных шестах на носу корабля. Манипулируя системой тросов, пылающие горшки закидывали на вражеский корабль – со всеми вытекающими последствиями. Флот Селевкидов вернулся в родной порт, не досчитавшись сорока двух судов. Отныне ни о каких претензиях Антиоха на главенство в Эгейском море не могло идти и речи.
Крепость Лисимахию, которую без поддержки с моря оборонять стало слишком трудно, Антиох без долгих раздумий эвакуировал. Осенью 190 года сюда добрались братья Сципионы со своим войском, устроили стоянку и запаслись продовольствием, после чего переправились через Геллеспонт. Регилл в это же время отвоевывал Фокиду. Антиох после морского разгрома укрылся в лидийском городе Сарды, откуда направил к римскому консулу своего полномочного представителя, Гераклида из Византия. От имени царя он предложил Риму возместить половину военных расходов, навсегда отказаться от всех своих завоеваний в Европе и кроме того сдать три города, из-за которых, собственно, и началась война, – Лампсак, Смирну и Александрию Троадскую. Луций посоветовался с братом и дал свой ответ: Антиох должен полностью возместить Риму расходы на войну, которую сам же и развязал, и отдать все земли, лежащие по эту сторону от Таврских гор. Это означало вообще добровольно уйти из Малой Азии (Полибий, XXI, 14, 7–8; Тит Ливий, XXXVII, 35, 8-10). Царский посланец отлично понимал, что Антиох ни за что не согласится на такие условия, но прежде чем отправиться в обратный путь, добился конфиденциальной встречи со Сципионом Африканским, к которому у него имелось секретное предложение. Антиох просил передать римлянину, что готов без всякого выкупа возвратить ему сына, при неясных обстоятельствах захваченного в плен в самом начале войны (Тит Ливий, XXXVII, 34, 5–6), разумеется, если Публий поможет ему добиться заключения мира на его, Антиоха, условиях. Кроме того, царь сулил Сципиону заплатить столько, сколько тот сам пожелает, и обещал долю в государственной казне (Полибий, XXI, 15, 3–4; Тит Ливий, XXXVII, 36, 2. Последний даже упоминает о возможном участии Сципиона в управлении империей Селевкидов). В этом предложении, разумеется, отвергнутом, самым примечательным является столкновение двух совершенно разных менталитетов, историческое развитие каждого из которых привело к их полной несовместимости. Сципион Африканский не стал изображать оскорбленную добродетель, лаконично ответив, что с благодарностью примет своего сына, а взамен даст Антиоху разумный совет: согласиться на условия Рима и отказаться от дальнейшей борьбы.
Спустя несколько недель, по всей вероятности, в январе 189 года, обе армии встретились для битвы неподалеку от Магнесии Сипилской, у слияния Фригия и Герма. Тит Ливий (XXXVII, 40; соответствующий текст Полибия утрачен) оставил нам впечатляющее описание мощной своей многочисленностью, но слишком пестрой по составу армии Антиоха, которой явно не хватало единства и согласованности в действиях. Публий в сражении не участвовал, вынужденный из-за болезни задержаться в Элиде, но командование римскими легионами взял на себя не Луций, не имевший достаточного военного опыта, а консул 192 года Гней Домиций Агенобарб. На правом фланге под руководством Евмена Пергамского сражались его подданные – и пехотинцы, и всадники. Оба военачальника действовали умело, и оба в равной мере способствовали полному разгрому Антиоха, который потерял в этой схватке 50 тысяч солдат. Царь сделал верные выводы из своего поражения и спустя короткое время отправил в Сарды, где находились оба Сципиона, полномочных представителей, заключивших от его имени мир на ранее выдвинутых Римом условиях. В 188 году этот договор будет ратифицирован в Апамее. Антиох обязался выплатить гигантскую военную контрибуцию – 15 тысяч евбейских талантов. Вспомним, что двенадцатью годами раньше Карфаген согласился на контрибуцию в размере 10 тысяч талантов. Кроме того, царь дал слово выдать римлянам двух людей, считавшихся наиболее ярыми из их врагов, – этолийца Троанта и, главным образом, Ганнибала. Подняв оружие против Рима, Ганнибал превратился в «мятежника» – в том смысле, какой вкладывали в это слово сами римляне, и отныне даже Публий не мог бы сделать для него ничего. Луция Корнелия Сципиона, вернувшегося в Италию осенью 189 года, в ноябре чествовали как триумфатора, и его триумф, как сообщает Тит Ливий (XXXVII, 59, 2), прошел даже пышнее, чем торжества, устроенные в честь его брата в 201 году. Однако почетное звание Сципиона Азиатского, каким он отныне именовался, конечно, никогда не могло сравниться блеском с прозвищем брата – Африканский.