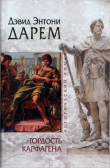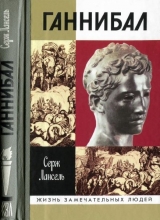
Текст книги "Ганнибал"
Автор книги: Серж Лансель
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 32 страниц)
Пунийская армия покидает Новый Карфаген
Ганнибал, конечно, сознавал, что на долгом пути от Нового Карфагена до долины По его армия понесет потери. Поэтому он постарался укомплектовать ее возможно полнее. Полибий (III, 35, 1) утверждает, что накануне выступления из города карфагенское войско насчитывало 90 тысяч пеших и 12 тысяч конных воинов. Нам эти цифры кажутся сильно преувеличенными. Известно, что накануне перехода через Пиренеи Ганнибал оставил своему помощнику – одному из многочисленных Ганнонов, которыми пестрит история Карфагена, – отряд из 10 тысяч пехотинцев и тысячи всадников; такое же количество солдат он отправил назад, по домам. Через Пиренеи он повел остатки своей армии, насчитывающей к этому времени, согласно Полибию (III, 35, 7), 50 тысяч пехотинцев и девять тысяч всадников. Из этого следует, что после переправы через Эбро он потерял в боях 21 тысячу солдат, что все-таки многовато. По данным того же Полибия (III, 60, 5), после переправы через Рону войско Ганнибала сократилось до 38 тысяч пехотинцев и восьми с небольшим тысяч всадников, что вместе дает примерно 46 тысяч солдат (III, 60, 5). Следовательно, с момента вступления в Галлию он потерял еще 13 тысяч воинов, хотя никакими серьезными сражениями эта часть кампании не отмечена. Наконец, в Италию он привел войско, состоящее из 20 тысяч пехотинцев и шести тысяч всадников, и этой цифре можно верить, поскольку она фигурирует в той самой табличке с мыса Лациний, о которой мы уже упоминали (Полибий, III, 56, 4). Таким образом, получается, что с момента переправы через Рону до вступления в долину По погибло 20 тысяч солдат, что кажется совершенно невероятным даже с учетом чрезвычайно опасного и тяжелого перехода через Альпы. Одним словом, «усыхание» армии со 102 до 26 тысяч представляется чрезмерным, но поскольку вторая цифра достоверна, значит, пересмотру подлежит первая. Среди историков принято считать, что Новый Карфаген покинуло войско, насчитывавшее от 60 до 70 тысяч солдат, но никак не больше.
Даже с чисто количественной точки зрения это была могучая сила. Но дело не только в численности. Благодаря своей военной доблести армия Ганнибала могла претендовать на звание лучшей армии того времени. Конечно, ее составляли не граждане, и в этом крылось ее коренное отличие от римской армии, и хотя в последней немалая часть приходилась на долю вспомогательных частей и союзных сил, тем не менее ее костяк состоял из «призывников» [52]52
В различии войск карфагенского и римского Полибий видит едва ли не главную причину конечной победы римлян. «Карфагеняне пользуются иноземными наемными войсками, а римляне собственными, состоящими из граждан… Государство карфагенян каждый раз возлагало надежды свои на сохранение свободы, на мужество наемников, а римское – на доблести собственных граждан и на помощь союзников… Отстаивая родину и детей, римляне никогда не могут охладеть к борьбе и ведут войну с неослабным рвением до конца, пока не одолевают врага» (VI, 52, 2–8).
[Закрыть]. В Карфагене такой категории не существовало, и его граждане объединялись в отряды по территориальному признаку только для обороны города. Впрочем, со времен Гискона и Гамилькара – героев сицилийской кампании – принцип формирования войска изменился в лучшую сторону. Если раньше подавляющую его часть составляли наемники, то теперь их стало гораздо меньше, зато возросла доля солдат, также считавшихся «профессиональными воинами», однако более надежных: их набирали среди народов, покорившихся Карфагену. К ним в первую очередь следует отнести «ливийцев» – жителей Африки, являвшихся подданными Карфагена. Именно из них в подавляющем большинстве состояло войско, возвращенное с Сицилии после Первой Пунической войны, они же, если верить Полибию (III, 56, 4), преобладали в армии Ганнибала, успешно преодолевшей Альпы (двенадцать из двадцати тысяч солдат). О дисциплинированности и выносливости ливийцев ходили легенды. В обычное вооружение ливийского воина, если он служил в легкой пехоте, входили несколько дротиков, кинжал и кетра – небольшой круглый щит. В битве при Каннах Ганнибал дополнительно раздал им оружие, захваченное у противника в битве при Тразименском озере (Полибий, III, 87, 3; Тит Ливий, XXII, 46, 4). Новшеством по сравнению с Первой Пунической войной стало то, что теперь бок о бок с ливийцами сражались иберийские пехотинцы, также набранные среди покоренных Карфагеном народов, только испанских. Из 20 тысяч солдат, живыми и невредимыми спустившихся с Альпийских гор, восемь тысяч составляли иберы. Кроме них в армии Ганнибала служили за плату испанцы из числа непокоренных народов, например кастильские кельтиберы. Эти бились коротким обоюдоострым мечом, позволявшим и колоть, и рубить, а также фалькатой – кривой саблей. Они также пользовались кетрой, но те из них, кому выпадало стоять в передовой линии пехоты, например в битве при Каннах в 216 году, предпочитали заимствованный у галлов длинный овальный щит (Полибий, III, 114, 2). Соединения пехоты усиливались отрядами, состоявшими из одних наемных воинов, например балеарцев, которые служили за плату, хотя их острова и считались протекторатом Карфагена. В их вооружение входили дротики, в частности, в битве при Требии (Тит Ливий, XXI, 55, 6, 9), но главным образом – праща, которой они владели как никто. Каждый пращник носил сразу три пращи с различной длины ремнем и использовал какую-либо из них в зависимости от требуемой дальности полета снаряда. Две пращи крепились к поясу, одна – к повязке на голове (Диодор, V, 18, 3). Праща считалась одним из самых опасных видов вооружения; именно выпущенный из пращи снаряд ранил консула Эмилия Павла в самом начале Каннской битвы. В качестве наемников служили и лигуры, три сотни которых поступили в распоряжение Гасдрубала, оставленного братом защищать карфагенскую Испанию (Полибий, III, 33, 16). Нам почти ничего не известно о том, на каких условиях их нанимали на военную службу; использовались же лигуры в основном в легкой пехоте и в качестве разведчиков; впрочем, в битве при Заме и даже раньше, в битве на Метавре, они сражались в передовых отрядах.
О галлах мы будем подробно говорить чуть дальше. Безусловно, в армии Ганнибала они играли очень важную роль, составляя ту чрезвычайно ценную часть передовой пехоты, которой нередко жертвуют в бою, однако влились они в нее уже после вступления в долину По. Благодаря галлам Ганнибал постарался заткнуть зияющие бреши в рядах своих бойцов, появившиеся после перехода через Альпы. Из многочисленного кавалерийского соединения у него после этого сурового испытания еще оставалось шесть тысяч всадников. Большинство из них составляли нумидийцы, чей союз с пунийцами зиждился на старинных и тесных связях: мы помним, как выручил Гамилькара Барку Наравас во время войны с наемниками. По ходу дальнейшего повествования у нас еще будет случай рассказать об услугах, которые они оказали Ганнибалу от Требии до Канн, а также в Бруттии; однако уже в битве при Заме многие из них сражались на стороне римлян, поскольку Сципиону удалось заключить союз с Масиниссой. Не исключено, что именно это обстоятельство и сыграло решающую роль в поражении пунийцев. Как и африканские легковооруженные пехотинцы, они имели в своем арсенале маленький круглый щит, несколько дротиков и кинжал, причем последний в руках этих искусных наездников превращался в оружие страшной силы, особенно когда они преследовали отступающего противника. Тит Ливий (XXII, 29, 5) выделял их за редкое мастерство верховой езды, сравнимое, как он писал, с искусством цирковых вольтижеров – desultores. Действительно, в бою они использовали сразу двух коней, перескакивая в случае надобности с одного на другого прямо на скаку. Можно сказать, что в карфагенской армии они играли примерно такую же роль, какую играли в русской армии XVIII–XIX веков казаки.
Одна из граней гения Ганнибала проявилась в том, что он сумел всю эту разношерстную публику – не забудем, что под его началом служили и италики: самниты, луканцы, жители Бруттия и Апулии, временно присоединившиеся к нему после Канн, – превратить в спаянный организм, демонстрировавший свое поразительное единство на протяжении 15 лет, с 218 по 203 год. Частично это единство можно объяснить тем, что все эти люди находились примерно в равных условиях, все в равной мере ощущали свою оторванность от родных мест, и это заставляло их испытывать друг к другу чувство солидарности. Вместе с тем, забегая немного вперед, рискнем предположить, что Ганнибал создал армию истинно наднационального масштаба (G. Brizzi, 1984, р. 138). Возможно, в этом определении и есть некоторое преувеличение, поскольку оно подразумевает полное слияние людей разных национальностей в рамках больших и малых тактических соединений, а в армии Ганнибала этого не наблюдалось. Ход сражений при Каннах и при Заме ясно показывает, что отряды солдат формировались по национальному признаку. Однако уже армейские корпуса включали отряды разных национальностей, так что, несмотря на пестроту отдельных частей, целое подчинялось единой стратегической концепции. Низшие командиры, под чьим началом находились базовые армейские единицы, в кавалерии соответствовавшие римской турме, а в пехоте – манипуле, как правило, принадлежали к той же нации, что и их солдаты, с которыми они ощущали самую тесную связь. Но соединением более высокого уровня, например нумидийской конницей, мог командовать как «свой», нумидиец, так и «пунизированный» африканец, а то и коренной карфагенянин. Так, в пунийской армии, сражавшейся в Сицилии в 212 и 210 годах, командование нумидийцами, вначале порученное Мутгинесу – «финикийскому ливийцу» из Бизерты (Тит Ливий, XXV, 40, 5; семитское имя этого человека звучало как Маттан), затем по приказу начальника экспедиционного корпуса Ганнона перешло к сыну последнего (Тит Ливий, XXVI, 40, 6). Что касается высшего командования на уровне армейских корпусов, то оно осуществлялось исключительно карфагенянами и предположительно аристократического происхождения, демонстрировавшими по отношению к своему главнокомандующему абсолютную преданность. Прежде всего роли военачальников принадлежали Баркидам. Средний брат Гасдрубал в 218 году остался с частью армии оборонять пунийские владения в Испании к югу от Эбро и в 207 году погиб в битве при Метавре, спеша на помощь Ганнибалу. Младший его брат Магон, один из организаторов победы при Требии, в битве при Каннах командовал центром рядом с братом, в конце италийской кампании воевал в Лигурии и умер на корабле в 203 году, по пути в Карфаген. Среди других высших командиров особенно отличились: Гасдрубал, командовавший левым флангом в битве при Каннах; Магарбал, начальник кавалерийских соединений; Магон-самнит, главный подручный Ганнибала в боях в Бруттии. Легко вообразить себе, что этих молодых, но многоопытных воинов, закаленных в тяжелых битвах, объединяло чувство настоящего полкового братства, похожее на то, что много веков спустя спаяло будущих маршалов наполеоновской армии.
Слоны Ганнибала
Мы, кажется, рассказали об армии Ганнибала все, или почти все, – потому что еще не упомянули про самую примечательную ее особенность, которая заключалась в использовании слонов. Выпускать слонов на поля сражений придумали вовсе не пунийцы. Первым, кого осенила эта идея, был Александр, а случилось это в 331 году, вначале в битве при Арбелах, а затем в долине реки Инд. Однако на Западе слоны стали известны благодаря Пирру, царю Эпира, который включил их в свою армию в 280 году, когда сражался с римлянами при Гераклее. В Южной Италии и в Сицилии появление слонов вызвало настоящую сенсацию. Тогда использовалась азиатская разновидность этих животных, так называемые «индийские слоны», с укрепленной на спине башней – howdah, как называли ее индийцы, – внутри которой сидели обычно два воина-лучника. Именно эту картину запечатлел неизвестный мастер на керамическом блюде из Капены, изготовленном примерно в то время, когда Пирр совершал свои подвиги.
Карфагеняне очень скоро взяли на вооружение это военное новшество, эффективность которого они испытали на собственной шкуре в боях против Пирра. Во время Первой Пунической войны слоны участвовали и в сицилийской кампании, и в сражениях против Регула на африканской территории. Читатель, возможно, помнит, как с помощью слонов Гамилькар жестоко расправился с мятежниками, попавшими в ловушку в ущелье Пилы. Неоценимую услугу оказали слоны и Ганнибалу, предрешив успех первой из выигранных им крупных битв на реке Таг в 220 году. Изображение слонов так часто появляется на аверсе карфагенских монет испанской чеканки, что это дает нам повод думать, что для Баркидов они были чем-то вроде тотемного животного. Кстати сказать, благодаря этим «картинкам» мы можем сделать вывод, что в Карфагене использовалась не азиатская, с высотой в холке до трех метров, и не еще более рослая африканская полустепная разновидность этих животных, а так называемые «лесные слоны» – Loxodonta africana cyclotis (или Loxodonta atlantica). У них высота в холке достигала 2,4–2,5 метра, имелись и отличия в физическом строении тела: огромные уши с закругленной мочкой, ярко выраженная «впадина» посредине спины, высокая постановка головы, кольчатый, а не гладкий, как у азиатских собратьев, хобот, длинные бивни.
В своих «ливийских рассказах» Геродот (IV, 191) пишет, что еще в V веке до н. э. слоны водились на южных окраинах современного Туниса, а вот из «Перипла Ганнона» мы узнаем, что они обитали на побережье Марокко. Аристотель в конце IV века, а после него Плиний Старший отводили им область предгорий Среднего Атласа и Рифа, неподалеку от Геркулесовых Столбов. В этих районах Магриба, в античности куда более лесистых, чем в наши дни, слоны продержались до первых столетий нашей эры, и исчезли не столько из-за изменения климатических условий, сколько в результате систематического истребления. В Риме времен Империи схватки с дикими животными, в том числе и со слонами, были одним из излюбленных зрелищ, устраиваемых в амфитеатрах, и на них велась безудержная охота.
Весной 218 года вместе с войском Ганнибала в поход выступили и 27 слонов, судя по всему, принадлежавших к мелкорослой африканской разновидности, за исключением, быть может, одного-единственного животного, которого Плиний Старший в своей «Естественной истории» (VIII, 5, 11) вслед за Катоном называл Суром, то есть «сирийцем», и который считался самым храбрым в четвероногом войске пунийцев [53]53
Как говорит Катон, это был слон с одним бивнем. Поэтому его имя Surrus, видимо, имеет другой смысл – по-латыни это слово значит «кол».
[Закрыть]. Относительно невысокий рост этих слонов не позволял устанавливать на их спинах башню; вместо нее верхом садился только погонщик. Полибий (III, 46, 7) именовал таких погонщиков «индийцами» (Indoi), конечно, не потому, что все они происходили родом из Индии, – просто было принято называть их именно так. Как только погонщик начинал чувствовать, что теряет контроль над животным, получившим слишком много ранений или перепуганным шумом боя, он своими руками приканчивал его, вбивая свинцовой дубинкой в затылок слону долото. Об этом пишет Тит Ливий (XXVII, 49, 1), повествуя о битве при Метавре в 207 году, утверждая, что от руки погонщиков здесь пало больше слонов, чем было убито противником. Историк добавляет также, что этот способ изобрел брат Ганнибала Гасдрубал, сам героически погибший на Метавре. В битве при Заме Сципион придумал перерезать ряды своих войск как бы узкими коридорами, в которые и должны были ринуться слоны. Это давало солдатам возможность при известной сноровке уклониться от чудовищных ударов слоновьих бивней. И уже ни страшный рев, ни развевающиеся парусом огромные уши, из-за которых эта живая гора казалась еще массивней, не наводили на римских воинов такого ужаса. Даже жуткий «proboscis», эта «змеевидная рука», как Лукреций (III, 537) именовал слоновий хобот, воинственно торчащий между острыми бивнями, больше не производил такого грозного впечатления.
По ту сторону Эбро
Незадолго до своего выступления из Нового Карфагена Ганнибал принимал здесь галльских эмиссаров, явившихся к нему с хорошими вестями. По обе стороны Альп, сообщили они, его ждут с радостным нетерпением, особенно в долине По (Полибий, III, 34). Он, в свою очередь, тоже направил гонцов, которым предстояло разведать обстановку, разузнать пути прохода через Альпы и постараться расположить к себе вождей кельтских племен, одарив их подарками (Тит Ливий, XXI, 23, 1). В июне 218 года войско покинуло город. Первый этап пути, до берегов Эбро, не предвещал никаких трудностей, как и переправа через реку. Мало того, уже дойдя до Онуссы, расположенной на противоположном берегу, то есть совершив de facto шаг, который делал объявление войны неизбежным, Ганнибал получил во сне божественное подтверждение правоты своего предприятия. В этом сне ему якобы явился божественного вида юноша, посланный Юпитером, дабы провести его в италийские земли. Юноша велел Ганнибалу следовать за собой не оборачиваясь, и тот поначалу так и сделал, но вскоре, охваченный вполне понятным любопытством, все-таки не выдержал и оглянулся. Его глазам предстала такая картина: гигантских размеров змей с ужасающим грохотом передвигался по обломкам разрушенных зданий и вырванных с корнем деревьев. Когда он спросил у своего провожатого, что означает это невероятное видение, тот отвечал ему, что это «опустошение Италии». Ганнибалу же, добавил он, следует идти своей дорогой и не пытаться проникнуть в тайну судеб. Такова версия, изложенная Титом Ливием (XXI, 22, 6–9). Что касается Полибия, который впоследствии откровенно издевался над историками, не способными рассказать о переходе через Альпы, не приплетая к делу всякого рода «богов и божественных юношей» (III, 47, 8), то он ни про какие сны не упоминает, хотя в его источниках этот эпизод фигурировал. Его, в частности, воспроизвел в своем трактате «О предвидении» Цицерон (I, 49), правда, с некоторыми вариациями: так, змей или дракон превращается у него в многоголовую гидру. В дальнейшей традиции никто, от Валерия Максима до Зонары, не обошел вниманием сон про змея, включая, разумеется, Силия Италика. При всем многообразии вариантов изложения в них неизменно присутствует общая черта: запрет божеством человеку оглядываться назад. Как известно, Орфей в аналогичной ситуации нарушил запрет и навсегда потерял Эвридику; жена Лота тоже не сумела удержаться, чтоб не бросить прощальный взгляд на гибнущий Содом, и обратилась в соляной столб. Оба предстают в легенде как жертвы собственного любопытства – чувства слишком человеческого, чтобы быть прощенным богами. Но Ганнибал, как мы видим, никакого наказания за свою непокорность не понес. Здесь мы присутствуем при зарождении легенды, к созданию которой руку наверняка приложил Силен – греческий историограф, сопровождавший Ганнибала во всех его походах, поскольку именно у него черпали сведения Тит Ливий и Целий Антипатр, в свою очередь послуживший источником Цицерону. Пропагандистский смысл легенды сводился к следующему: Ганнибал получил от богов миссию прийти с войной в Италию, и даже то обстоятельство, что он нарушил их волю и подглядел, к чему должны привести его действия – к опустошению Италии, – не повлекло за собой никаких нежелательных для ослушавшегося последствий.
Между тем сразу за Эбро начались первые трудности. На земле нынешней Каталонии Ганнибалу пришлось столкнуться с сопротивлением непокоренных народов полуострова: илергетов, обитавших в Лериде, бергусиев в долине Сегры, авсетанов, живших между Виком и Герионием, а также народа страны «Лацетании», которую Тит Ливий помещал в предгорья Пиренеев, возможно, имея в виду местность близ Риполя. Полибий добавляет эреносийцев из долины Аран и андосинов из Андорры (III, 35, 2), отмечая, что в схватках с этими племенами пунийцы понесли существенные потери в личном составе. Кроме того, Ганнибал оставил во внутренней Каталонии одного из своих помощников с войском в 10 тысяч пеших и тысячу конных воинов: следить за проходами в горах и не спускать глаз с бергусиев, слишком явно симпатизировавших Риму. Из осторожности карфагенский военачальник избавился также еще от десятка тысяч солдат. Если верить Титу Ливию (XXI, 23, 4–6), как только армия вплотную приблизилась к горным склонам, три тысячи пехотинцев из карпетан – народа, покоренного совсем недавно, решительно развернулись в сторону родного дома. Ганнибал не стал их удерживать, мало того, отправил за ними вслед еще семь тысяч бойцов, в надежности которых имел основания сомневаться. С сильно похудевшим войском он перевалил через Пиренеи, скорее всего, не через перевал Пертус, который привел бы его прямо к массалийским колониям каталонского побережья – Эмпориям и Розасу, – а через Сердань, и дальше, через перевал Перш и долину Теты (P. Bosch-Gimpera, 1965, pp. 135–141). Таким образом, он несколько отклонился к востоку и первый свой лагерь устроил в Иллиберии, в тех местах, где теперь стоит маленький городок Эльн, немного южнее Пиренеев.
Народы, обитавшие на территории нынешнего Русильона, находились тогда под протекторатом некоей федерации, образованной кельтским племенем арекомийских вольков, появившихся в краях с традиционно иберийской культурой относительно недавно, в конце III века. Согласно Титу Ливию (XXI, 24, 2), некоторые из этих народов, наслышанные о пунийском владычестве, утвердившемся по ту сторону Пиренеев, и не желавшие становиться его очередной жертвой, схватились за оружие. Вожди собрали объединенное войско в Русциноне (ныне Кастель-Русильон), расположенном возле Пиренеев. Стояли уже последние дни июля. Планы Ганнибала не допускали ни малейшей задержки в пути, и карфагенский полководец решил предпочесть дипломатию силовым методам. Как пишет Тит Ливий, он щедро одарил вождей и получил у них позволение беспрепятственно проследовать мимо Русцинона.
Полибий (III, 39) подсчитал, что войско Ганнибала от Эмпорий, которые на самом деле остались справа, до места переправы через Рону, которая, по его мнению, происходила выше слияния с рекой Дюране, проделало путь длиной в 1600 стадиев, то есть около 280 километров. О точном месте переправы мы можем только строить более или менее вероятные предположения, и читатель вскоре узнает, почему. Так или иначе, маршрут от Иллиберия был выбран наиболее короткий. Ряд исследователей допускает, что Ганнибал, во всяком случае, до Нима добирался тем же путем, которым веком позже прошел Домиций Агенобарб, прокладывая дорогу, позже названную в его честь «Домициевой». Теперь здесь проходит, почти точно совпадая с древней, скоростная магистраль «Лангедок». Таким образом, армия двигалась вдоль речного берега, стараясь держаться к нему как можно ближе, чтобы от моря ее отделяла только болотистая местность, характерная для здешней равнины, иссеченной лагунами. Она миновала ряд укреплений – oppida, устроенных на вершинах холмов, подобно караульным вышкам, с которых открывался вид по всей длине маршрута (Пек-Мао близ Сижана, Пек-Редон близ Нарбонна, Ансерюн близ Безье, Телеграфную скалу в Оме, Амбрусс к северу от Люнеля, Наж близ Нима). Существует гипотеза, что Ганнибал в каждом из этих укреплений, в частности в Ансерюне, оставлял по гарнизону (G. Picard, 1967, pp. 163–165). Родилась эта гипотеза из искреннего стремления историков найти правдоподобное объяснение «загадочного исчезновения» 13 тысяч воинов, которых, по словам Полибия, якобы потерял Ганнибал по пути от предгорий Пиренеев до переправы через Рону. Если же допустить, что воины остались в упомянутых «oppida», то все сходится. Беда в том, что до сих не обнаружено никаких следов постоянного – хотя бы на протяжении десятка лет – присутствия пунийцев в этих крепостях. Разумеется, здесь найдены предметы явно карфагенского производства, например амфоры, однако эти находки свидетельствуют скорее в пользу торговой активности пунийских guggas – купцов – на территории нынешних Русильона и Лангедока (J.-P. Morel, 1986, р. 43). Отметим попутно, что военные охотно пользовались услугами этих купцов в качестве разведчиков, успешно совмещавших «бизнес» с агентурной деятельностью. И если уж принять версию, согласно которой Ганнибал выстраивал защитный «коридор» от Испании до Италии, придется допустить, что он оставлял гарнизоны по всему маршруту, пролегавшему по галльским землям. Но у него не было и быть не могло такого огромного количества людских ресурсов! Гораздо больше оснований думать, что никакой надобности в оборудовании крепостей у него не возникало, а проход через области Русильона и Лангедока был быстрым и неопасным. И хотя установлено, что крепость Пек-Мао и некоторые другие сооружения Лангедока в конце III века подверглись разрушению, никаких доказательств того, что они пострадали от столкновений с пунийской армией (G. Barruol, 1976, р. 683), до сих пор не обнаружено.
К берегам Роны Ганнибал вышел скорее к концу августа, нежели сентября (как у D. Proctor, 1971, р. 58) 218 года. Примерно в это же самое время П. Корнелий Сципион, проведя свой флот вдоль побережий Этрурии и Лигурии, встал рейдом в виду Марселя (Массилии). Лагерь он разбил неподалеку от главного притока Роны. Мы помним, что в соответствии с первоначальным планом он намеревался двинуться с двумя легионами в Испанию. Однако события повернулись таким образом, что осуществление этого плана вначале серьезно задержалось, а потом и вовсе сорвалось.
Главными виновниками задержки стали кельты долины По. Обеспокоенные образованием весной 218 года двух римских колоний Плаценции (ныне Пьяченца) и Кремоны, поднялись бойи, населявшие теперешнюю Эмилию с центром в Болонье. Их воинственный дух в значительной мере разожгли засланные загодя эмиссары Ганнибала, утверждавшие, что помощи ждать осталось совсем недолго. С помощью медиоланских инсубров они вытеснили римских колонов со своих земель и загнали в город Мутину (ныне Модена), который обложили осадой (Полибий, III, 40; Тит Ливий, XXI, 25). Первое войско под командованием претора Л. Манлия Вульсона, посланное против них Римом, попало в засаду. Потребовалось срочное вмешательство городского претора Г. Атилия Серрана и одного из двух легионов, уже подготовленных Сципионом для отправки в Испанию. Вот почему Сципиону пришлось набирать себе новый легион, на что ушло время. Когда с двух-трехмесячным опозданием по сравнению с первоначальным планом он прибыл к Марселю, выяснилось, что Ганнибал, опрокинув тщательно разработанную римскую стратегию, был уже на полпути к Италии.