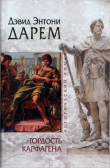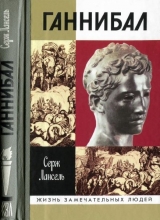
Текст книги "Ганнибал"
Автор книги: Серж Лансель
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 32 страниц)
Осада Сиракуз: Архимед против Марцелла (214–212 годы)
После смерти Гиеронима положение в Сиракузах долгое время оставалось неясным, пока двум ставленникам Ганнибала – Гиппократу и Эпикиду – не удалось в результате довольно бурных выборов возглавить главную магистратуру (Тит Ливий, XXIV, 27, 3). Шла весна 214 года. В Лилибее, на западной оконечности Сицилии, римским войском и эскадрой из 100 крупных судов («пантер») командовал тогда претор Аппий Клавдий Пульхр, которому и выпало на долю разбираться с бывшим союзником. У Тита Ливия ясно прослеживается тенденция к занижению роли последнего и, наоборот, излишнему выпячиванию роли Марцелла. Так, он неверно указывает (XXIV, 21, 1), что Марцелл высадился на острове в первые месяцы 214 года, тогда как в другом месте сообщает, что в это же время он оборонял от Ганнибала Нолу, помогал Фабию осадить и взять Казилин, наконец, задержался в Номе из-за болезни. Следовательно, Марцелл никак не мог появиться в Сицилии раньше начала осени (P. Marchetti, 1972, р. 19). Очевидно, блеск личности этого человека совершенно затмил в глазах падуанского историка остальных действующих лиц, принимавших участие в событиях, и нам, если мы хотим воздать каждому по заслугам, придется ограничиться скудными сведениями, почерпнутыми у Полибия (VIII, 3–7).
Оба римских командующих решили распределить свои силы следующим образом. Аппию Клавдию предстояло повести наступление по суше, подобравшись к мощной крепостной стене, окружавшей «большие Сиракузы» вместе с широкими пространствами предместий, именуемых Эпиполы. Марцелл намеревался одновременно напасть с моря на нижнюю часть города – Ахрадину, глядевшую прямо на остров Ортигию и имевшую собственные укрепления, омываемые морскими волнами. Незадолго до этого римляне почти без сопротивления завладели Леонтинами, а потому не сомневались, что и с Сиракузами расправятся с легкостью. Однако в своих расчетах они не учли двух важных обстоятельств: во-первых, город действительно обладал хорошими оборонительными сооружениями, а во-вторых, здесь жил великий Архимед. Величайший геометр всех времен и народов, близкий друг и, возможно, родственник царя Гиерона, Архимед не побрезговал заняться инженерным ремеслом и взял в свои руки всю техническую сторону обороны города. Он довел до совершенства боевые машины, которыми Сиракузы славились в античном мире, начиная с эпохи тирана Дионисия, то есть с начала IV века.
В «радушии» приема, который оказали ему обитатели Сиракуз, Марцелл убедился очень скоро. Воинов римского консула, пытавшихся проникнуть за крепостные стены с башен, сооруженных на палубе скрепленных попарно кораблей, в то время как со спины их прикрывали другие, обстреливая затаившихся в куртинах цитадели защитников города тучами дротиков, встретил весь заготовленный Архимедом оборонительный арсенал. Баллисты и катапульты разного калибра не давали кораблям противника приблизиться к стенам крепости. В числе прочих изобретений выделялась гигантская «рогатка», стрелявшая «камушками» весом по 350 килограммов. Нескольких таких глыбин хватило, чтобы расколотить в щепки римскую «самбуку» – нечто вроде высокой прочной лестницы, которую Марцелл велел соорудить на палубе сразу восьми плотно пригнанных друг к другу кораблей, намереваясь с ее помощью взобраться на стену цитадели (Плутарх, «Марцелл», 15). В самой стене защитники города по приказу Архимеда пробили отверстия на высоте человеческого роста, и из этих амбразур лучники вели прицельный обстрел римских солдат, находившихся на палубе своих кораблей. Полибий, как мы уже упоминали, прекрасно разбиравшийся в технике осады, проявил особый интерес ко всей этой механике и оставил нам подробное описание одной из самых хитрых «штук», придуманных гениальным сиракузцем. С внутренней стороны крепости, возле самых ее стен, Архимед построил несколько приспособлений, напоминающих подъемные краны: как только какой-нибудь из римских кораблей приближался к стене, сверху на него падал одним своим концом такой вот «кран», увенчанный «железной рукой», которая захватывала в тиски носовую часть судна. После этого к другому концу «крана» с помощью лебедки быстро поднимали тяжелый противовес. Теперь оставалось только отпустить лебедку, и корабль немедленно задирался носом кверху. Если он и не шел ко дну сразу, его экипажу это служило слабым утешением. Если верить Полибию, Марцелл проявил поразительную стойкость духа, сумев отнестись к постигшей его неудаче с юмором. Мы, со своей стороны, добавим последнюю подробность, заслуживающую, на наш взгляд, внимания читателя. Словно следуя известной поговорке – богатому дастся, у бедного отнимется, – позднейшая традиция приписала все тому же Архимеду еще одно оригинальное изобретение: установку на самых высоких точках города системы параболических зеркал, способных улавливать солнечные лучи и поджигать прямо в море римские корабли. Возможно, что это всего лишь легенда, однако признаемся, что в приложении к человеку, чей гений сумел изобрести такие вещи, как сфероид, поворотный конус и цилиндр, в ней нет ничего невероятного.
Не намного удачнее действовал и Аппий Клавдий, пытавшийся взять Сиракузы с суши. Главные городские ворота располагались с северной стороны, в районе Гексапилона, защищенные мощной крепостью. Аппий Клавдий начал осаду Сиракуз, зная, что со стороны моря город прочно заблокирован римским флотом. Карфагенская эскадра под командованием Гимилькона, стоявшая возле мыса Пахин, на южной оконечности острова, из-за своей малочисленности ничем жителям Сиракуз помочь не могла. Вскоре Аппий Клавдий принял под свое командование также и флот, освободив Марцелла, который с частью войска двинулся на захват городов, примкнувших к карфагенянам: Гелора, Гербеза и Мегары Гиблейской. В этой роли он оставался до конца 213 года, когда покинул Сицилию и уехал в Рим, чтобы выставить свою кандидатуру на должность консула. К своему великому разочарованию римляне воочию убедились, что население Сицилии, лишь недавно присоединенной к Риму, не испытывало по отношению к ним верноподданнических чувств. Между тем Ганнибал направил в карфагенский сенат письмо, убедив свое правительство, что настал момент для отвоевания острова. На южном побережье Сицилии, в Малой Гераклее, вскоре высадился посланный из Карфагена крупный экспедиционный корпус в составе 25 тысяч пеших воинов, трех тысяч всадников и 12 слонов. К ним присоединился Гиппократ, который вывел из осажденных Сиракуз несколько тысяч человек, оставив оборону города на Эпикида. Им удалось захватить находившийся поблизости Агригент, но вот расположенную в центре острова Генну – священное для каждого сицилийца место – с ее храмом Цереры, где, по преданию, Плутон похитил Прозерпину, римляне продолжали удерживать, хотя им и пришлось для этого буквально залить кровью взбунтовавшийся город.
К концу лета 212 года Марцеллу, ставшему к этому времени проконсулом и в этом качестве командовавшему всем сицилийским фронтом, все-таки удалось добиться своего, хотя бы и ценой хитрости. Узнав от одного из перебежчиков, что в честь праздника Артемиды в городе, где уже начались трудности с продовольствием, вино-то уж точно польется рекой, он решил воспользоваться моментом и преодолеть крепостную стену, которая, как мы помним, опоясывала весь квартал Эпиполы, в самом невысоком ее месте – возле Трогильских ворот, близ так называемой Галеагровой башни. Стражники и в самом деле перепились, так что одному из римских «коммандос» не составило особого труда вскарабкаться на стену, пробраться к Гексапильским воротам, затем спуститься, найти и открыть потайную дверь, в которую и устремился Марцелл со всем остальным войском. Чуть позже римскому военачальнику удалось подбить к предательству одного из охранников форта Эвриал, занимавшего западный угол крепости, и завладеть им. Теперь он мог уже контролировать почти весь город. Неприступными оставались только квартал Ахрадины, защищенный собственной крепостной стеной, и соединенный с ним узким перешейком остров Ортигия (Насос). Обороной Ахрадины руководили, как мы помним, два сиракузских сторонника Карфагена – Гиппократ и Эпикид. Первого из них в городе уже не было – он с частью войска выбрался из Сиракуз, чтобы сражаться с римлянами за пределами города. Когда же из осажденной крепости дезертировал Эпикид, морем бежавший в Агригент, печальная развязка приблизилась вплотную. Ее ускорила еще одна измена. Один из начальников гарнизона, некий испанец, служивший в карфагенской армии, открыл врагам потайной ход в стене, окружавшей остров с моря, со стороны Большого порта. Этот ход находился неподалеку от источника Аретуса.
Итак, Марцелл завладел наконец одним из прекраснейших и богатейших городов античности, основанным коринфянами за пять столетий до того и в течение всего этого времени копившим сокровища и шедевры искусства. Добычу тщательно рассортировали и все самое ценное отложили для отправки в Рим. Остальное главнокомандующий отдал солдатам на разграбление. В эти осенние дни 212 года погиб и гениальный защитник Сиракуз, встретивший смерть с невозмутимостью истинного ученого. Не обращая внимания на крики ужаса и всеобщий гвалт, поднявшийся в разоряемом городе, Архимед продолжал спокойно сидеть, склонившись над своим абаком, когда к нему подскочил римский солдат, понятия не имевший, кто перед ним, и нанес великому математику смертельный удар (Тит Ливий, XXV, 31, 9). Тот же Тит Ливий уверяет, что Марцелл искренне скорбел о безвременной кончине ученого и даже приказал соорудить ему достойное надгробие. 137 лет спустя в Сиракузах в качестве «туриста» побывал Цицерон, служивший квестором в Лилибее. Он долго искал могилу Архимеда, зная, что она должна быть украшена небольшой колонной, увенчанной сферой и цилиндром. В конце концов он ее действительно нашел, полуразрушенную временем и опутанную колючими зарослями ежевики, о чем и поведал в своих «Тускуланских беседах» (V, 66). Подобное равнодушие к памяти великого земляка со стороны жителей Сиракуз, конечно, выглядит очень странным. Утешает одно: Архимед относится к тем людям, которым для бессмертия вовсе не нужны никакие памятники.
От взятия Тарента до сдачи Капуи (212–211 годы)
Между тем в Карфагене пока не считали, что Сицилия потеряна навсегда и безвозвратно. И в самом деле, окончательная утрата Сицилии Карфагеном случится позже, через два года, когда падет Агригент, ставший жертвой крупной ссоры стратега Ганнона, сменившего Гимилькона на посту командующего флотом, с его начальником кавалерии Муттином, доблестным воином ливийско-финикийского происхождения. Затаив на командира, не оказавшего ему должного почтения, глубокую обиду, Муттин выдал римлянам Агригент. Впрочем, и падение Сиракуз стало для Ганнибала тяжелым ударом.
Положение осложнялось еще и тем, что вражеское кольцо вокруг Капуи постепенно сжималось. Апулия давно перестала быть тем надежным приютом, где ему так нравилось коротать зимы, набираясь новых сил. Весной 213 года новый римский консул, сын «Медлителя», которого, как и отца, звали Кв. Фабий Максим, отбил Арпы. Значительную часть лета 213 года Ганнибал провел в области Саленто, примостившейся на «каблуке» «итальянского сапога», к югу от Лечче. Отсюда, если встать лицом на восток, в хорошую погоду на далеком горизонте можно различить туманные очертания албанских гор. Как знать, не засматривался ли на них и Ганнибал, понапрасну ожидая подкреплений от македонского царя? Впрочем, гораздо сильнее его взор привлекал Тарент. После первой неудачной попытки завладеть городом с помощью «пятой колонны», он не потерял надежды рано или поздно добиться своего, тем более что ему нужен был порт – и для связи с Карфагеном, и для будущих совместных операций с Филиппом Македонским.
Несмотря на колебания Тита Ливия по поводу датировки захвата Тарента (XXV, 11, 20), мы с уверенностью относим это событие к началу зимы 213/12 года. Оставленный римским историком рассказ настолько близко перекликается с сохранившимся, к счастью, текстом Полибия (VIII, 24–34), что ряд исследователей даже высказали предположение, что первый просто перевел второго (G. De Sanctis, 1917, pp. 365–366; P. Wuilleumier, 1939, p. 150). Характерные для Полибия подробность изложения, точность в передаче даже второстепенных деталей, но главным образом сам подход к трактовке событий, выражающий, несомненно, точку зрения карфагенян, позволяют думать, что он использовал в своей работе записки Силена – историографа Ганнибала (F. W. Walbank, 1967, II, pp. 100–101). Что касается Тита Ливия, то скорее всего его рассказ также восходит к Силену, только не прямо, а через Целия Антипатра, что, во-первых, объясняет наличие некоторых разночтений и несовпадений у одного и другого, а во-вторых, напрочь исключает версию о простом «списывании» римлянина у грека.
В целом история взятия Тарента, изложенная Полибием, Титом Ливием и Аппианом («Ганнибал», 32–33), служит наглядным примером того, как Ганнибал умел использовать себе на пользу людей и обстоятельства, даже не прибегая к средствам большой стратегии. В данном случае ему помогла грубая ошибка, совершенная римлянами. После того как группа местных жителей, взятых в заложники, предприняла неудачную попытку бегства, римляне не придумали ничего лучшего, как сбросить провинившихся с Тарпейской скалы прямо в море. На население Тарента эта жестокость произвела гнетущее впечатление. Однажды вечером из городских ворот выбрались 13 юношей, двинувшихся прямиком к карфагенскому лагерю. Двоим из них, Никону и Филемену, удалось добраться до передовых пунийских постов, откуда их препроводили к Ганнибалу. Юноши обрисовали полководцу обстановку в Таренте и высказали горячее желание помочь карфагенянам проникнуть в город. Легко представить, с каким удовлетворением выслушал Ганнибал их рассказ. Он велел юношам прийти еще раз, назначил день и час встречи, а перед уходом распорядился выдать им несколько голов домашнего скота – чтобы было чем расплатиться со стражниками, стерегущими ворота. Когда молодые люди явились к Ганнибалу вторично, он обговорил с ними условия сдачи Тарента: карфагеняне согласились не облагать его жителей никакими поборами, оставить в неприкосновенности все местные свободы и привилегии, а собственные издержки покрывать исключительно за счет добычи, отнятой у римлян.
Филемен, считавшийся искусным охотником, стал в карфагенском лагере частым гостем. С комендантом гарнизона он быстро сумел договориться, оплачивая каждую свою отлучку очередной партией дичи. Тит Ливий воздержался от упоминания имени этого человека, проронив лишь, что он принадлежал к роду Ливиев. Не стал он также поименно называть и солдат, которые несли вахту в сторожевой башне, очевидно, не желая позорить их семьи. В конце концов дошло до того, что охрана восточных городских ворот, следующих за Теменидскими воротами, открывала «охотнику» двери на условный свист. Для решительной атаки Ганнибал выбрал день, когда правитель Тарента устраивал пирушку в Мусейоне, расположенном рядом с агорой, то есть на другом конце города. Никон оставался в городе, а Филемен присоединился к солдатам Ганнибала. Ранним утром отборное 10-тысячное войско, состоявшее из легковооруженных пехотинцев и всадников, покинуло карфагенский лагерь, намереваясь за день совершить трехдневный переход, отделявший их от Тарента (Полибий, VIII, 26, 2–5). В нескольких километрах впереди скакал отряд из восьмидесяти нумидийцев, посланный с двоякой целью: служить передовой разведкой и создавать впечатление обычного грабительского рейда. Приблизившись к Таренту на расстояние в 20 километров, Ганнибал отдал приказ остановиться и накормить солдат, а командиров собрал на инструктаж. На следующий вечер, едва сгустились сумерки, войско выступило в путь и подошло к городским воротам, когда уже стояла глубокая ночь.
В Таренте в это же время Г. Ливий беспечно пировал, решив отложить все серьезные дела, в том числе отправку конного отряда навстречу нумидийцам, на завтра. Никон с друзьями, затесавшиеся в толпу пирующих, постарались подольше задержать римского начальника на празднике, а затем проводили его, уверенного, что в городе все спокойно, до дома. После этого они устремились в восточную часть города, отведенную под кладбище. Эту особенность Тарента, отличавшую его от прочих городов классической эпохи, в которых было принято выносить захоронения за крепостные стены, Полибий (VIII, 28, 6–7) объясняет пророчеством оракула. Собравшись вокруг могилы Пифионика, Никон и его друзья принялись ждать светового сигнала, который Ганнибал обещал подать им с высоты могильного кургана Аполлона Иакинфа. Вскоре в той стороне действительно вспыхнул огонь, и юноши поспешили к Теменидским воротам, перебили стражу и впустили большую часть карфагенского войска. Две тысячи конных воинов на всякий случай остались по ту сторону крепости. Одновременно еще один отряд, состоявший из тысячи африканцев, подоспел к другим воротам – тем самым, через которые проходил обычно Филемен, возвращаясь со своей «охоты». Он и теперь оказался здесь, а вместе с ним еще трое парней, помогавших ему тащить огромную кабанью тушу. Услыхав знакомый свист, стражник приоткрыл маленькую дверцу и, не успел он еще как следует восхититься «охотничьим трофеем», как его свалили с ног. Три десятка африканцев уже пробирались через открытую неосторожным стражником дверь, чтобы немедленно расправиться с остальной охраной и распахнуть главные ворота… Соединившись, обе карфагенские колонны двинулись в направлении агоры. Ганнибал разбил двухтысячный отряд галлов на три группы, каждой назначил в провожатые местного жителя и отправил их занимать город, приказав ни в коем случае не обижать мирное население. Затем Филемен с товарищами, заранее запасшиеся римскими трубами, заиграли сигнал сбора. Солдаты гарнизона спешили на зов трубы и… становились легкой добычей карфагенян, притаившихся на темных улицах в окрестностях агоры. Наутро Ганнибал собрал жителей Тарента и во всеуслышание объявил, что ничего дурного против них не замышляет.
Итак, Тарент был взят, однако Ганнибал так и не достиг своей главной цели, и виной тому стала сама планировка города. Дело в том, что Г. Ливию вместе с несколькими тысячами римских солдат удалось укрыться в цитадели, расположенной на самом краешке перешейка, отделявшего собственно бухту Тарента (ныне Маре Гранде) от широкого естественного водоема (ныне Маре Пикколо), в котором стояли на рейде корабли тарентинцев, оказавшиеся в ловушке. Ганнибал сразу откинул мысль о том, чтобы взять цитадель силой: он не располагал для этого средствами; кроме того, собственный опыт уже убедил его, что самым надежным и «экономичным» способом овладения вражеской крепостью оставались предательство и хитрость. Единственное, что он сделал, дабы помешать римлянам, засевшим в цитадели, защищенной высокой стеной и рвом, снова напасть на город, это приказал вырыть еще один ров и возвести два ряда палисада. Наконец, он вызволил из западни тарентинские суда, претворив в жизнь гениальную идею перетащить их по суше с помощью роликовых приспособлений (Полибий, VIII, 34, 9-11; Тит Ливий, XXV, 11, 16).
Этот успех, пусть и неполный, сыграл роль катализатора. Вскоре Ганнибалу покорились города Метапонт и Турии. Пришла в волнение соседняя Лукания. Вождь объединения луканских племен, до последнего времени хранивших верность Риму, вошел в сговор с Магоном Самнитом, командовавшим в Бруттии, и подстроил западню проконсулу Тиберию Семпронию Гракху. Согласно версии Тита Ливия, которая представляется нам наиболее достоверной (XXV, 16–17), это случилось в местечке под названием Кампы Ветерские. Крупные неприятности пережил и претор Гней Фульвий Флакк, рискнувший сразиться с Ганнибалом близ апулийского города Гердонии. Потеряв в бою 16 тысяч воинов, он на собственной шкуре узнал, что такое карфагенская армия. Зиму 212/11 года Ганнибал провел в Бруттии, разрываясь между необходимостью продолжить покорение Тарента и стремлением отстоять Капую. Перевесило в конце концов последнее.
Действительно, положение Капуи – этого символа не просто стратегии, но и всей италийской политики Ганнибала, последовательно проводимой после Каннской битвы, – с каждым днем становилось все более угрожающим. Из двадцати трех римских легионов четыре, усиленные войсками союзников, осаждали стены этого кампанского города. Командовали осадой сразу оба консула 212 года – Кв. Фульвий Флакк и Ап. Клавдий Пульхр, которые остались на своих постах и на следующий год, уже в качестве проконсулов. От сената они получили ясный и недвусмысленный приказ – не уходить от стен Капуи, пока город не окажется в их руках (Тит Ливий, XXVI, I, 2). Весной 211 года, оставив большую часть снаряжений и тяжеловооруженные войска в Бруттии, Ганнибал отбыл в Кампанию. Пытаясь прорвать кольцо осады, карфагенский полководец, лично принимавший участие в бою плечом к плечу со своими кампанскими союзниками, потерпел поражение и потерял несколько тысяч воинов. После этого он решился на диверсию, которая, вполне возможно, могла привести его к осуществлению затаенной мечты.