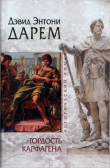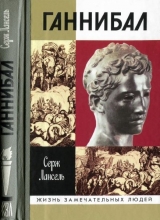
Текст книги "Ганнибал"
Автор книги: Серж Лансель
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 32 страниц)
Переправа через Рону
Теоретически допустимо, что пунийская армия переправилась через Рону ниже ее слияния с Дюране, то есть где-то поблизости от местечка Бокер, где течение спокойно и не слишком полноводно. С учетом технического уровня античного речного судоходства это место можно считать вполне приемлемым для переправы. Действительно, чтобы кратчайшим путем попасть из Лангедока в Италию, лучшего способа было не найти. На противоположном берегу брали начало сразу две дороги – та, что в эпоху Римской империи получит название дороги Юлия Августа, и та, что шла вверх по долине Дюране, упираясь в перевал Мон-Женевр. Первый маршрут, вдоль побережья, исключался напрочь по целому ряду причин, из которых с избытком хватало одной-единственной: он пролегал по владениям марсельцев и шел мимо их факторий – Тавроэя (Ле Брюск), Ольбии (Иэр), Антиполя (Антиб), Никеи (Ницца). Но даже если бы удалось миновать эти враждебные земли, заодно преодолев некоторое число естественных преград, например реку Вар, дальше, в узких извилистых протоках Ривьеры-дель-Фьоре пунийцам пришлось бы каждую минуту ждать внезапного нападения рыскавших здесь лигурских разбойников. Впоследствии, уже после победы Секстия над салиями, римлянам потребовалось целых сто лет, чтобы очистить этот прибрежный коридор от местных банд и сделать передвижение по нему безопасным (Страбон, IV, 6, 3). И наконец, проход через Бокер или любое другое местечко между Арлем и Авиньоном неизбежно вел к встрече с консульской армией, успевшей в этому времени сосредоточиться в долине Кро.
Иными словами, легионы Сципиона лишили Ганнибала возможности воспользоваться лучшей дорогой, пролегавшей по долине Дюране и в античности именовавшейся Геракловой – в честь Геракла-Геркулеса, якобы ее проложившей. То обстоятельство, что в середине августа 218 года легионы Сципиона стояли в долине Кро, а армия Ганнибала, двигаясь вдоль правого берега Роны, достигла территории где-то между Нимом и Вильнев-лез-Авиньоном, почему-то часто упускается из виду современными историками, хотя его стратегическое значение несомненно. В результате исследователи приходят к выводу, что переправа через Рону имела место ниже ее слияния с Дюране – в Фурке (G. De Beer, 1969, pp. 122–123) или в Бокере (J. F. Lazenby, 1978, р. 36). За основу эти специалисты принимают указание Полибия (III, 42, 1) на то, что Ганнибал форсировал Рону в пункте, «отстоящем от моря на четыре дневных перехода». Приняв за величину дневного марша расстояние в 12–15 километров и вооружившись линейкой, они просто отмеряют по карте нужное расстояние от местечка Сент-Мари-де-ля-Мер… При этом совершенно упускается из виду, что дельта Роны постоянно меняет свой облик из-за аллювиальных отложений, а вся область Камарга ежегодно на несколько десятков метров расширяется за счет отступления моря. И если сегодня Сент-Мари отстоит от Арля почти на 40 километров, то, например, в IV веке н. э., по словам Аммиана Марцеллина (XV, 11, 16–18), их разделяло пространство всего лишь в 18 миль, то есть в 26 километров. Во времена Ганнибала это расстояние было еще меньше, поэтому, считая, что каждый день его армия проходила по 15 километров, мы получим исходную от моря точку в районе выше слияния Роны с Дюране.
Точное установление этого пункта представляет немалую проблему. Ориентироваться мы можем только на письменные источники, а Полибий (III, 42) и Тит Ливий (XXI, 26–27) единодушно, правда, римлянин более подробно, сообщают, что в месте переправы пунийский главнокомандующий неожиданно столкнулся с противодействием части вольков. «Не надеясь оттеснить Ганнибала с западного берега реки, – пишет Тит Ливий, – и задумав превратить в преграду саму реку, они переправили свои вооруженные отряды на противоположный берег и заняли его». Карфагенский полководец вовсе не собирался усугублять чисто технические трудности переправы сражением с вольками, да еще в такой невыгодной позиции. Поэтому он приказал своему лучшему помощнику Ганнону – сыну своей старшей сестры и суффета Бомилькара – с крупным отрядом испанцев добраться до противоположного берега и напасть на диких кельтов с тыла. Ганнон поднялся вверх по течению реки примерно на 25 миль, потому что его проводники галлы сказали ему, что как раз в этом месте река разделяется на два рукава, образуя посредине островок, значительно облегчающий переправу. Здесь его отряд пересек течение реки, посвятил один день отдыху, затем проделал обратный путь, уже по левому берегу, и, заняв высоту в тылу у вольков, с помощью дымовых сигналов дал знать главнокомандующему, что готов к совместной операции.
Главные силы Ганнибала, остававшиеся на правом берегу, успели все подготовить для форсирования реки. И вот переправа началась. Люди устроились в лодках или на плотах, кони перебирались вплавь, поддерживаемые с лодок за уздцы, а некоторую их часть в полной боевой упряжи поместили тоже на плоты, чтобы всадники могли оседлать их тотчас же. Увидев, что переправа началась, вольки покинули свой лагерь и беспорядочной толпой сгрудились на берегу. В это время и налетел на них Ганнон со своим отрядом. Вольки обратились в паническое бегство. Теперь оставалось лишь довести до конца переправу. Больше всего мороки оказалось со слонами. Оба наши историка, и Полибий и Тит Ливий, с видимым удовольствием излагают в деталях, очевидно, почерпнутых у своего общего источника Целия Антипатра, каким именно хитроумным способом удалось справиться с этими животными, «которые всегда слушаются погонщика, кроме тех случаев, когда видят перед собой воду» (Полибий, III, 46, 7). Для слонов соорудили особые огромные плоты, на которые толстым слоем насыпали земли, а чтобы слоны согласились на эти плоты шагнуть, перед ними вели двух слоних. Все-таки некоторые животные от страха прыгали в воду, и Полибий, как и вообще все древние авторы, убежденный, что слоны плавать не умеют, сочинил для читателя живописную картину, изображающую, как слоны, с головой погрузившись под воду, вышагивали по дну реки, вытянув вверх «дыхательные трубки» своих хоботов (S. O’Bryhim, 1991, pp. 121–125).
Сразу после переправы, насыщенной не столько драматизмом, сколько экзотикой, состоялось первое столкновение пунийцев с римлянами, не слишком значительное по сравнению со схватками, которым еще предстояло разыграться на италийской земле. Встав лагерем в долине Кро, Сципион отправил три сотни всадников вперед, на разведку, надеясь получить представление о ближайших намерениях Ганнибала. Очень скоро римские разведчики столкнулись с большим отрядом нумидийцев, получивших от своего командира аналогичное задание. Основные силы пунийцев в это время как раз заканчивали переправу. Стычка протекала весьма бурно, и нумидийцы понесли значительные потери. По мнению Полибия (III, 45, 4), Сципион тотчас же снялся с места и двинул свои войска вперед, намереваясь дать Ганнибалу большое сражение. Со своей стороны, Тит Ливий (XXI, 29, 6) утверждает, что Ганнибал все еще колебался, не зная, что лучше – продолжить свой бросок в Италию или принять бой теперь же, когда за него все решили посланцы цизальпийских бойев, прибывшие в его стан с предложением союза и готовностью послужить проводниками. Только вряд ли Ганнибал нуждался в ком-то, кто принимал бы решения за него. Так или иначе, он отдал приказ о немедленном выступлении, и колонны карфагенской армии двинулись вверх по левому берегу Роны. П. Корнелий Сципион преследовать противника не стал. Едва армия Ганнибала снялась с места, как он поспешил назад, в Италию, готовиться к обороне долины По. Но войско он с собой не повел, а, поставив над ним командующим своего брата Гнея, приказал ему двигаться в Испанию для нападения на Гасдрубала. В этом решении наглядно проявилось стратегическое чутье Сципиона, который, пренебрегнув сиюминутными задачами, сумел заглянуть вперед и тем оказал немалую услугу Риму, поскольку на протяжении следующих нескольких лет Гасдрубал лишился возможности помогать подкреплением брату в Италии.
Читатель, наверное, уже догадался, что поиск точного места, где проходила переправа через Рону, могла бы существенно облегчить упомянутая источником топографическая деталь, а именно наличие того самого «островка», расположенного на 25 миль выше места переправы, благодаря которому Ганнон так удачно осуществил порученную ему часть операции. К сожалению, за двадцать два столетия, миновавшие с того дня, русло реки так изменилось, что сегодня мы уже не можем с уверенностью сказать, о каком именно островке шла речь. На эту «роль» с равным успехом могут претендовать и «остров Пибулетт», расположенный чуть выше городка Сен-Женьес-де-Комола, и «Старый остров», что находится чуть ниже Пон-Сент-Эспри. Но вот существовали ли оба эти острова в те давние времена? Поэтому историки допускают – и будут допускать до тех маловероятных пор, пока какая-нибудь решающая археологическая находка не внесет ясность в этот вопрос, – что Ганнибал пересек Рону в одном из мест, лежащих на участке от Вильнев-лез-Авиньон на юге, то есть чуть ниже слияния с Дюране, до Пон-Сент-Эспри на севере, самой крайней точкой, на которой мог остановить свой выбор Ганнибал, если он не хотел прежде времени пересекать реку Ардеш.
Переход через Альпы
Во всей античной истории нет такого события, на описание которого ученые извели столько чернил, сколько потребовал от них рассказ о переходе Ганнибала через Альпы. Не успел еще последний солдат спуститься с горного перевала, как заскрипели перья. Тит Ливий (XXI, 38, 6) уже перечисляет разнообразные версии этого перехода, обнаруженные им в разных источниках. Полвека спустя Сенека в «Вопросах естественной истории» (III, 6) также упоминал вскользь о существовании множества вариантов в изложении этого события. С начала XVI века н. э. каждый из этих вариантов удостоился отдельных ученых трудов, и литература, посвященная вопросу, стала расти как на дрожжах. В конце XIX века историк из Гренобля Ш. Шапюи насчитал триста публикаций в виде книг и отдельных статей по этой теме (С. Chappuis, 1897, р. 355). Накануне Первой мировой войны видный немецкий ученый У. Карштедт не без иронии приносил читателям свои извинения за то, что не может предоставить им исчерпывающей информации по данному предмету, поскольку живет на свете все еще меньше 100 лет и просто не успел ознакомиться со всем, что написали другие специалисты (U. Kahrstedt, 1913, р. 181). Ну а сегодня, чтобы прочитать все, появившееся в печати с тех пор, ученому немцу понадобилась бы вторая жизнь!
Мы не станем загружать читателя перечислением бесчисленных альпийских перевалов, по которым исследователи, вооруженные знанием текстов, личным опытом альпинизма и духом изобретательности, пытаются провести Ганнибаловых слонов (J. Seigert, 1988). Ссылки на отдельных авторов, которые мы включили в ход нашего повествования, позволят каждому составить себе представление об обилии предлагаемых решений. Из этого множества мы оставим одно-два, те самые, что, по нашему мнению, наилучшим образом учитывают все имеющиеся данные, а потому могут претендовать на максимальное приближение к истине. Но прежде позволим себе краткое отступление, которое, возможно, прояснит подоплеку почти болезненного, чтобы не сказать маниакального, интереса исследователей к этой проблеме.
Разумеется, такого интереса достоин сам сюжет, с древних времен, как мы уже показали, вызывавший жгучее любопытство. Через Альпы люди перебирались и до Ганнибала – именно так, например, поступили около 400 года орды кельтов, хлынувшие отсюда к Риму и докатившиеся до склонов Капитолия. Как человек, сам ходивший этим маршрутом, Полибий (III, 48), вспоминая этот и подобные ему прецеденты, склонен преуменьшать его трудности. Однако Ганнибал ведь не просто преодолел Альпийские горы – он провел через них многотысячную армию вместе с лошадьми, обозами, наконец, слонами! До него на такое не рискнул никто! Это был поступок, достойный Александра, да что там, превосходящий Александра и сопоставимый разве что с подвигами мифического Геркулеса! Начиная с Возрождения, когда невероятную популярность получили сочинения Тита Ливия, в особенности же его знаменитая «третья декада», рассказ о переходе Ганнибала через Альпы стал на долгие века настольной книгой каждого «школяра» и просто культурного человека. И вполне заслуженно. В отличие от тяжеловесного, но малосодержательного текста Силия Италика (III, 465–556) повествование Тита Ливия об альпийской эпопее Ганнибала выстроено с тонким знанием всех законов драматургии, держащих читателя в постоянном напряжении, заставляющих его сопереживать героям, вместе с ними испытывая то страх за свою жизнь, то тревогу за товарищей, то, наконец, безудержный восторг, когда весь мучительный и опасный путь через огромные горы остался позади. Примерно такими чувствами дышала и краткая речь Ганнибала, обращенная к сгрудившимся на высокой горной террасе солдатам, взорам которых за очередным перевалом вдруг открылась расстилавшаяся внизу долина реки По, тянувшаяся до самого горизонта (Тит Ливий, XXI, 35, 8–9). Литературных достоинств этого текста оказалось достаточно, чтобы то один, то другой его читатель, имеющий исследовательскую жилку, начинал чувствовать непреодолимое желание пойти и найти путь, каким прошла пунийская армия. Но не все так просто. Следы запутаны, и не кем-нибудь, а самим же Титом Ливием, который как будто ради шутки взял и смешал почерпнутые из двух разных источников описания, оставив без внимания тот факт, что источники-то толковали про два совершенно разных маршрута. И потому искать по его тексту конкретные места реальных событий – все равно что гоняться за призраком. Слишком много здесь глубоких обрывов, и крутых спусков, и скал, оголенных спустившимися лавинами, да и фирновые снега, лежащие в тени скал, здесь, на высоте двух тысяч метров, далеко не редкость. Отправляться на поиски Ганнибалова маршрута с томиком Тита Ливия в одной руке и томиком Полибия в другой – занятие столь же результативное, как, например, установление точного места битвы при Алезии, при условии, что исходными данными будут служить, с одной стороны, воспоминания Цезаря, а с другой – штабная карта.
Долиной Роны – к предгорьям Альп
Придется смириться с необходимостью и взять за основу прежде всего письменные источники, опровергая их только в том случае, если описанные в них местности и события никак не укладываются в рамки реальной географии. И начнем мы наше историко-филологическое исследование с той самой точки, где оставили Ганнибала после переправы через Рону – на левом берегу этой реки, где-то в районе Оранжа и Морнаса.
Полибий (III, 49, 5) и Тит Ливий (XXI, 31, 4) единодушно утверждают, что от места переправы Ганнибал в течение четырех дней двигался вверх по течению реки, а затем изменил маршрут. Время его торопило. Он стремился как можно дальше оторваться от армии Сципиона, первая неудачная стычка с одним из отрядов которого отбила у него всякое желание вступать с римлянами в сражение на галльской земле, впрочем, это и не входило в его планы. К тому же стоял уже конец августа, и всякое промедление грозило к естественным трудностям горного перехода прибавить еще и неприятности, связанные с плохой погодой. Представляется вполне допустимым, что четыре дневных марш-броска привели пунийское войско в район Валентин (ныне Баланс), поскольку переправа через Дрому в это время года никаких осложнений вызвать не могла. Но что по этому поводу говорят наши источники? И греческий, и латинский авторы в один голос заявляют, что Ганнибал добрался до «острова» – «Nesos» у Полибия и «Insula» у Тита Ливия – иными словами, до участка суши, образовавшегося при слиянии двух рек. Первой рекой была Рона, это ясно, но вот со второй начинаются проблемы. Отождествить ее с Изером мы можем лишь ценой корректировки как текста Полибия, осуществленной выдающимся эрудитом второй половины XVI века Скалигером, так и текста Тита Ливия, предложенной не менее выдающимся нидерландским ученым начала XVII века Ф. Клювером, который догадался прочитать «ibi Isara» там, где у Тита Ливия (XXI, 31, 4) значится «ibi Sarar». Филологам хорошо знакома такая ситуация, когда издатель античных текстов, полностью уверенный в своей правоте, исправляет ошибки в географических названиях, в данном случае в названии реки. Так, Изер под именем Изара фигурирует у Страбона (IV, 1, 11), под именем Изеры – у Флора (I, 37, 6), а тот факт, что у Тита Ливия появилась форма «Sarar», свидетельствует о невнимательности переписчика, «потерявшего» второе «i» на границе двух слов.
Что касается историков, то их, особенно тех из них, кто сам филологией не занимается, нередко возмущает подобная вольность в обращении с текстами. Такого мнения придерживается Гэвин Де Бир (Gavin De Beer, 1969, pp. 132–135), который не согласен со Скалигером, исправившим у Полибия «Skaras» на «Isaras», и считает, что историк имел в виду мелкий приток Роны под названием Эйг, впадающий в нее близ Оранжа. И все-таки мы думаем, что он ошибается, и Ганнибал подошел именно к слиянию Роны с Изером. В пользу этого предположения говорит не только тот факт, что пройденное расстояние хорошо укладывается во временной отрезок – четыре дня пути, но и ссылка – прямая у Полибия и косвенная у Тита Ливия – на то, что командир пунийцев оказался на границах владений аллоброгов. Вместе с тем надписи на памятниках, во всяком случае, оставленные в классическую эпоху, свидетельствуют, что южная окраина границы аллоброгов проходила по течению Изера, от Руайна до слияния с Роной, хотя отдельные вкрапления их поселений встречались и южнее Изера, доходя до горного массива Бельдон (в нынешней долине реки Грезиводан), а также на пространстве между Изером и рекой Бурн, в области Веркора (В. Remy, 1970, р. 207). Во времена Ганнибала эти вкрапления наверняка уже существовали, следовательно, чтобы вступить в контакт с аллоброгами, полководцу вовсе не требовалось пересекать Изер. Он не мог не понимать, что помимо мелких неудобств, связанных с лишней переправой, движение по противоположному берегу причинит ему и другие трудности, о которых мы еще скажем. В отношениях с адлоброгами Ганнибал проявил достаточно дипломатической гибкости, в частности, помог разрешить спор между двумя братьями-вождями, не поделившими между собой власть. Апеллируя к закону о праве старшего, он утвердил его превосходство над братом и в благодарность получил не только продукты, теплую одежду и обувь, но и хорошо вооруженный отряд для охраны своего тыла.
Начиная с этого момента наши авторы расходятся друг с другом. И Тит Ливий, как турист, у которого испортился компас, начинает выписывать странные зигзаги. Перечитаем фразу (XXI, 31, 9), в которой автор, не моргнув глазом, излагает предполагаемый маршрут Ганнибала: «Усмирив распрю между аллоброгами и взяв курс на Альпы, он не пошел к ним прямой дорогой, но свернул влево, в земли трикастинов; оттуда краем владений воконтинов он прошел в земли тригориев и до самой Друенции не встретил никаких препятствий». Текст совершенно ясен и исключает малейшую возможность двоякого толкования, однако он приводит читателя в полное замешательство. Во-первых, непонятно выражение «свернул влево» (ad laevam), которое может означать одно из двух: либо Ганнибал направился на запад, если за точку отсчета принять русло Роны, либо, что разумнее, на север, но уже по отношению к течению Изера. Но предписанный Титом Ливием маршрут заставляет карфагенянина двигаться на юг, даже если он вступил лишь на окраину владений трикастинов, обитавших в районе города Сен-Поль-Труа-Шато, кстати сказать, до сих пор носящем то же название. Затем автор вынуждает своего героя снова значительно подняться к северу, пересечь южную часть земли воконтиев (в нижнем течении Диуа) и вдруг, резко свернув на восток, двинуться в район Гапансе и, наконец, выйти к Дюране со стороны Амбрена.
Тит Ливий ни словом не упоминает, и ничто в его рассказе не позволяет догадаться, к какому из перевалов вышла в итоге пунийская армия. Однако не приходится сомневаться, что, «выведя» своего героя столь причудливым маршрутом в долину верховий Дюране, автор хранил в душе глубокую уверенность, что солдаты Ганнибала дальше двигались вверх по этой долине, чтобы в конце пути достичь перевала Мон-Женевр. В самом деле, вполне вероятно, что «Гераклова дорога» – через долину Дюране и перевал Мон-Женевр – с самого начала представлялась карфагенскому полководцу наилучшим маршрутом, однако мы уже показали, что легионы Сципиона, подошедшие к Марселю как раз тогда, когда он форсировал Рону, заставили его отказаться от этого варианта и предпочесть запасной, который он наверняка держал в голове и который уводил его гораздо севернее. Очевидно, какие-то слухи об этом доходили и до Тита Ливия (XXI, 38, 6), потому что он упрекает Целия Антипатра, чьи сочинения были одним из его источников и чья версия первой части северного маршрута, до слияния Роны с Изером, не вызывала у него возражений, что он якобы «заставил» Ганнибала пройти через Пеннинские Альпы (то есть валийские Альпы), а именно через «Cremonis jugum», который на самом деле является не Гримонским перевалом (не путать!), а современным перевалом Малый Сен-Бернар, расположенным в непосредственной близости от так называемой «вершины Краммона». Латинский историк отвергает эту версию по той причине, что переход через Пеннинские Альпы должен был привести Ганнибала в страну салассов, обитавших в долине Дурия (Балтейской Дуары), близ нынешнего города Аосты. Вместе с тем, утверждает Тит Ливий, известно, что он спустился с гор в стране тавринов, живших в долине Риперской Дуары, доходящей до современного Турина. Это верно, но в страну тавринов вели сразу два перевала, а Тит Ливий, как и любой его современник-римлянин, знал лишь о существовании перевала Мон-Женевр, обретшего известность благодаря Цезарю, совершившему в 58 году до н. э. обратный переход через Альпы на пути в Галлию через Бриансон, Амбрен, Гап, Ди, долину Роны и Лион (Цезарь, «Записки о галльской войне», I, 10, 3–5). Но он ничего не знал о существовании второго перевала, и скоро мы покажем, какого именно.
Кажется вполне обоснованным предположение (Е. De Saint-Denis, 1974, p. 137), что именно поход Цезаря, прославивший свой маршрут через Альпы, внушил Титу Ливию мысль о том, что этой же дорогой шел и Ганнибал. Эта идея дожила до наших дней, и даже возникло предложение назвать современную дорогу, протянувшуюся от Креста до Амбрена и пересекающую речки Ди, Вейн и Гап, Ганнибаловой, тем более что одним своим концом она упирается в так называемую Наполеонову дорогу. Эта дорога и в самом деле представляет собой отменный туристский маршрут, пролегающий через живописные окружающие пейзажи долины Дромы и Высоких Альп, не только красивый, но и комфортный – благодаря усилиям современных дорожных инженеров. Но вот только Ганнибал не был туристом, и, спрашивается, с какой стати взбрело бы ему в голову вместе с войском в сорок тысяч человек и двумя десятками слонов забавляться игрой в чехарду, прыгая по узким горным тропкам Диуа и Деволюи, где перевалы не опускаются ниже тысячеметровой отметки – как, например, перевал Кабр или расположенный чуть севернее Гримонский перевал, который, как мы уже говорили, не то же самое, что Cremonis jugum.
И ведь нашлись вполне серьезные историки, готовые последовать в этом вопросе за Титом Ливием. Отметим среди них сэра Гевина Де Бира, которого к этому, конечно, подтолкнул отказ признать справедливость исправления упомянутой Полибием реки Skaras на Isaras. Как мы помним, он считал, что Skaras соответствует речке Эйг, а «Остров» расположен в месте ее слияния с Роной. Поэтому он полагает, что дальнейший путь карфагенской армии шел через область Трикастен до начала слияния Роны с Дромой, потом по левому берегу последней тянулся до Деи (Ди); отсюда Ганнибал должен был свернуть к востоку и через Гримонский перевал и долину Гапа выйти к побережью Друенции (Дюране) и двигаться вдоль него до подножия хребта Гильестр. От этого пункта, основываясь на скорее формальном, нежели существенном споре о заметках по поводу альпийских перевалов, сделанных Страбоном, который цитирует Полибия (Страбон, IV, 6, 12; Полибий, XXXIV, 10, 18), и Варроном, британский ученый «развернул» Ганнибала в сторону Дюране, выходящей в верхнем своем течении к перевалу Монт-Женевр, откуда вниз вели два возможных пути: перевалом Мари, расположенным южнее, и, что предпочтительнее, перевалом Траверсет, проходящим недалеко от горы Визо и выводящим прямо в долину реки Гиль (G. De Beer, 1969, pp. 160–182). Превосходный знаток этой местности генерал Гийом, весьма внимательно изучивший соответствующие тексты, счел, что наилучшим решением проблемы остается все-таки перевал Траверсет, во всяком случае, для тех из исследователей, кто продолжает целиком и полностью доверять Титу Ливию (General A. Guillaume, 1967, р. 93). В пользу этого перевала, расположенного на высоте почти трех тысяч метров – 2947 метров, если быть точными, – говорит то обстоятельство, что даже летом на итальянской стороне его склонов лежит плотный слой снега, возможно, фирнового, а нам известно, что Ганнибал, приступая к спуску с гор, ведущему в долину По, столкнулся как раз с этой трудностью. Но есть и соображения против. Прежде всего сама высота перевала, который и перевалом-то назвать трудно, потому что, как за себя говорит его французское название [54]54
Уменьшительное от французского «traversee» – переход.
[Закрыть], это, скорее, узкая брешь, своего рода «окно» в толще скал, настолько неприспособленное для передвижения по нему, особенно в плохую погоду, что в конце царствования Людовика XI пьемонтский маркиз де Салюс даже приказал соорудить здесь крытый тоннель, теперь разрушенный. Поэтому мы вместе с Самивелем, еще одним исследователем этого вопроса, улыбнемся, представив себе, как армия Ганнибала стройной колонной по два, а скорее, вообще по одному, на протяжении нескольких дней «просачивается» в эту щель (Samivel et S. Norande, 1983, p. 77). Интересно только узнать, куда они девали при этом своих слонов…