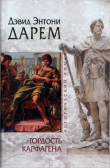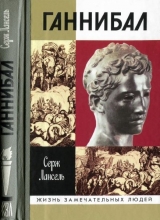
Текст книги "Ганнибал"
Автор книги: Серж Лансель
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 32 страниц)
Штурм больших Альп
Оказывается, не так просто порой сохранять логичность мышления. Тем не менее мы будем к этому стремиться, а потому вернемся вместе с Полибием к низовьям Изера, где оставили армию Ганнибала у альпийских предгорий.
Греческий историк указывает (III, 50, 1), что, перед тем как приступить к непосредственному подъему (anabole), Ганнибал в течение десяти дней двигался вдоль побережья, проделав путь в 800 стадиев, то есть 148 километров. Обычно Полибий довольно точен во всем, что касается указания расстояний, поэтому мы поверим ему и сейчас и, отмерив нужное количество километров от Пон-де-л’Изер, попадем в местечко Поншара, на северном конце речки Грезиводан. И поскольку дальше он добавляет (с ним согласен и Тит Ливий, XXI, 32, 6), что благодаря защите аллоброгов эту часть пути по все еще плоской равнине армия Ганнибала прошла без приключений, мы не станем вслед за рядом исследователей (J. F. Lazenby, 1978, р. 42) изобретать дополнительные трудности вроде столкновения с веркорами в ущелье Бурны. Хороши были бы его галльские проводники, если бы привели своего подопечного в это жуткое местечко! Собственно говоря, все наши сомнения связаны лишь с тем, каким – правым или левым – берегом Изера двигался Ганнибал. Оставшись на левом берегу, он получал то Преимущество, что не надо было форсировать реку, русло которой в месте слияния с Роной широко, а течение полноводно в любое время года, а для того чтобы встретиться с аллоброгами, как мы уже показали выше, никакой необходимости перебираться на правый берег также не существовало. Единственным неудобством движения по левому берегу оставался переход через узкую горловину, называемую Эшайон, тянущуюся от последних кряжей Веркора до теснины Вореп, а также необходимость пересечь горную речку Драк, очевидно, в районе Комбуара. Между тем Драк, в недавнее время заключенный в искусственные берега, в античности к концу лета настолько пересыхал, распадаясь на множество рукавов, что не представлял особых трудностей для переправы. Этот же путь через так называемые первые ворота Больших Альп оказался бы для Ганнибала куда тяжелей, если б он пошел правым берегом реки. Добравшись до поселения Куларон, на месте которого в дальнейшем возник Гренобль (первое упоминание о городе встретится в письме Мунация Планка Цицерону лишь в 43 году до н. э., то есть полтора столетия спустя; см. Ad Fam., X, 23, 7), а пока не было почти ничего, во всяком случае, ни одного моста, ему пришлось бы в районе нынешних «Французских ворот» следовать совсем уж узким проходом, гораздо уже Эшайона, зажатым с одной стороны течением реки, а с другой – уступами массива Шартрез, чьи известняковые скалы, именуемые «Бастилией», еще не успели тогда привлечь внимание каменоломов.
Ганнибал понимал, что не сможет все время двигаться вдоль побережья Изера, которое рано или поздно привело бы его в тупик Тарантез, откуда ему было практически не выбраться. Об этом ему, очевидно, сообщили его проводники-галлы, и это соображение стало еще одной из причин, заставивших его держаться левого берега Изера. Остается предположить, что он пересек Грезиводан, двигаясь вдоль предгорий массива Бэльдон. Близ Поншарра сопровождавший его отряд аллоброгов удалился; здесь же ему пришлось выбирать один из двух возможных вариантов дальнейшего продвижения. Между Поншарром и Монмельяном долина Изера расширяется, образуя просторную котловину в несколько километров с влажной, чтобы не сказать болотистой почвой, что объясняется близостью слияния рек Бреды и Желоны. Поэтому античные «альпинисты», как правило, предпочитали на высоте Поншарра Изера перебираться из долины в узкую долину Бреды, а миновав Ла Рошетту, перейти в долину Желоны, чтобы отсюда выйти к левому берегу реки Арк в районе Монжильбера (R. Dion, 1960, pp. 55–56). В начале нынешнего века у некоторых исследователей даже возникло предположение, что Ганнибал, стремясь сэкономить два дня пути, от Ла Рошетты двинулся через небольшой массив Юртиер и пересек перевал Гран-Кюшрон, выводящий в верхнюю долину Арка в районе Эгбель (P. Azan, 1902, р. 107). Строить подобные предположения можно только в одном случае: если напрочь забыть, что в горах прямой путь далеко не всегда самый короткий. Поэтому гораздо более вероятно, что Ганнибал продолжал следовать вдоль русла Изера до его слияния с Арком, избегая глубоких оврагов, изрывших дно долины, и держась для этого окаймляющих ее с обеих сторон низких горных террас (Е. De Saint-Denis, 1974, p. 140). Где-то здесь, то ли в ущелье Этон (С. Jullian, 1920, р. 480), то ли в расщелине Эгбель (Е. De Saint-Denis, 1974, p. 141), когда отряд аллоброгов уже покинул пунийское войско и вернулся назад, в родные места, произошла первая за время перехода через Большие Альпы вооруженная стычка, описанная Полибием (III, 50, 3), рассказ которого заимствует Тит Ливий (XXI, 32, 8). Теперь у Ганнибала не оставалось других проводников кроме галлов-бойев, которые, как мы помним, присоединились к нему во время переправы через Рону.
Поднимаясь вверх по долине Арка, после Мориена Ганнибал двигался по все более узким проходам. Растянувшаяся змеей армия делалась в этих условиях весьма уязвимой для нападения. Не без злорадства Тит Ливий (XXI, 34, 1) отмечает, что пунийцы серьезно рисковали в это время пасть жертвой собственных излюбленных приемов – военной хитрости и засады. Примерно на половине пути по долине это и случилось. Если б не предосторожности, предпринятые главнокомандующим, который всю кавалерию пустил вперед, за ней направил обозы и слонов, а замыкать колонну предоставил тяжелой пехоте, его армии здесь же и настал бы конец. Но и так потери оказались значительными, и Полибий в качестве подробности сообщает даже (III, 53, 5), что Ганнибалу пришлось провести целую ночь с отрядами арьергарда отрезанным от кавалерии и обозов, найдя укрытие под огромным одиноким утесом. Пусть читатель сам вообразит, какие муки претерпели исследователи, понапрасну разыскивая в горах этот уникальный утес!
Наконец, на девятый день с начала подъема (Полибий, III, 53, 9; Тит Ливий, XXI, 35, 4) Ганнибал взошел на вершину перевала. Полибий сообщает, что стояли последние дни перед уходом Плеяд. Для людей античности, читавших ночное небо с такой же беглостью, как мы читаем свои календари, заход Плеяд в первые числа ноября означал приближение зимы, во всяком случае, если верить Гесиоду. Следовательно, к концу подходил октябрь, и на горные вершины уже лег первый снег. Ганнибал разбил лагерь и в течение двух дней поджидал, пока подтянутся отставшие в пути люди и животные. Когда все наконец собрались, он, стараясь морально поддержать своих измотанных воинов, с высоты своеобразного «балкона» указал им на расстилавшуюся внизу землю Италии.
Однако трудности еще далеко не кончились. Тит Ливий совершенно справедливо отмечает, что спуск по италийскому склону Альп хоть и короче, но зато и круче всех прочих. К начальному этапу этого спуска и относится эпизод, описанный обоими нашими авторами с поразительным единообразием (Полибий, III, 54, 5-55; Тит Ливий, XXI, 36–37). За точностью деталей, за конкретикой поступков и отношений видна рука Силена – личного историографа Ганнибала, который сопровождал его и день за днем вел подробную запись всех приключившихся событий. Впрочем, в отличие от Полибия, рассказ которого отличается меньшей подробностью, но большей связностью, латинский историк видел описываемые им события через искаженную призму повествования Целия Антипатра, у которого, по-видимому, и заимствовал историю про уксус (G. De Sanctis, 1917, pp. 77–78). Итак, войско Ганнибала добралось до мест, где тропа делалась такой узкой, что по ней с трудом протискивались даже мулы, не говоря уже о слонах. У Полибия об этом сказано яснее, у Тита Ливия туманнее, однако речь, в сущности, идет об одном и том же: карфагеняне столкнулись с оползнем, превратившим и без того крутой спуск в настоящую пропасть, по склонам которой шли узкие ступенчатые уступы, не способные удержать даже лошадь. Они попытались спуститься по противоположному, теневому склону, но здесь их поджидала трудность другого рода, хоть и не менее серьезная. Тонкий слой вновь выпавшего снега совершенно засыпал зернистую поверхность фирна, по которому люди, не видя опасности, начинали внезапно скользить, а вьючные животные, пробивая копытами наст, оказывались в настоящей ловушке. Ганнибал решил вновь вернуться к солнечному склону и вручную разобрать завал, преградивший сносную дорогу. Тит Ливий уверяет, что для облегчения своей задачи солдаты обильно поливали каменные скалы уксусом. Эта подробность вызвала среди ученых немалые споры. Правда, Полибий Обходит ее полным молчанием, однако в дальнейшей римской традиции она дошла до Аммиана Марцеллина. Проблема тут заключается не в уксусе, так как мы хорошо знаем, что в античности любая армия брала его в поход в больших количествах – и для питья, и для ухода за оружием, а в отсутствие дров – для костров, без которых операция была бы невозможной. Где это, любопытно знать, солдаты Ганнибала отыскали на этих горных кряжах те «гигантские деревья», о которых пишет Тит Ливий (arbores immanes – XXI, 37, 2)? Как бы там ни было, испытания подходили к концу. Перед последним этапом пути войско остановилось для отдыха.
Нам же осталось лишь определить исторический перевал, которым Ганнибал спустился в долину. Именно в этом вопросе в наибольшей степени проявили свой дух изобретательства профессиональные историки, исследователи-любители и эрудированные краеведы; именно эта тема стала главным сюжетом обширной литературы, уходящей корнями в плодородную альпийскую «почву». Впрочем, мы уже отсекли наиболее спорные варианты и благополучно «довели» армию Ганнибала до верхней долины Мориены. Пройдя ее до конца, миновав Модану, миновав деревушку Брамане, он должен был выйти в район Мон-Сенис, откуда открываются три дороги, между которыми и разделились симпатии исследователей. В рядах их славной когорты мы обязаны особо выделить врача и альпиниста из Гренобля Марка де Лавис-Трафор, который посвятил решению этой загадки многие годы своей жизни и в середине нынешнего века, кажется, его нашел. Искомый перевал, рассуждал он, должен удовлетворять определенному числу характерных особенностей, описанных в сохранившихся источниках. Очевидно, проще всего было бы «обежать» все окрестные кряжи с книжкой в руке; однако понятно, что такой поиск наугад вряд ли принес бы ощутимые результаты. Гораздо разумнее было, опираясь на достаточно точно установленные историко-филологические данные, заранее очертить некоторый вероятный сектор, удовлетворяющий заданным условиям.
Два перевала особенно привлекали внимание ученых: Малый Мон-Сенис и, особенно, перевал Клапье (Е. Meyer, 1958, р. 241; R. Dion, 1962, р. 538; W. Huss, 1985, р. 305). Однако после тщательного осмотра обоих горных участков Лавис-Трафор отдал предпочтение соседней с Клапье котловине, похожей на первую, находящейся на той же высоте (2482 метра) и отстоящей от нее всего на несколько метров. Это был перевал Савин-Кош. Он и в самом деле отвечает всем описанным в источниках критериям, включая особенности, которых лишен перевал Клапье. Здесь, в самом начале спуска, ведущего к Италии, имеются и насыпи обвалов, и область фирновых снегов, доставившая столько затруднений Ганнибалу, и чуть дальше – залитый солнцем альпийский луг, на котором отдыхали утомленные люди и животные. Таким образом, теперь мы можем полностью восстановить предпоследнюю фазу этого наитруднейшего перехода. По-прежнему следуя указаниям своих проводников-бойев, Ганнибал покинул долину Арка близ Браманса и повернул направо, к ложбине Амбен, в том месте, где теперь стоит прекрасная романская часовня Сен-Пьер д’Экстраваш, словно веха, отмечающая славный путь карфагенского полководца. Затем он спустился в ложбину Савин и устроил здесь, на берегу озера, стоянку – последнюю перед спуском. Между двумя котловинами-близнецами, Клапье и Савин-Кош, тянется возвышенность, с италийской стороны нависающая над руслом речки Кларе, впадающей в Риперскую Дуару чуть выше городка Сюза; отсюда, из низких речных долин, уже виднеется вдали Пьемонт.
Старания французского эрудита не прошли незамеченными и удостоились высокого признания. В 1961 году, уже после кончины энтузиаста, перевал Савин-Кош был официально переименован и в честь исследователя-любителя назван «проходом Лавис-Трафора». Но, наверное, еще большее удовлетворение ему принесло бы известие о том, что виднейший цюрихский специалист по этой проблеме признал его правоту и отказался от своей прежней версии маршрута Ганнибала через перевал Клапье в пользу перевала Савин-Кош (Е. Меуег, 1964, pp. 99-101).
Глава IV. Молниеносная война: от Требии до Канн
На первом этапе этого предприятия Ганнибал употребил свой стратегический гений главным образом на запутывание следов и захват противника врасплох. Мы помним, что П. Корнелий Сципион после короткой стычки с одним из отрядов Ганнибала, убедившись, что карфагеняне двинулись вверх по течению Роны и направились в сторону Альп, не стал их преследовать. Оставив основные силы своей армии брату Гнею, который в соответствии с первоначальным планом получил приказ вести ее в Испанию, Корнелий Сципион срочно вернулся в Пизу, сделав по пути краткую остановку в Генуе (Полибий, III, 56, 5; Тит Ливий, XXI, 32, 5; 39, 3). Пока карфагенский полководец пробирался со своими солдатами узкими альпийскими долинами, Сципион успел пересечь Этрурию, принять командование малоопытным войском преторов Л. Манлия Вулсона и Г. Атилия Серрана, все еще не оправившимся после поражения, которое нанесли им бойи. С этими силами Сципион двинулся к долине По и разбил лагерь в Плаценции (ныне Пьяченца), на берегу реки.
Достаточно взглянуть на карту, чтобы убедиться: сосредоточив здесь свое войско, Сципион пребывал в полной уверенности, что пунийцы спустятся с гор гораздо севернее, той дорогой, что ведет от Аоста долиной Балтейской Дуары. Единственным известным в то время перевалом, ведущим из страны кельтов в край тавринов, оставался перевал Мон-Женевр, и нет ничего удивительного в том, что римский военачальник ожидал появления Ганнибала со стороны Пеннинских Альп, у перевала Малый Сен-Бернар. Со своей стороны, Ганнибал знал от бойев, что римлянам неизвестен второй проход через Альпы, в районе Мон-Сенис, и он использовал это обстоятельство себе на пользу. Военная история Больших Альп вообще богата подобными «играми в прятки». В начале XVI века н. э. аналогичный маневр, только в обратном направлении, совершил Франциск I, что и помогло ему одержать победу в битве при Мариньяне (Меленьяно). Получив донесение, что швейцарцы ждут его возле перевала Мон-Женевр, он прошел через перевал Ларш. Ганнибалу аналогичная уловка позволила получить временную передышку и дать своим людям отдохнуть и набраться сил. Полибий (III, 60, 6) и Тит Ливий (XXI, 39, 1–2) поведали нам, в каком состоянии находилось наполовину растаявшее карфагенское войско – вспомним цифры, выбитые на стеле мыса Лациний: 20 тысяч пехотинцев и шесть тысяч всадников. Спустившись с гор, эти люди, измученные лишениями и опасностями сурового перехода, больше походили на дикарей, чем на солдат. Некоторое время спустя пунийцы захватили столицу тавринов, вероятно, будущий город Августа Тавринская (ныне Турин), взяв его после трехдневной осады. Для пущего устрашения перерезали всех жителей, оказывавших сопротивление. Но в подобной жестокости имелся свой глубокий смысл, который ясно понимал Полибий. Он поясняет, что галлы, обитавшие в долине По, занимали выжидательную позицию. В принципе они склонялись на сторону пунийцев, однако близость римских легионов заставляла их проявлять осторожность. Это хорошо сознавал и Ганнибал, которому нельзя было медлить с привлечением союзников.
Известие о том, что Ганнибал уже в Италии, мало того, уже успел захватить Таврин, вызвало в Риме род столбняка. Из Сицилии срочно вызвали второго консула Тиберия Семпрония Лонга, ранее отправленного в Лилибей для подготовки похода в Африку. За несколько месяцев, проведенных на острове, он развил бурную деятельность, заручился поддержкой сиракузского тирана Гиерона и с его помощью создал не только в Сицилии, но и на Эолийских островах целую систему укреплений против возможного вторжения пунийского флота. Затем он захватил остров Мальту, гарнизон которой сдался без боя. Однако теперь обстоятельства решительно изменились. Думать о войне в Карфагене уже не приходилось, потому что пожар начался в родном доме. В середине ноября, оставив Сицилию на попечение претора М. Эмилия, а охрану побережья Южной Италии с ее 25 военными судами его помощнику Сексту Помпонию, Семпроний вместе с войском прибыл на берега Адриатики, в город Аримин (ныне Римини).
Первое столкновение близ Тицина (ноябрь 218 года)
Семпроний еще не успел соединиться с войском Сципиона, когда произошло первое вооруженное столкновение обоих вражеских армий. Сципион перешел реку По и двинулся к западу, навстречу армии Ганнибала. Реку Тицин он преодолел по наскоро возведенному мосту, возле которого оставил для охраны небольшой отряд. Ганнибал в это время двигался по противоположному берегу По, так что, если верить Полибию (III, 65, 1), у римлян река оставалась слева, а у карфагенян справа. Накануне первого серьезного столкновения, имевшего огромное моральное значение, оба главнокомандующих старались максимально разжечь в своих солдатах боевой дух. Конечно, Ганнибал рисковал несравненно крупнее: ему приходилось идти ва-банк. В случае тяжелого поражения война для него закончилась бы, практически не начавшись. Напротив, победа гарантировала ему поддержку галлов, которые все еще наблюдали за развитием событий со стороны, а вместе с этой поддержкой у него появились бы и средства для продолжения военной кампании. Особое внимание, как свидетельствуют Полибий и Тит Ливий, он уделял психологической подготовке воинов, и последняя отнюдь не ограничивалась произнесением пламенных речей. Так, накануне Тицинской битвы Ганнибал «срежиссировал» для своих солдат целый спектакль. Перед солдатским строем собрали группу молодых галльских горцев, захваченных в плен во время перехода через Альпы, и заставили их тянуть жребий. Так было отобрано несколько пар, которым предоставили оседланных коней и знакомое каждому оружие. Затем им приказали биться друг с другом в смертельном поединке, причем победивший автоматически вливался в ряды пунийской армии [55]55
Этот знаменитый поединок изложен в книге, несколько неясно. В нем участвовали пленники, захваченные во время перехода через Альпы. Из них были специально отобраны самые молодые и выносливые для этого своеобразного спектакля. «К этому моменту Ганнибал подготовил их жестоким обращением: пленников держали в тяжелых оковах, мучили голодом, тела их были измождены ударами». Ганнибал велел вывести на середину лошадей, вынести великолепное оружие и плащи. «После этого Ганнибал спросил у юношей, кто из них желает вступить в единоборство друг с другом с тем, что победитель получит в награду выставленные предметы, а побежденный найдет в смерти избавление от удручающих его зол. В ответ на это все громко заявили, что желают идти на единоборство. Тогда Ганнибал приказал бросить жребий… Юноши подняли руки и молились, ибо каждый из них жаждал вытянуть жребий. Когда решение стало известно, вытянувшие жребий ликовали, а прочие печалились. По окончании поединка оставшиеся в живых пленники одинаково благословляли как победителя, так и павшего в бою, потому что и этот последний избавился от тяжких страданий, какие им самим предстояло терпеть еще. Подобные чувства разделяло большинство карфагенян: они раньше видели страдания уцелевших пленников, которых теперь уводили с собрания, и жалели их, а умершего все по сравнению с ними почитали счастливцем» (Полибий, III, 62).
[Закрыть].
На пленников, наблюдавших за этими «дуэлями» в качестве зрителей, увиденное произвело самое тягостное впечатление. Победителям, пишет Полибий, сочувствовали больше, чем убитым, для которых все несчастья закончились раз и навсегда. Но самое главное – на это и рассчитывал Ганнибал, устраивая свой «сеанс шоковой психотерапии», – что похожий ропот поднялся и в рядах карфагенян, поначалу глазевших на схватки пленников с любопытством, но постепенно проникшихся жалостью к их судьбе. Как и пленные галлы, солдаты склонялись к единодушному мнению, что убитым повезло гораздо больше, чем живым, потому что их самое худшее еще ждало впереди.
Вот тогда Ганнибал и выступил перед армией с речью, содержание которой кратко изложено у Полибия и подробно у Тита Ливия, но по смыслу одинаково у обоих авторов, что позволяет надеяться на ее достоверность, хотя бы в общих чертах. По всей видимости, приблизительно в таком виде ее зафиксировали официальные историографы Ганнибала. Зрелище, которое предстало всем взорам, говорил, обращаясь к солдатам, главнокомандующий, есть наглядное воплощение их собственной судьбы. Обратного пути нет, ибо за спиной остались Альпы, преодоленные ценой неимоверных усилий. Так что выбор невелик: победить, умереть или попасть живым в руки врагов. И поскольку последняя возможность не достойна даже того, чтобы о ней говорить, значит, нужно, презрев смерть, отыскать в себе столь великую волю к победе, какой бессмертные боги никогда еще не даровали простым смертным (Тит Ливий, XXI, 44, 9).
Ганнибал заранее просчитал, что особая роль достанется его кавалерии, и потому в последний момент призвал к себе Магарбала с пятью сотнями нумидийцев, по его приказу совершавших набеги на земли союзных Риму народов, стараясь при этом не задевать галлов. Для них он приготовил еще одну, особенную речь, в которой расписал, какая награда ждет их за военную доблесть. Каждому из них командир обещал земельный надел в любой стране по выбору – Италии, Испании или Африке, – свободный от уплаты налогов для них самих и их наследников; каждому гарантировал по желанию получение карфагенского гражданства; рабам, служившим в войске вместе с хозяином, сулил свободу, а хозяевам в качестве компенсации обязался предоставить двух рабов вместо одного. Затем, схватив в левую руку ягненка, а в правую камень, он, как пишет Тит Ливий (XXI, 45, 8), вознес молитву «Юпитеру и другим богам», возможно, тому же пантеону, который позже будет упомянут в его знаменитой клятве, и призвал их поступить с ним, если он нарушит свое слово, так же, как он поступает с ягненком, – и при этих словах он единым ударом размозжил животному голову. Самое замечательное в этом эпизоде то, что сообщает о нем не Полибий, для которого все эти разглагольствования о богах и страшных карах не представляли никакого интереса, а Тит Ливий, сурово и непреклонно заклеймивший ранее безбожие и нечестивость карфагенского полководца.
Битва, неправильно именуемая Тицинской, на самом деле разыгралась чуть севернее левого берега По, там, где река описывает довольно обширную петлю между своими притоками Сесией и Тичино, примерно на равном расстоянии от обоих. В сущности, это была даже не битва, а краткая кавалерийская стычка, происшедшая, как принято считать, в окрестностях Ломелло. Обе армии разбили лагерь относительно недалеко друг от друга. Сципион с отрядом всадников и пращников двинулся на разведку сил противника и столкнулся с отрядом Ганнибала, выехавшим с той же целью. Римские пращники, не выдержав натиска карфагенян, отступили в «коридоры», специально оставляемые между кавалерийскими турмами. У Ганнибала тяжелая кавалерия занимала центр, а с обоих флангов располагались нумидийцы, в чью задачу входило окружение врага. Именно это и случилось. Прорвав римский строй, нумидийцы легко обошли его с флангов и ворвались во вражеский тыл, перебив пращников. Римская конница довольно долго сдерживала натиск африканцев, которые понесли значительные потери, однако, когда с тыла на нее налетели нумидийские эскадроны, дрогнула, а вскоре уже в панике бежала, разбившись на небольшие группы.
Те, кому удалось вырваться живым из этой передряги, собрались вокруг своего командира. Сципион в это время нуждался в помощи как никто. Консул получил в бою тяжелую рану и едва не попал в плен к нумидийцам. Спас его, как сообщает Тит Ливий, его родной сын, будущий Публий Африканский, тогда 18-летний юноша, впервые в жизни участвовавший в военном сражении. Правда, дальше Тит Ливий честно добавляет (XXI, 46, 10), что, по мнению Целия Антипатра, честь спасения римского консула на самом деле принадлежала некоему лигурскому рабу. По всей вероятности, так история спасения Сципиона выглядела в изложении карфагенского летописца Силена, и не исключено, что так оно и было на самом деле. Любопытно также, что Полибий, рассказывая о схватке, обходит эту подробность молчанием, чтобы вернуться к ней гораздо позже, когда перед отбытием Публия Африканского на завоевание пунической Испании в 210 году он представит своего героя читателю в самых восторженных выражениях (X, 3). По его словам, он слышал эту историю от Лелия Старшего – не путать с его сыном, носившим такое же имя, неразлучным другом Сципиона Эмилиана, часто упоминаемым в диалогах Цицерона, – вспоминавшего, как молодой человек один не побоялся броситься в гущу врагов и отбить своего отца. Нельзя не заметить в этом рассказе того духа безудержного восхваления, который очень рано начал окружать все деяния Сципиона Африканского и который создавался, как мы вскоре убедимся, не без участия самого заинтересованного лица [56]56
О том, что юный Сципион спас своего отца, рассказывает сам Полибий, непререкаемый авторитет для нашего автора. Нет никаких сколько-нибудь разумных соображений, позволивших бы отвергнуть это свидетельство.
[Закрыть].
Ганнибал постарался извлечь все возможные дивиденды из своего первого военного успеха, хотя стремительное отступление Сципиона лишило его более крупного выигрыша. Действительно, римский консул незамедлительно отступил подальше от Тицина, переправился на другой берег По и встал лагерем неподалеку от Плаценции, западнее Требии. Сципион отступал так проворно, что бросившийся вдогонку за ним Ганнибал не успел даже воспользоваться наведенным римлянами временным мостом через Тицин, уже разрушенным. Правда, ему удалось захватить в плен несколько сот римских солдат-строителей, остававшихся на западном берегу реки. После этого он в течение двух дней поднимался вверх по северному берегу По, пока не нашел подходящего места для наведения мостов. Поручив организацию переправы своему помощнику Гасдрубалу, сам он немедленно перебрался на южный берег, где встретился с посланцами галлов. Период выжиданий для них, похоже, закончился, и теперь они буквально летели «на помощь» победителю, предлагая запасы продовольствия и воинские подкрепления. Таким образом, все пока шло, как было задумано. Мало того, когда съестные припасы у пунийцев стали подходить к концу и они уже собрались напасть на Кластидий (ныне Кастеджио), расположенный в десятке километров южнее По, где римляне устроили крупный хлебный склад, комендант крепости, некто Дасий, уроженец Брундизия, что в мессапских землях Калабрии, сдал им город добровольно. Возможно, в предательстве этого человека решающую роль сыграло как раз его южноиталийское происхождение. Не зря же карфагеняне в течение долгих лет вели в этих краях активную пропаганду, и не случайно именно здесь Ганнибалу в дальнейшем удастся добиться наиболее впечатляющих политических успехов (С. et G. Picard, 1970, p. 239; J.-P. Brisson, 1973, p. 172). Капитуляция Кластидия нанесла Риму тем больший удар, что всего четырьмя годами раньше, в 222 году, покорение этого города знаменовало собой одну из самых ярких побед Марцелла над цизальпинскими галлами. Карфагенский главнокомандующий принял перебежчиков с распростертыми объятиями и заполнил с их помощью бреши в своих рядах. Два дня спустя после переправы через По он уже разбил лагерь в нескольких километрах от лагеря Сципиона, также западнее Требии.