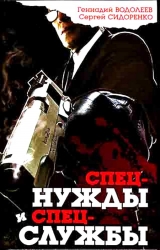
Текст книги "Спецнужды и спецслужбы"
Автор книги: Сергей Сидоренко
Соавторы: Геннадий Водолеев
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 22 страниц)
А вот выходцы из семей потомственной научной, творческой интеллигенции, из семей кадровых военных, чьи предки несколько поколений служили Отечеству, не только не помышляют, как правило, о возможности спасения своей карьеры, жизни изменой, но и не идут на это зачастую под жесточайшими пытками. Ибо для людей высоконравственных, духовных изменить долгу, присяге – изменить всему самому значимому и дорогому в жизни: памяти предков, родителям, друзьям, идее.
Предать для людей такой генерации – разрушить представление о сущностях, составляющих мировоззренческую основу самого себя. Попросту – совершить акт позорного самоубийства, которое никто из дорогих людей не оправдает. Подобное же идейное «самосостояние» – вещь несокрушимая в живом человеке.
Безусловно, часто неосознанное ощущение нерасторжимого духовного родства со своим народом, родиной присуще множеству представителей всех сущих сословий, включая даже социально отверженных. Но проявляется это, как правило, в минуту всеобщей беды, неотвратимой смертельной опасности для всей своей нации. Это чувство редко просыпается в условиях, когда человек сам по себе отбивается в одиночку от одному ему грозящих бед.
В нациях с высоким уровнем образования, с вековыми традициями семейного, культурного воспитания не в пример больше тех, кто мировоззренчески, духовно вполне состоятелен, прекрасно осознаёт свою общность, духовное родство со всей нацией. Здесь и в спецслужбы приток людей более духовно зрелых несравненно выше, чем «среднестатистический» в иных странах.
Известно, к примеру, что во время Второй мировой войны американские войска столкнулись с феноменом, когда японские солдаты в массе своей бились до последнего, предпочитая смерть сдаче в плен. Как и предписывал свод правил воина-самурая многовековой давности, на котором воспитывались военные Японии. Следование которым создавало у нации стойкое уважение и к самим военным.
Идея служения нации присутствует, и весьма ощутимо, в жизнедеятельности всех фрагментов элиты японского общества. С впечатляющими зримыми, благотворными практически для каждой социальной группы результатами.
Столь же подвержено идее служения государству и народу высокоидеологизированное сознание китайцев. Почти наверняка в этих странах иностранные разведки испытывают серьёзнейшие трудности с обретением агентуры, значимых агентов влияния в среде элиты.
В большинстве других стран, где в сознании подавляющего числа людей нет идеи общности национальной судьбы, ощущение общенационального духовного родства, ситуация совершенно иная и в спецслужбах. Из-за крайней разобщённости индивидов, в одиночку выбивающихся в жизни, слабая мотивация служения Отечеству сильно облегчает богатым иностранным разведкам вербовку агентуры в том числе и в самих спецслужбах.
Предательство предательству – рознь. Одно дело – бежавший на Запад резидент ГРУ Резун, другое дело – работник центрального аппарата КГБ Митрохин (обоих роднит только рабочее-крестьянское происхождение, так высокого ценившееся в СССР, прежде всего при приёме в КПСС):
«В марте 1992 года в английское посольство в Риге, недавно ставшей столицей независимой Латвии, позвонил человек в потрёпанном пиджаке. Когда его впустили, он предъявил паспорт на имя Василия Никитича Митрохина и заявил, что он – бывший сотрудник КГБ и в его распоряжении находятся тысячи секретных документов из архива этого ведомства… Большую часть службы в КГБ Митрохин провёл в незаметной должности архивариуса первого главного управления КГБ.
Папки с делами, которые проходили через его руки, содержали подробности зарубежных операций КГБ, имена агентов и донесения резидентов. В 1984 году коллеги проводили Василия Никитича на пенсию. И никто из них не знал, что целых 12 лет полковник Митрохин копировал документы из секретного архива и выносил из здания на Лубянке. Дома он перепечатывал только ему понятные закодированные письмена, помещал их в контейнеры (в просторечии в бидоны из-под молока) и закапывал в саду своей подмосковной дачи.
Его домашний архив составил 25 тысяч страниц убористого текста. Аналитики британской «Интеллижент сервис», разобравшие архив Митрохина, не могли поверить своей удаче. Как заметил, один из них, «если бы на Запад бежал глава КГБ, он обладал бы гораздо меньшей секретной информацией»… Из истории мы знаем, что и в царской охране были офицеры, бескорыстно помогавшие революционерам свергнуть самодержавие».[17]17
Ефим Барбан. «Диссидент с Лубянки». «Московские новости». 23.09.2005 г.
[Закрыть]
Что же мотивировало предательство полковника КГБ Митрохина, 8 лет уже находившегося на пенсии, человека с вполне сложившейся и весьма благоприятной биографией?
Кроме глубоко уязвлённого в годы службы в органах безопасности самолюбия (40-летнего сотрудника в расцвете сил и полного надежд не просто так ведь «задвинули» в архив), неудовлетворённого тщеславия и корыстолюбия, никакие иные мотивации здесь не имели места. Тем более, что с 1992 года и началось хищническое разграбление госсобственности СССР, прежде всего столичной высшей советско-партийной номенклатурой – было кого брать в пример.
А сколько ещё в структурах нынешнего ФСБ тех, что потенциально готовы были бы повторить «подвиг» Митрохина, не знает никто. Но, судя по тому, что донесли до нас только в последние годы СМИ (российские и зарубежные) об участии иных высших чинов служб госбезопасности РФ в контрабанде на миллионы и десятки миллионов долларов, об их участии в банковских и иных финансовых аферах, о неисчислимых количествах иных корыстных должностных правонарушений сотрудников ФСБ, ФСО, пограничной службы и других, корысть, как одна из самых могущественных мотиваций частной деятельности «государевых слуг» живёт в их среде и процветает.
Форм же измены государственным интересам, охране которых присягают все офицеры спецслужб, существует множество. И не все они связаны со сдачей врагу агентуры, иных секретов разведки. Только чуть менее эффективны по ущербу государству популярное ныне разворовывание бюджетных средств, «крышевание» множеству многочисленных мошеннических кодл правительственных чиновников и многое другое подобное. Так что, митрохинское «крапивное семя» буйным цветом произрастает на кадровых грядках и нынешних российских спецслужб.
Работа же по укреплению чувства служебного долга в органах госбезопасности акцентируется ныне не столько на отборе наиболее качественного человеческого материала (весь, как правило, второсортный), а сколько на усилении, усложнении внутрикорпоративного «спецнадзора за спецконтролем».
Что редко приводит к положительным результатам, чаще – росту конфликтности, подозрительности и противоборству внутри спецслужб. С чем совладать практически невозможно: козни, подставки, расправы с врагами-сослуживцами происходит всегда под лозунгами борьбы с предательством, отступничеством, нерадением, терпимостью к «врагам Отечества». Чему противиться особо желающих нет и в среде руководства спецслужб.
Внутрикорпоративный «присмотр» за собственными сотрудниками в спецслужбах обязателен, сложен, трудоёмок и требует изрядной аккуратности – чтоб не перегружать и без того напряжённую психику личного состава. Но как бы ни был многопланов, сложен и эффективен внутрикорпоративный «спецконтроль» спецслужб, наиболее профессионально, с «полной выкладкой» он в состоянии работать только против самого низшего уровня оперативных сотрудников.
Но уже, начиная со среднего командного состава, возможности «спецконтроля» идут на убыль: и народ здесь тёртый, весьма искушённый, знающий, как правильно мотивировать все свои подозрительные действия. И личных друзей-врагов у работников «спецконтроля» здесь достаточно, что не позволяет им действовать, как надлежит по законам оперативной работы.
Ещё хуже дело обстоит с присмотром за генералитетом спецслужб: возможностей у тех оторвать головы сотрудникам собственного «спецконтроля» немереное количество, сплочённость в генеральской среде весьма высока да и оставшиеся на должностях почти обязательно отомстят. Потому трогать по пустякам многозвёздные генералы спецслужб своих малозвёздных соратников не будут – те знают о корпорации столько (в частности о своих руководителях) малоприятного, что ссора обойдётся для всех чрезвычайно дорого.
Есть и ещё обстоятельства, весьма затрудняющие работу внутреннего контроля спецслужб против подозрительно ведущих себя собственных генералов: многие из них намертво связаны с высокопоставленными действующим политиками, у которых достаточно власти, чтобы убрать наиболее враждебных своим друзьям-генералам коллег. Тем более, что проштрафившиеся дадут для этого достаточно компрометирующих материалов на своих не в меру ретивых недоброжелателей-руководителей.
Сильно мешает нормальной, продуктивной работе внутрикорпоративного «спецконтроля» также ещё одно неустранимое обстоятельство: повсеместное использование служб собственной безопасности их начальниками для упреждающего сбора компрометирующих сведений на конкурентов по карьере, коллег, поддерживающих тесные дружеские связи с кланами политических оппонентов.
В силу упомянутых обстоятельств, во избежание недоразумений и ненужных объяснений с подчинёнными руководителями службы собственной безопасности, на эту должность, как правило, начальники структурных подразделений спецслужбы назначают тех из своих старых соратников, кому могут полностью доверять.
Те же, в свою очередь, подбирают для особо деликатной работы группу тоже из особо близких соратников по прежним должностям. Но и этим множество специфических сторон сложных взаимоотношений отнюдь не заканчиваются. К примеру, нужно быть весьма деликатными с сотрудниками, вышедшими на пенсию. «Отставников» в любом звании нежелательно обижать и потому, что те могут от обиды серьёзно помочь любым оппонентам своих обидчиков. Или потому, что вдруг решат засесть за мемуары втайне от своих бывших соратников и донести до широкой общественности излишне откровенно сведения о нежелательных для огласки некоторых методах работы спецслужбы.
Проблемы почти со всеми бывшими сослуживцами возникают сразу – народ стремится устроиться там, где денежней и быстро часто поэтому оказываться в структурах и фирмах, которые сами являются объектами внимания спецслужб (филиалы иностранных фирм, банков, легальные структуры, контролируемые организованной преступностью, иностранными спецслужбами).
Кроме того, мало сотрудников уходит на пенсию, храня в душе тепло или даже любовь к своей бывшей «конторе». Скорее бывает совсем наоборот. И эти-то глубоко недружественные чувства очень быстро дают о себе знать в формах и методах вполне успешного противостояния усилиям здравствующих сотрудников спецслужб. Что требует изрядных дополнительных усилий в работе или проведения специальных «разъяснительных» мероприятий, чтобы урезонить своих особо ретивых бывших коллег.
Напрягаться собственной службе безопасности особо приходится во взаимоотношениях со своими «бывшими» и в случаях, когда последние начинают нанимать на решение своих служебных проблем на новом месте работы действующих сотрудников с помощью впечатляющих сумм наличности или иных форм проплат.
Но чаще всё-таки взаимодействия «бывших» с действующими сотрудниками складываются вполне конструктивно в обоюдных интересах и отслеживать эту сторону деятельности спецслужб вполне удаётся их руководителям, не прибегая к помощи услуг «спецконтроля за спецнадзором». О различных же курьёзных случаях специально говорить особой необходимости нет и по причине того, что это на многообразные лады зрелищно интерпретировано кинематографом, особенно зарубежным.
И в нынешние дни спецслужбы практически всех стран корёжит от множества кадровых проблем, издержек работы «по подбору, расстановке и воспитанию кадров»: «Фильм «Сириана», обличающий методы ЦРУ на Ближнем Востоке, выйдет в российский прокат в конце февраля… В США этот политический триллер уже стал частью общественной кампании против малопривлекательных действий ЦРУ в регионе.
От этой кампании теперь трудно отмахнуться, поскольку герой фильма – офицер ЦРУ (его играет Джордж Клуни) – сам принимает активное участие в критике своего бывшего работодателя… Недовольство деятельностью ЦРУ подтолкнуло его написать автобиографичную книгу «Не вижу зла»… В интервью обозревателю «Новой», руководителю Agentura.Ru Андрею Солдатову, Бэр рассказывает о том, что сегодня происходит с американскими и российскими спецслужбами на Ближнем Востоке…
– Существует мнение, что российские спецслужбы традиционно сильны на Ближнем Востоке. До 2000 года всё руководство СВР имело опыт работы на Востоке – от Примакова до Трубникова. Вы работали в этом регионе, как вы оцениваете позиции российской разведки?
– Русские очень хороши в тех странах, которые их интересуют. Египет, Сирия, Ливан, Ирак. Но в странах, которые для них менее важны, как Саудовская Аравия, они работают хуже. Даже в Израиле. Вы должны иметь в виду, что русская разведка в принципе всегда была лучше, чем западная, потому что люди, которые служат в русской разведке, имеют более высокий уровень образования, чем их коллеги в Штатах. Если ты был умным в Советском Союзе, ты шёл в разведку, если ты умный в Штатах, ты идёшь в бизнес.
– Но сейчас ситуация изменилась. Последние 15 лет были не лучшими для наших спецслужб. Вы контактируете с действующими офицерами ЦРУ, что они думают по этому поводу?
– Очень многие офицеры нашей разведки ушли в бизнес и стали там успешны. Кто-то пошёл в частные службы безопасности, они работают на подобные американские компании, и всё, о чём они думают, это то, как делать деньги. И они не думают о России, а думают о деньгах…
– Раньше вы говорили, что у ЦРУ нет достаточного количества людей, говорящих по-арабски…
– Нет, конечно. А в Багдаде ситуация ухудшается тем, что 400 сотрудников резидентуры ЦРУ никогда не покидают «зелёную зону». Что они могут знать об Ираке? Ничего. Вы не можете сидеть в своих кампусах, смотреть телевизор и понимать такую страну, как Ирак.
– У ФСБ такие же проблемы. Во время захвата заложников в «Норд-Осте» в ФСБ не хватило людей, знающих чеченский язык, для оперативного перевода переговоров террористов. У нас это происходит из-за того, что спецслужбы не доверяют представителям этнических меньшинств. А у вас?
– Моральный дух в ЦРУ сейчас очень плох. Народ приходит и уходит очень быстро, около 20 % сотрудников увольняются каждый год. Организация, которая теряет одну пятую персонала, не может выжить. Кроме того, делается ставка на технику. У нас есть все эти шифровальные алгоритмы и суперкоды, есть оптоволоконные кабели, но всё это делает вообще невозможным работу в таких странах, как Пакистан и Саудовская Аравия. Плюс проблемы с внутренней безопасностью. ЦРУ так и не оправилось после дела Олдрича Эймса. А те правила безопасности, которые создали, чтобы подобного больше не повторилось, максимально затруднили вербовку людей на службу в ЦРУ.
– Можно ли сейчас попасть на работу в ЦРУ, будучи саудовцем по рождению?
– Это невозможно. Ты не получишь работу в ЦРУ, если у тебя есть родственники в таких странах, как Саудовская Аравия. Они всегда тебя будут подозревать. И именно поэтому так много бездарных операций из-за плохой развединформации.[18]18
Роберт Бэр. «ЦРУ пало духом». «Новая газета». 16.02.2006 г.
[Закрыть]
Радоваться такому невесёлому положению с кадрами в одной из мощнейших спецслужб мира нашим собственным разведчикам оснований немного – у самих таких проблем невпроворот:
«В Центре специального назначения ФСБ, есть лишь одно подразделение, которое теоретически способно на действия за рубежом. Это управление «В» (бывший «Вымпел» ПГУ ГКБ, созданный Андроповым, как диверсионный отряд). По имеющимся (открытым) данным, в управлении «В» всего 4 отдела, при этом один отдел постоянно находится в Чечне. Все должности в оперативно-боевых отделах ЦСН офицерские, но берут ребят и после срочной службы, присваивая звание прапорщика. А от прапорщика вряд ли можно требовать глубокого знания арабского. Раньше вымпеловцев засылали в другие страны, но эта практика закончилась с развалом Союза. Школа утеряна, так как в результате реформ управления (одно время «Вымпел» под именем «Веги» входил в состав МВД) там просто не оставалось классных специалистов по зарубежной диверсионной работе».[19]19
Андрей Солдатов. «У ФСБ просто не осталось сил, способных эффективно действовать в глубоком тылу противника». «Новая газета». 24.08.2006 г.
[Закрыть]
Практически все спецслужбы во всех странах мира позиционируют себя, как сберегателей безопасности государства и общества от иностранных шпионов, «международного терроризма», агентов влияния в собственной правящей элите, от организованной преступности, разрушающей, растлевающей нацию наркотиками, азартными играми, проституцией.
8. Взаимодействия и конфликты спецслужб с институтами государства и общества
Придумывается и возвещается много ещё хорошего подобного. Слов нет, что-то из того, что перечислено, всё-таки делается. Но в целом же картины реальной жизнедеятельности и возникающих при этом взаимодействий спецслужб с другими институтами общества носят во многом совершенно иной, отличный от рекламируемого, характер.
Не всегда, правда, хуже, но иной. В котором есть место не только противоборствам, переходящим иногда в схватки не на жизнь, а на смерть, но и взаимопомощи, взаимоподдержкам, обмену взаимными услугами. Не во всех масштабных, длительных противостояниях, позиционных боях преимущества, доминирование на стороне только спецслужб. Распределение людей в социумах по синекурам, поприщам закономерным бывает только отчасти, чаще – по случайным обстоятельствам: «Важно в нужное время оказаться в нужном месте».
Многим способным в этом смысле сильно не везёт. И этот вечный элемент случайности в рисунке каждой человеческой судьбы весьма часто заносит людей со своеобычными жизненными принципами, мировосприятием совсем не туда, где бы им надлежало бы быть по логике их характеров.
А потому, весьма нередко иной «вор в законе» ведёт себя гораздо патриотичнее, нежели иные вельможи государства и те государственные структуры, которые они возглавляют. И такие «несовпадения» – вещь весьма и весьма распространённая в социумах со многими, иногда и весьма впечатляющими, следствиями. Больше – негативного свойства.
Совсем недавно, в декабре 2006 г. бывший сотрудник службы внешней разведки СССР, работавший в 70-е годы ушедшего столетия корреспондентом одной и советских газет в Италии Л. Колосов, поведал в телеинтервью о том, как неожиданно для себя был приглашён на встречу с одним из боссов итальянской мафии, в конце которой ему были переданы обширные материалы по готовящемуся в стране фашистскому перевороту.
Материалы были настолько убедительны и детальны, что на подготовленную по ним публикацию в советской прессе последовала весьма решительная и категоричная реакция официальных властей и правоохранительных органов. С той поры минуло четверть века. События тех лет нашли достаточное отражение и в публицистике, и в кинематографе, и в детективной литературе.
Своеобразие той ситуации, её беспрецедентность заключалась прежде всего в том, что государственный переворот – тягчайшее преступление против власти, государства – готовился при активном участии ряда руководителей итальянских спецслужб, призванных в первую очередь защищать конституционный порядок и конституционные органы власти.
А предпринял решительные, тщательно спланированные и хорошо подготовленные шаги по предотвращению путча главарь одной из влиятельных «семей» мафии. То есть, как раз тот, кого официальная власть, общественное мнение однозначно числили в наиболее опасных врагах государства и общества.
И подобное можно изрядным числом обнаружить в истории практически любого государства. Что никак не влияет на сложившиеся устойчивые стереотипы в общественном мнении о роли, значении спецслужб, правоохранительных органов и других «опор и надеж» государства. Что, в общем-то, вполне и обосновано – всё-таки «правда в больших числах».
Более того, генералы организованной преступности и их «армии» по всему миру – самые последовательные и решительные противники тоталитаризма, диктатуры. Ибо сами являясь самыми радикальными, безмерными «мелкопоместными» диктатурами, отлично противостоят в таком качестве любым усилиям либеральных демократических режимов справиться с преступностью. А вот фашистским диктатурам они противостоять не могут – кишка тонка.
Организованная преступность с её изобильными, бесконтрольными деньгами от наркотраффика, игорного бизнеса, проституции прекрасно вписывается в избирательные демократические процедуры формирования органов государственной власти и местного самоуправления.
А через эти «органы» в состоянии достаточно эффективно влиять в своих интересах не только на правоохранительные органы, но и на спецслужбы. Против чего сами спецслужбы никогда и нигде особо не возражают – контакты с оргпреступными сообществами им самим во многих обстоятельствах нужны самым настоятельным образом.
Например, для нейтрализации быстро набирающих силу оппозиционных режиму профсоюзных или политических лидеров, имеющих серьёзные шансы пройти в руководители государства. Всего-то и надо в оплату «услуг» выпустить из тюрьмы пару главарей мафии или оттянуть вцепившихся в видных деятелей триад местных полицейских.
Можно также с помощью контролируемых оргпреступностью профсоюзов блокировать работу национального транспорта и погрузить страну в хаос, спровоцировав отставку неугодной политической правительственной команды.
Со структурами организованной преступности сопредельных не очень дружественных стран, спецслужбам, имеющим разветвлённую сеть по сбыту наркотиков, всегда можно договориться во имя своих целей о сбыте крупных партий наркотиков, оружия, боеприпасов и другого подобного и высокодоходного «товара», разрушительного для общества «нежелательного» государства.
Вполне пригодны для «употребления» спецслужбами и обычные кодлы дворовой шпаны, нуждающиеся в деньгах на алкоголь или наркотики. Этих «генералов песчаных карьеров» незазорно нанять на приуроченные к удобному моменту осквернения синагог, исторических памятников, провоцирования межэтнических, межконфессиональных конфликтов. Настоятельная нужда в которых для различных политических сил возникает постоянно, а организовывать подобные акции приходится спецслужбам через свою «сопливую агентуру».
Учитывая же, что спецслужбы никогда и нигде не занимаются проблемами общеуголовной преступности при любом её уровне в обществе, они никогда и не рассматривают оргпреступность, как своего противника. А вот союзником её неформально числят (и пользуют) по множеству направлений своей практической деятельности.
Полезных союзников нередко приходится защищать. Чаще всего от собственных органов внутренних дел. В России последних двух десятилетий процесс взаимовыгодного сотрудничества спецслужб и структур оргпреступности пошёл и глубже, и шире – стала своеобычной практика «крышевания» бизнеса, банков, подразделения служб безопасности вполне успешно выполняют подчас и функции наёмных убийц:
«Сотрудники отдела «Т» (борьба с терроризмом и защита конституционного строя) из УФСБ Калининградской области принимают заказы на устранение бизнесменов… Киллер признался, что является агентом ФСБ и у него было удостоверение оперуполномоченного в звании капитана».[20]20
Игорь Корольков. «Управление ТТ». «Новая газета». 07.11.2005 г.
[Закрыть]
Ещ» свидетельство: «Элитным офицерам КГБ, зачастую потомственно, вбивалась в голову известная система ценностей. Она, конечно, подразумевала приоритет интересов государства перед интересами какой-то там отдельной личности, но она же включала в себя пусть не идею законности, но всё же понимание того, что и во имя чего допустимо делать.
Также люди были, но они давно уже стали легендой. Часть из них состарилась и «выбыла». Другая, весьма значительная часть создала компании и банки, перешла служить в и под коммерческие структуры, где быстро утратила ориентиры… Но в «том КГБ» их вряд ли отнесли бы к элите. О кадрах же ФСБ выпечки после 90-х и говорить нечего, штамп «сделано в КГБ» на них – такая же липа, как лейбл Levi's на советском самостроке.[21]21
Леонид Никитин. «Гражданские орды». «Новая газета». 23.05.2005 г.
[Закрыть]
Но общество с рыночной экономикой, к каковому типу теперь принадлежит и российское, кроме совместной договорной деятельности предполагает обязательно и жесточайшую конкуренцию. Что в полной мере свойственно и криминальной практике многих сотрудников спецслужб. Свидетельством чему один из множества примеров:
«В 1995 году я готовил статью о банде братьев Ларионовых, терроризировавших Владивосток в начале 90-х. Банду разоблачили. Уголовное дело вела Генеральная прокуратура. Выяснилось, что преступная группа была какой-то страной. Она скорее напоминала воинское подразделение с чётко организационной структурой, строгой иерархией и железной дисциплиной. В её составе оказались бывшие отличники ВДВ и морской пехоты, блестящий офицер-десантник и один из лучших сотрудников местной прокуратуры.
Сами члены банды бандой её не называли. Они называли её Системой… Система была прекрасно вооружена, располагала несколькими десятками конспиративных квартир. С помощью обширной агентурной сети собирала информацию о лидерах преступного мира, бизнесменах и сотрудниках государственных учреждений. Банда убивала. Её жертвами становились криминальные авторитеты и бизнесмены, связанные с криминалом…
Удалось выяснить, что с бандой работали два полковника ГРУ: действующий начальник агентурного управления Зубов и бывший начальник оперативно-аналитического центра той же разведки Полубояринов… Полубояринов непосредственно формировал банду и тоже руководил в ней аналитическим центром.
Спецслужбы создали параллельные структуры для приведения в исполнение внесудебных приговоров… На базе таких структур возможно создание постоянно действующих лжебанд, которые вступают в плотный оперативный контакт непосредственно с ОПГ бандитской направленности и ОПГ, специализирующихся на заказных убийствах и терактах…».[22]22
Игорь Корольков. «Запасные органы». «Новая газета». 11.01.2007 г.
[Закрыть]
Приведённый пример «взаимодействия» российских спецслужб с оргпреступными сообществами – не исключение, а только эпизод обширной, длящейся уже второе десятилетие практики. О том, что она – отнюдь не важная составляющая часть борьбы правоохранительных органов с оргпреступностью, а только «коммерческая составляющая» жизнедеятельности российских органов госбезопасности – свидетельствует вся российская реальность.
Где правят бал обвальные злоупотребления служебным положением всевозможных должностных лиц, включая и правоохранителей, именуемые в обществе «коррупцией», где любая общеуголовная организованная преступность всегда в тесной «смычке» с органами власти, управления, правоохранительными структурами и спецслужбами. Вместе дополнительно ещё занимаются и всевозможной предпринимательской деятельностью.
Один из множеств примеров тому: «Нашу страну лихорадит от громких скандалов и арестов таможенных чинов… прокуратура и ФСБ начали ловить по несколько десятков таможенников в неделю, но это полумеры, поскольку основным заработком таможни являются конфискованные товары. Конфискация – это национальный вид спорта. Им занимаются все: таможенники и милиционеры, чекисты и судебные приставы. В идеале эта процедура должна воплотить в жизнь сказку о Робин Гуде, когда ценности отбираются у плохих людей и отдаются хорошим. В реальности же это очень часто отлаженный криминальный бизнес».[23]23
Максим Агарков. «Конфискация – это национальный вид спорта». «Новая газета». 08.06.2006 г.
[Закрыть]
Российские печатные СМИ изобилуют материалами об участии российских спецслужб и структур МВД, генеральной прокуратуры в контрабанде мебели, китайского ширпотреба на сотни миллионов долларов. Это – в столице. В регионах местные подразделения не очень отстают в такой практике от своих столичных коллег и начальников. А «на круг» по стране получаются астрономические суммы, добытые «государевыми слугами» криминальным путём исключительно для личного обогащения своей руководящей верхушки. И почти никогда – на «общее дело».
Об участии российских спецслужб в лице их руководства, действующих и бывших сотрудников в превращении банковской деятельности в частности, и всей финансовой системы государства в целом в сплошной криминальный бизнес, известно из тьмы публикаций на эти темы ныне даже, пожалуй, слепым и глухонемым. Нечто отдалённо подобное этому имело место, разве что, при некоторых диктаторских режимах в странах Латинской Америки и Африки.
В большинстве современных стран спецслужбы таких благоприятных условий не имеют и вынуждены для своих неизбежных гешефтов продумывать и осуществлять целые спецоперации в сфере банковского бизнеса, чтобы надёжно прятать концы в воду. Или хотя бы соблюдать внешние приличия в там, где СМИ не рискуют задирать спецслужбы.
В России спецслужбам не приходится утруждать себя на этот счёт. И вовсе не потому, что они к этому стремились – в пору безвременья всегда сильнее оказываются тот, что состоит в мощных корпорациях, сплочён хоть какой-то дисциплиной и обладает долей властных полномочий. А потому неизбежно начинает корпоративно доминировать во всех сферах жизнедеятельности социума, где есть заслуживающие внимания прибыль, приработки, продвигаясь и концентрируясь в этих сферах интуитивно – на запах денег, добычи.
У государственных силовых структур в этом стихийном промысле есть весьма убедительные «аргументы» для любых других конкурентов в этом досужем корпоративном увлечении. У спецслужб же они – самые впечатляющие.
Службы, даже эпизодически взаимодействующие со структурами организованной преступности, объективно вынуждены выступать, как их защитники перед правоохранительными органами государства. Обычно – изредка, в современной же России – сплошным единым с криминалом фронтом. Противоборствуя, правда, и здесь на свой специфический манер: вовлечением высокопоставленных «правоохранителей» в совместные с криминалом гешефты, обеспечивая криминальных «авторитетов» компрометирующей информацией на несговорчивых оперативников, следователей, прокуроров, судей. Каковых, правда, в России почти уже и не осталось, но всё ещё встречаются в других странах.
Так что, спецслужбы повсеместно – по крайней мере, не враги оргпреступности. А если таковое и происходит – то эпизодически, как элемент конкуренции, из-за вторжения оргпреступности в сферы традиционных интересов спецслужб, либо из-за некоторого обнагления или чрезмерной спеси паханов, набравших большую силу. Правда жизни и здесь – в больших числах статистики, а не в отдельных эпизодах «правильного» поведения спецслужб, тиражируемых, как правило, в героических кинофильмах в их честь и на их деньги для формирования «правильного» сознания многомиллионных человеческих аудиторий.
Незримое, ничем особо не афишируемое доминирование спецслужб над всеми прочими госструктурами, включая правоохранительные, существует в реальности практически повсеместно в разной степени «концентрации». А обусловлено в большей степени субъективными мифологизированными ощущениями и мировоззренческими умозрительными конструкциями самого чиновничества.








