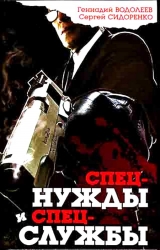
Текст книги "Спецнужды и спецслужбы"
Автор книги: Сергей Сидоренко
Соавторы: Геннадий Водолеев
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 22 страниц)
Самый оптимальный способ поддержания нормальных отношений с доброкачественными сотрудниками спецслужб – дружить с кем-либо из давних школьных, студенческих приятелей, избравших себе такую жизненную стезю. Или с их проверенными и надёжными друзьями по ремеслу. Не позволяя при этом передавать себя в качестве «друга» по наследству каким-то новым сотрудникам – сразу происходит переход в новое, худшее качество.
Ещё лучше, если при длительных дружеских отношениях не будет обращений за помощью спецслужб, а дело ограничится совместными баньками, рыбалками, семейными торжествами. При душевной расположенности к специфической деятельности органов госбезопасности, не следует чураться возможностей поступить к ним на службу: если это ремесло оставить только для людей с задатками недостойных, малодуховных, нравственно нещепетильных, то любое общество об этом в определённый срок горько пожалеет, хлебнув полной мерой лиха от своих неукротимых «бойцов невидимого фронта», которых не держит ни нравственная, ни духовная узда.
Умные, нравственно состоятельные люде в спецслужбах, даже находясь в меньшинстве и не состоя во внутрикорпоративных карьерных кодлах, тем не менее, уже только фактом своего наличия производят серьёзнейшие торможение на пути «соскальзывания» спецслужб к преимущественному решению своекорыстных внутрикорпоративных целей.
Кроме того, такие сотрудники, будучи привержены служебной дисциплине и установкам официальной служебной этики, практикой своей деятельности удерживают и других в неких пределах отклонений, не позволяя спецслужбам быстрыми темпами превратиться в аналог наиболее опасной разновидности организованной преступности.
Исполнение функций нравственного стандарта не даётся даром – служебная карьера достойных людей в спецслужбах, как правило, затруднена до крайности, почти всегда сопровождается нелюбовью, подозрительностью и опасениями начальников, более строгими взысканиями даже за менее серьёзные служебные упущения.
Что, к тому же, сопровождается ещё и недоброжелательными отношениями более ловких, удачливых и любимых начальниками сослуживцев. Всё перечисленное – дополнительно к традиционным наборам служебных проблем, неизбежно возникающих в любой оперативной деятельности. Конечно, знай такие люди, что их ждёт на служебном пути – вряд ли кто из них сделал бы выбор в пользу спецслужб. В точном соответствии с предположениями великого поэта ранних веков:
Страданий горы Небо громоздит.
Едва один рожден – другой убит.
И неродившийся бы не родился,
Когда бы знал, что здесь ему грозит.
Но, слава Богу, человеку в ранние годы не дано полистать книгу своей судьбы. А немножко хитроумные и лукавые вожди спецслужб регулярно инициируют создание весьма зрелищных киносериалов о «рыцарях без страха и упрёка», спасающих нации, страны, цивилизацию от разнообразных вражин.
И тощий поток романтических юношей, готовых жертвенно служить Отечеству, в спецслужбы тонкой струйкой все-таки течёт непрерывно. Являясь той животворной пуповиной, которая хоть кое-как сохраняет связь корпораций, занятых обеспечением госбезопасности, с нравственно-духовной культурой общества, не давая корпоративным интересам переродить спецслужбы в нечто марсианское, противостоящее человеческой цивилизации. Слабоватое утешение, конечно, надежда больше иллюзорна, но хоть такая есть, слава Богу.
Тем, кто идёт на сотрудничество со спецслужбами, либо на службу в них с надеждой получить за свои впечатляющие поступки во славу и во благо Отечества впечатляющие же вознаграждения, награды, следует знать, что ничего этого скорее всего не будет. По целому ряду причин:
а) Официальные фонды для поощрений у спецслужб, за редким исключением (ЦРУ, Моссад, МИ-6), невелики и по бедности стран, и по вполне обоснованной подозрительности, что их изрядно растаскивают по пути к карманам оперативников «продуктивной» агентуры.
б) Подразумевается, что вознаграждать впечатляющими премиями сотрудников даже за впечатляющие результаты в работе – провоцировать зависть. А потому, лучше всего поощрять знаками корпоративных отличий, памятными символическими подарками, объявлением благодарности в приказах с записями в личном деле сотрудника. Получается зрелищно – и почти бесплатно.
в) Большинство руководителей спецслужб в глубине души твёрдо уверены, что любые значимые результаты есть следствие, прежде всего, их личных заслуг, подчинённые же, агенты лишь более-менее удачно исполнили их мудрые, зрелые замыслы и руководящие указания. Что главное условие любых служебных успехов – наличие жизнеспособной спецслужбы, как таковой. А это – исключительная заслуга только командования, генералитета.
Что не так уж и далеко от истины – держать в рабочем состоянии инфраструктуру корпорации национального масштаба, вне зависимости от её ориентации (и продуктивности) на защиту нации или только её «элит», дело весьма непростое само по себе, ничуть не более лёгкое, нежели управление национальной сетью железных дорог, систем электро– и газоснабжения страны, глобальной банковской сетью. Требующее соответствующей квалификации, организаторских способностей, интеллекта.
Но требующее и достаточно плотного присмотра за особо успешными генералами спецслужб – для профилактики состояний «головокружения от успехов», от которого рукой подать до самых честолюбивых и масштабных замыслов, для реализации которых иногда организуются заговоры с несанкционированным использованием нешуточных возможностей спецслужб руками руководителей – «путчистов».
Но каков бы ни был личный организационный, профессиональный вклад руководителей спецслужб основных структурных подразделений в жизнеобеспечение своих корпораций, он никогда не стоит той компенсации, которую реально получают высокие генералы в виде личных самолётов, яхт, загородных резиденций немалым числом и т. п. В сравнении с совокупной стоимостью которых, сами должностные оклады высших должностных лиц выглядят больше, как мелочь на карманные расходы.
В иных спецслужбах, подобно ряду ТНК, на содержание собственного генералитета на «подобающем» уровне расходуется до 50 % средств, выделяемых на весь управленческий персонал. Часто – не по какому-нибудь праву, а потому только, что «своя рука – владыка».
Когда же есть такое желание – ведомственные угодники и холуи (с большой выгодой для себя) сумеют реализовать чаяния отца-руководителя так, что ни одна проверяющая инстанция особо придраться не сможет. Да, в общем-то, все эти «инстанции» особо придираться и не собираются – должны же быть хоть какие-то серьёзные мотивы у генералов, находящихся на завершающем этапе своей карьеры, служить Отечеству, не думая всерьёз об иных источниках личного благоденствия.
Тем более, что история спецслужб знает достаточно примеров, когда некогда вполне благонамеренные и весьма продуктивные руководители спецслужб, поздно спохватившиеся на предмет приличного обеспечения своей старости, успевали впечатляюще «конвертировать» свои специфические возможности и особую информированность в немалые суммы в ведущих мировых валютах. Нередко с большим ущербом для своей родной корпорации.
Чего реально стоят всевозможные генералы, не знает никто, как и все иные должностные лица, всегда недовольные своим официальным денежным «довольствием». Сколько же надо позволять генералам спецслужб самостоятельно «подрабатывать» для сохранения их лояльности режиму – исчислению тоже никакому не поддаётся. Ибо человеческая жадность, алчность – бездонны, неутолимы ничем. Примером тому – истории всех известных богатейших людей мира, чьи аппетиты и усилия к обогащению ограничивает только смерть (естественная или кем-то инициированная).
Особенно опасны становятся генералы спецслужб незадолго перед вынужденным (есть возрастные ограничения в положениях о прохождении службы) выходом на пенсию: нищенский, в сравнении с имеющимся доходом, размер пенсиона вынуждает, во имя сохранения привычного уже уровня благоденствия, искать самые рискованные варианты впечатляюще заработать.
Выбор среди очевидных реальных способов получения значимого приработка невелик: от сдачи служебных секретов противнику, до кражи военного имущества, перепродажи боевой техники, вооружений. На председательство решаются единицы, на присвоение для перепродажи военной недвижимости – почти все. Оставшиеся «на посту» коллеги-сослуживцы стараются не поднимать по этому поводу шума, рассматривая такую практику, как неизбежную в скором времени для них самих.
В какой мере такая деятельность снижает коэффициент полезного действия спецслужб, никто никогда не брался измерять, предпочитая исследовать иные «параметры» их деятельности: количество удачных вербовок, проведённых спецопераций, провалов агентуры и прочие подобные, поддающиеся простому исчислению обретения и ущербы.
Да и опасно внедрятся в такую сферу с экономическими расчётами – во имя с охранения любыми средствами политического режима и своего высокого статуса в нём, политики готовы пустить «в расход» большую часть подвластной нации. Так что, любые пустопорожние траты спецслужб при такой глобальной постановке целей – сущие пустяки, о которых никто из значимой публики всерьёз говорить никогда не будет. Нигде. А другим желающим никто не позволит это делать.
И получается, что озаботиться по-настоящему проблемами оптимизации деятельности одного из самых значительных институтов государства совершенно некому. Те, кто мог бы со знанием дела такую работу выполнить – генералитет спецслужб – заинтересованы совершенно в обратном: увеличивать материальное содержание корпорации, желательно при этом ещё и снизить нагрузки и риски, а также ответственность за ненадлежащее исполнение своих функций.
И получается стабильно воспроизводимая анекдотическая ситуация: «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих!». То есть, если «элиты» социума вконец оборзели, общество обречено. Если не успеет эти «элиты» уничтожить или рассеять по заграницам.
Спецслужбы в лице своего генералитета в таких процессах почти всегда на стороне властвующих, пока на тех не пойдут «широкие народные массы» – тогда начнётся «перетекание» части кадров органов госбезопасности на службу победившей контрэлите. Вместе, естественно, с агентурой, с накопленной информацией о «бывших», их связях, состояниях и т. п. И таким образом «перебежчики» успевают поучаствовать в самом разгаре компании потрошения прежних господ жизни под традиционным девизом всех революционных эпох: «Грабь награбленное!».
В целом же «друзьям» спецслужб не следует всерьёз рассчитывать на впечатляющие заработки с их помощью: даже если что и удастся – скорей всего те заберут себе, оставив «коллеге» богатый жизненный опыт. И вообще, профессия сотрудника спецслужб предполагает его доминирование в любых социальных ситуациях, раскладах и расстановке сил. А потому, рассчитывать выбраться куда-то на их горбу – дело безнадёжное, даже всегда рискованное: привыкший сам ездить и погонять, не позволит приспособить себя дилетантам для их перевозки. Профессионализма и опыта у всякого сотрудника спецслужбы для этого хватит с избытком. К тому же понуждает прочно усвоенная жёсткая внутренняя психологическая установка на манипулирование окружающими.
При полном отсутствии у человека всякого желания сотрудничать, взаимодействовать, даже эпизодически, со спецслужбами – ситуационно, либо по убеждениям – не следует это делать подчёркнуто, излишне категорично. Хотя бы для того, чтобы не вызвать озлобления у конкретных сотрудников и их руководителей, которое вполне может подвигнуть их к активным действиям возмездия.
Даже обиженные и оскорбленные животные стремятся отомстить. Установлено, что собака помнит обиду около получаса, кошка – больше суток. Слон обиду может таить бесконечно долго – пока не представится возможность сатисфакции (по-слоновьи, естественно). Спецслужбы помнят обиды ещё дольше слонов, так как многие другие события такого рода у них документируются, со временем – архивируются.
И если уж эти ведомства никак особо не озабочены обеспечением безопасности ряда малозначащих социальных групп вполне лояльных режиму, то уж о своих недругах они не только никогда не будут проявлять заботы, но даже никогда ничего не сделают, чтобы просто предупредить о ставшей известной им грозящей «нелюбимому» персонажу опасности. Или вовсе используют исподволь, как марионетку в какой-либо рискованной комбинации, похожей на выбор персонажа в качестве приманки в известной французской политической детективной комедии «Высокий блондин в жёлтом ботинке».
При возникновении ситуации, когда у сотрудников спецслужб появится необходимость задать вопросы, не следует не только откровенно посылать их подальше, грубить, как об этом сказано только что, но и пытаться обмануть, наврать. И вовсе не потому, что у них есть все возможности проверить и перепроверить измышленное. Но, прежде всего, потому, что у спецслужбы появляется веский довод вцепиться в вас мёртвой хваткой надолго, с неизвестным, но, скорее всего, малоприятным исходом.
А потому, вести себя в беседах, диалогах нужно ровно, по возможности несуетливо, спокойно, не отрицая очевидного, подтверждённого другими – но не более того. Стремясь окоротить беседу, ограничив её тем, что на поверхности, в остальном действовать преимущественно по проверенной старыми зеками схеме: не знаю, не видел, не брал. Решительно, категорически (если есть такая возможность) отказываясь от испытаний на всех этих дебильных игрушках вроде «детекторов лжи».
И уж, тем более не следует стараться переубедить в чём-то сотрудников спецслужб сколь угодно «разумными доводами», «исторической правдой» и т. п.
Суть в том, что сколь угодно справедливая, убийственно правдивая критика, к примеру, действий вождя политического режима (даже наносящих очевидный вред национальным интересам) для сотрудников спецслужб, специализирующихся на выявлении и искоренении «скверны инакомыслия» – только свидетельство опасности носителя «исторической правды». Которое способно подвигнуть их к самым радикальным мерам воздействия. И только.
Некоторые из оперативников, что наиболее мировоззренчески подготовлены, такие эскапады объектов их внимания расценят лишь, как опасную для их карьеры провокацию. И тоже ужесточат свою позицию по отношению к наивному умнику, будь он хоть сто, тысячу раз кругом прав. Раз уж никак, ни в чём не совпадают служебные мотивации одних и социальные мотивации других, искать хоть какого-то понимания и сочувствия во взаимоотношениях со спецслужбой дело в высшей мере наивное. Если не сказать хуже.
Неплохо, если позволяет собственная «соображалка» и наличие некоторых способностей к лицедейству, копировать, применительно к ситуации, умения некоторых насекомых в целях самозащиты принимать вид сучка, сухого листочка, либо формой и цветом сливаться с морским дном.
С учётом того, что и для спецслужб существуют «несъедобные» особи, а то и целые социальные категории, психотипы (люди массовых рабочих профессий, склонные к злоупотреблению алкоголем, неспособные к адекватному восприятию действительности и поведению, юродивые на современный лад, неисправимые болтуны, патологические трусы и т. п.), то разумному образованному человеку не составит особого труда явить из себя своим образом действий и мыслей социальный портрет человека лёгкого, поверхностного, не отягощённого мыслями о переустройстве социума и мира на более справедливый манер.
К тому же, достаточно ленивого, чтобы не брать на себя труды создавать «группы сопротивления» любой разновидности, включая даже подобие футбольных фанатов. Неспособного заставить себя трудиться даже во имя своего карьерного продвижения.
Люди же без изрядного запаса честолюбия, неутолённого тщеславия, ярких склонностей к эпикурейству, стяжательству меньше всего интересуют и спецслужбы, и масонов, и организованную преступность – всех тех, кто собирает, структурирует и бросает в бой за свои цели в обмен на приличный паёк, кормёжку, «пехоту» из орд разнородных честолюбцев, корыстолюбцев, страждущих мирской известности, славы, имя которым от веку «тьма тем» – только успевай скликать.
Но умелая маскировка с использованием особенностей социальных ландшафтов – не единственный способ пассивного противоборства со спецслужбами. Речь, естественно, не идёт о перебежчиках, которые «борются» со спецслужбами своего государства, становясь в ряды спецслужб враждебной страны. Этому есть другое определение, совершенно точное – предательство.
Речь не идёт об особо открытом противоборстве со спецслужбами, в которое порой вступают наиболее отчаянные и мужественные журналисты с большим риском для жизни. Речь не идёт о противоборствах, которые нередко ведут парламентарии, высшие должностные лица иных государств – их достаточно надёжно защищают статус, партийные, клановые, масонские связи.
Да и их противоборства чаще всего проистекают не из стремления восстановить истину, изобличить ущербы, а только защитить клановые, групповые интересы, которым угрожают спецслужбы. И уж тем более, речь не идёт о масонах «высокого градуса», кто сам может активно влиять на кадровую политику в высшем эшелоне руководства спецслужб.
Недавно, к примеру, президент Польши Лех Качинский совершил нечто, чему в истории спецслужб аналогов, похоже, нет: на собственном сайте в Интернете, будучи твёрдо уверенным в своей безнаказанности, выставил громадный список соотечественников на государственной службе и вне её, являющихся доверенными лицами и агентами польской военной разведки.
Формальным поводом для такого беспрецедентного ошеломляющего шага, давшего повод для бывшего президента Польши Леха Валенсы обозвать его дураком, послужили якобы прочные связи руководства военной разведки с российскими спецслужбами. Что привело якобы к тому, что за последующие годы в стране не был разоблачён ни один русский шпион.
Истинная подоплека такого обескураживающего поступка главы государства вряд ли когда будет полностью раскрыта, но то, что эта «инициатива» была санкционирована руководителями разведсообщества США и является эпизодом противоборств спецслужб, не вызывает сомнений. Правда, во фрагменте телевыступления Качинского, показанного «Евровидением», тот высказал и вполне здравое суждение в том смысле, что спецслужбы являются необходимым инструментом государственной политики, но мир без них был бы лучше.
Этот удар главного политического лидера страны вызвал такой глубокий нокаут целой спецслужбы, в который их коллеги не впадали даже тогда, когда политики реконструировали, реформировали, вычищали весь высший эшелон руководства, что делалось без лишней огласки, без высвечивания главного достояния любой спецслужбы – агентурного аппарата. Но даже в этом уникальном по-своему случае, когда братья Качинские (президент и премьер) повергли главную спецслужбу страны окончательно, вполне возможно, что позже они получат своё за это полной мерой.
Но некоторые возможности для вполне действенных противоборств со спецслужбами есть и у нормальных, обычных людей – без статуса, связей, без «дружественных» оргпреступных формирований. Для чего не следует обращаться даже в европейский Страсбургский суд по правам человека. Надо только верно определить точки приложения сил и выбрать пригодные средства воздействия.
Прежде всего, никогда не надо намереваться воевать со всей спецслужбой, а только с конкретными своими обидчиками в ней. Алгоритм целесообразных действий в этом случае незатейлив и прост:
1. Не проявляя своей личной заинтересованности к нужной персоне, исподволь, не спеша, в основном через людей близких к интересующему лицу, собрать как можно больше информации о его дружеских, интимных связях, пристрастиях, увлечениях, то же – по каждому члену семьи.
Что является вполне реальной задачей: американские социологи установили, что через 6–7 «звеньев» личных знакомств можно «добраться» до любого незнакомого человека в любом месте США. Проделать то же самое в пределах города гораздо проще. При наличии некоторых финансовых возможностей, процесс можно резко ускорить и сделать более результативным, если, к примеру, подключить к прослушиванию телефонных переговоров близкой интимной связи сотрудника спецслужб какое-либо частное сыскное агентство.
2. Получив «ценную» информацию о неафишируемой и малоодобряемой неслужебно-бытовой деятельности своего оппонента из спецслужб, опять же без рекламирования своего участия, довести её до сведения руководителей, кадровиков соответствующего структурного подразделения. С учётом того, что практически нет никого ни в каких корпорациях, кто бы не имел среди сослуживцев и начальников серьёзных недоброжелателей, то редко когда такие приёмы не дают результатов. Если же ряд пикантных подробностей довести до сведения супруги – последствия могут быть ещё более сокрушительными. Подобная технология может быть многовариантной.
Подобный подход вполне обоснован по очень важному соображению: нельзя оставлять сотрудников спецслужб в убеждении, что они по своему положению только охотники, а остальные – зайцы для них.
Побывав же в шкуре зайца, редко кто из «бойцов невидимого фронта» остаётся при своём прежнем спесивом и оскорбительном для других убеждении. Особенно «убедительно» и эффективно используют такой приём в противоборствах со спецслужбами их бывшие сотрудники, которыми подтёрли однажды нежное место и выкинули. Эта тема хорошо раскрыта кинематографом во многих странах.
Таким образом, все мыслимые многообразия сложнейших взаимоотношений, взаимодействий со спецслужбами, буде они возникнут у человека, вполне могут быть приведены к известной формуле «воров в законе»: «Не верь, не бойся, не проси!».








