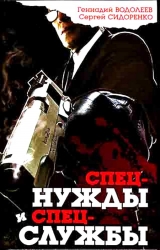
Текст книги "Спецнужды и спецслужбы"
Автор книги: Сергей Сидоренко
Соавторы: Геннадий Водолеев
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 22 страниц)
К тому же социумы тяжело отходят от режимов диктатур – слишком не совпадают представления о том, что хорошо, а что плохо и как одного достичь, а другого избежать у людей в погонах, с лампасами и у большинства остальных прочих граждан.
И вовсе не потому, что военная логика, мышление слишком прямолинейны и упрощены, а скорее в силу иного обстоятельства: в отличие от вождей средневекового и более ранних периодов, которым приходилось управлять своими странами, находясь во главе своих дружин в доспехах и с мечом в руках, нынешние военачальники предпочитают перекладывать почти все риски войн на подчинённых, оставаясь сами в достаточно безопасных, командных бункерах.
Принимаясь править государствами, социумами нынешние военные полководцы, остаются верны этому принципу, для пущей надёжности открывая секретные солидные счета в зарубежных банках. Да и подчинённым сотрудникам спецслужб необременительные думы о державных нуждах ничуть не мешают в полную меру наличных возможностей работать на свой личный интерес в составе достаточно разветвлённых групп сослуживцев и иных полезных подельников.
А потому на выходе общий итог усилий «по обеспечению государственных интересов» бывает чаще всего неразличимо мал и приходится населению предлагать сильные средства в виде телевидения, других СМИ, чтобы размеры блохи стали хотя бы величиной в кошку. О том, что при этом реально обрели для себя в целом все сотрудники спецслужб даже представить невозможно: уж что-что, а скрыть то, от каких общественных пирогов при этом все их обретения были откушены, их учить не надо.
В одном здесь можно быть уверенными – Робин Гудов среди них нет и в помине, а потому берут всё то, до чего могут дотянуться. Потому и стремятся «обеспечивать безопасность» прежде всего того, что особенно ценно, где больше всего циркулирует денег:
«Специальные финансовые фондовые коммуникации – сфера охраны и защиты секретной коммерческой информации. Если чудом уцелевшие её реликты так или иначе контролируются ФСБ и ФАПСИ в государственном секторе экономики, то такой контроль в частных структурах пока только налаживается. За частными банками и фондами нужен глаз да глаз. Президентский. Спецслужбы, в том числе президентские, не могут остаться в стороне».[10]10
Таймураз Мамаладзе. «О вновь назначенном Егорове и дополненном Рогозине», «Известия», 19.08.1995 г.
[Закрыть]
При таком солидном обосновании необходимости (обязательности) здесь контроля спецслужб вполне логично и её успешная реализация: во всех нынешних коммерческих (о других даже не речь) банках службы безопасности возглавляют бывшие сотрудники спецслужб, не утрачивающие связи со своими «конторами».
Уровень обеспечения безопасности банковской деятельности, правда, выдающимся от этого не стал – в городских метро, пригородных электричках, на сайтах без труда и незадорого можно приобрести сведения, составляющие коммерческую тайну целых банковских консорциумов.
Но зато вся генерация новых банковских «секьюрити» ездит по преимуществу на «Лексусах», обедают только в дорогущих ресторанах с хорошей репутацией, не менее впечатляющи и другие атрибуты их бытоустройства, сохраняя устойчивую тенденцию к постоянному улучшению при любом состоянии дел в банковской сфере и экономике страны в целом.
Но таково завидное обустройство не только «бывших», но и действующих сотрудников и руководителей спецслужб, без тесного взаимодействия с которыми «бывшие» сами по себе мало что значат, мало что могут. А взаимодействие означает, прежде всего, делёж всевозможными прибылями по полной программе.
Сама же банковская «индустрия» – главнейший инструмент регулирования и распределения финансовых денежных потоков государства и общества – является, несмотря ни на что, одной из безопасных сфер жизнедеятельности, участия в работе которой гарантирует сотрудникам спецслужб одни из самых высоких уровней прибылей в обществе при минимальных личных рисках.
После распада СССР, спецслужбы которого были весьма многочисленны (в бывшей ГДР, к примеру, на примерно 17 миллионов жителей приходилось около 100 тысяч сотрудников одной только «Штази»), образовалось (и ныне постоянно пополняется всё новыми «отставниками») такое количество «бывших», что участие спецслужб «в подборе, расстановке и воспитании кадров» для государственных структур свелось практически к трудоустройству множеств своих бывших сотрудников, число которых традиционно превышает количество значимых вакансий.
Ну, а если удалось (что бывает практически всегда и повсеместно) прилично пристроить своих бывших коллег на «грибные» места и с их помощью поднять негласно уровень благосостояния действующих сотрудников спецслужб, то развернуть эту рыхлую, хорошо накормленную структуру с преимущественно горизонтальными неслужебными связями на реализацию какой-либо мировоззренчески состоятельной социальной концепции более чем проблематично.
Обратное утверждение – скорее всего, элемент саморекламы, даже в изложении весьма добросовестных, но малосведущих о предмете авторов. Примером чему может служить одна из статей публицистов, именующих себя «Внутренний предиктор СССР» и озаглавленная «Прогностика и программирование будущего в самоуправлении общества. Мнимое и истинное место спецслужб», где в частности утверждается:
«Ссылаясь на опубликованный в «Совершенно секретно» прогноз, «СПб ведомости» его поясняют, что в событиях 1917 г. и последующих в России была значительная составляющая мистификации – стратегической игры в поддавки со стороны разведки генерального штаба России против третьего отделения собственной «его величества канцелярии», сотрудники которого забыли о национальных интересах России и были переиграны в секретных операциях регулярным масонством Запада.
Разведка Генштаба, подыгрывая регулярному масонству лучше всего контролировала партию большевиков и привела её к власти. После чего занялась некоторой чисткой правящей партии от ставленников своих оппонентов. Разведке Генштаба удалось сохранить царскую семью, а упоминаемый в «Совершенно секретно» Романов-Дальский – претендент на царствование под именем Николая III – прямой потомок Николая II, умершего своей смертью от инсульта в 1921 г. и похороненного с почестями, как частное лицо.
Везде были свои российские разведчики: в частности М.В. Фрунзе и некоторые другие, кого принято было считать все годы советской власти выходцами из народа, по сообщению этой публикации, получили систематическое разностороннее образование в системе Генштаба российской империи, Советский Союз управлялся профессионалами, взращёнными Разведкой Генштаба. Деникин, Колчак и прочие лидеры белого движения названы неудачниками, которых по разным причинам не пригласили для участия во властных структурах «большевистской» России. В советский период истории Генштаб и его разведка так и остались сами собой, а ВЧК-КГБ вобрали в себя космополитов – масонов, глобалистов, продолжая традиции Третьего отделения».
Изложенное – почти классический образец концептуального мифотворчества на основе произвольного толкования состоявшихся исторических событий в пользу, в данном случае, ГРУ.
Несомненно, что к свержению монархии в России приложили в разной степени руку и российские, и зарубежные спецслужбы (чаще – невмешательством или нерадением при исполнении своих обязанностей), и «регулярное масонство Запада», куда входили и отпрыски российской элиты.
Но последовавшие затем хаос революции, гражданской войны, и вызванная ими тотальная разруха, полностью исключили чьё-либо сколь-нибудь значимое системное влияние на события в тогдашней России, уничтожили и предпосылки существования любой сложной иерархированной влиятельной структуры, главными элементами которой обязательно должны являться благоустроенные в социуме люди.
Условий же сколь-нибудь сносного существования у кого бы то ни было в тот период в России не было, за исключением немногочисленной категории высших партфункционеров и чекистов. И только через годы отчаянной борьбы новой власти с хаосом удалось кое-как наладить жизнедеятельность структур советской системы так, как это описал именитый «пролетарский поэт» В.В. Маяковский:
Этот вихрь от мысли до курка
И постройку и пожаров дым
Прибирала партия к рукам
Направляла, строила в ряды.
«Направляла, строила в ряды» жесточайшей репрессивной практикой сотрудников ВЧК-НКВД, разумеется. Другого способа обуздать хаос и национальную погибель в возможно более короткие сроки в то время врядли существовало. В то время практически работала исключительно только одна «концептуальная» установка, для формирования и осознания которой не нужны были ни спецслужбы, ни масоны, спастись любой ценой: долгие годы судьба страны, нации в буквальном смысле висела на соплях.
А то, что всё-таки удалось стране выжить, если оценивать происходящее без идеологической ангажированности крайних противоположных мировоззренческих позиций, скорее заслуга его Величества Случая (или благоговения Судьбы, иными словами), нежели «мудрой политики партии», и уж тем более не благодаря мужеству сотрудников спецслужб. О многих отвратительных сторонах деятельности которых в самых бранных выражениях высказывался даже непререкаемый авторитет советского государства В.И. Ленин.
Так что, ни о каком «концептуальном управлении» обществом с помощью стратегических игр спецслужб не может быть и речи – дай Бог справились бы со своим личным составом, чтоб тот своими разнообразными массовыми злоупотреблениями служебным положением в корыстных целях не прогрыз стенок корабля нации и не пустил его ко дну.
Одним словом, обширная, непрерывная работа спецслужб по участию «в подборе, расстановке и воспитании кадров» в системе государственной власти и управления, в лучшем случае, не оказывает на качество этого управления никакого влияния. Практически же далее решения разнообразных проблем в пользу спецслужб дело обычно не идёт.
Тому есть веское обоснование: постоянно участвуя в разнообразных интригах, реализуя многообразные спецоперации в контексте удовлетворения вменённых им «спецнужд», спецслужбы постоянно сталкиваются с одной и той же неустранимой проблемой, мудро и просто воспроизведённой в сказке о драконе, у которого вместо одной отрубленной головы отрастают три новых.
В практике спецслужб подобное случается сплошь и рядом: убив опасного оппонента охраняемого ими политического режима, чаще всего получают не соглашателя и миролюбца на его место, а ещё более одержимого ненавистью и жаждой мщения «режиму». Или того хуже – вместо распавшейся с гибелью лидера известной и понятной по структуре и методам работы организации получают несколько новых – непонятных и неизученных, которых старая организация подавляла, как конкурентов, не давая развиваться в серьёзную силу.
Если бы, к примеру, у российских революций и всего, что из э того вышло, были бы авторы в спецслужбах внутри и вне страны, то за такое «планирование будущего» с них надлежало бы с живых содрать шкуру.
«Творцы истории», конечно были, в том числе и в спецслужбах. Но каждый имел свои цели, намерения, каждый по своему раскачивал, расшатывал «устои», часто не надеясь на успех вообще, и уж тем более – на скорый. Даже вождь российской социал-демократии (большевистской модели) В.И. Ленин предполагал, что бороться с русским царизмом предстоит ещё долгие десятилетия.
И не мудрено – ему не были ведомы скрытые планы масонов, зарубежных разведок, их ресурсы, расстановка их агентуры в структурах российской власти. Стратеги же масонства и спецслужб не могли себе вообразить всё многообразие грядущего хаоса и последствий российского революционного землетрясения для своих стран.
Каждый участник по своему ненавидел и валил «супостата», а свалив по-своему был глубоко разочарован. И наказан. Современные «творцы мировой истории» стали не в пример своим предтечам благоразумнее: вынужденные законами существования своих структур (масонских лож, кланов, орденов, спецслужб и т. п.) действовать и постоянно сталкиваться с фуриями, обязательно появляющимися при «разгерметизации» ими самими различных «ящиков Пандоры», они пришли к гениальному по своей простоте (но не по уму) рецепту решения обрушивающихся стратегических проблем.
Суть которого в том, чтобы вообще не изнурять себя анализами «ветвящейся вселенной» будущего с его умопомрачительным множеством вероятностей. А попросту решать только те из возникших проблем, решение которых жизненно неизбежно для сегодняшнего дня. А там «Бог даст день – даст и пищу!».
Конечно, это так же мало походит на осознанное сотворение истории, как имитация лечения болезни путём снятия острой боли от лечения, стремящегося устранить в организме источник болезни. Но во всё более разбалансированном мире человеческой цивилизации, похоже, ни ума, ни умений, ни ресурсов на иное у традиционных элит уже нет.
Спецслужбы здесь не исключение – заняты гашениями либо того, что уже горит, либо по возможности изъятием элементов готовящегося пожара. Или поджигают сами что-нибудь впечатляющее во враждебном лагере – чтоб дезорганизовать врага и отвлечь его на внутренние проблемы.
Есть, конечно, определённые концептуальные модели развития глобальных, региональных процессов, есть группы сценаристов и режиссёров-постановщиков с высокими уровнями разнообразной технической оснащённости. Но в конечном итоге все «судьбоносные» решения на каждом уровне разрозненных иерархий власти и управления (в том числе и неформальных) принимаются по преимуществу методом «тыка», всё также на основе интуитивных прозрений тех, кому надлежит это делать по должности, по статусу. Со всеми проистекающими издержками, естественно.
Похоже, что эта навязанная действительностью всем сущим стратегам «генеральная линия поведения», похожая на игру в пинг-понг с постоянно меняющимися количеством игроков и шариков в игре, так теперь и остаётся основным способом «стратегического планирования» спецслужб по любым реализуемым ими концепциям.
Многие советские читатели знакомы с такой стороной деятельности хотя бы армейских контрразведок по талантливому роману Богомолова «В августе сорок четвёртого». Как ни «расставляй и воспитывай» свои негласные «кадры», как ни фаршируй ими правительственные учреждения, корпорации и банки (а заодно и масонские ложи). Особенно в условиях, когда обязательно нужно ещё и обеспечить скрытность проводимой массированной подготовительной работы большого числа сотрудников и их агентуры.
Что же касаемо попыток обосновать решающий вклад той или иной спецслужбы в те или иные исторические (победные, естественно) события, которые уже вполне состоялись, изучены и оценены историками, университетской профессурой и их оценки вынесены СМИ в головы «широких народных масс», то их следует воспринимать, как вполне простительную человеческую слабость, которой подвержены практически все. И которая постоянно материализуется вполне банальной ситуацией, когда у любой победы несметное число авторов, в то время, как у любого поражения таковых не находится, чаще всего вообще.
Понятное дело, что такая оценка почти никакой концептуальной значимости деятельности спецслужб, буде даже она по своей сути будет принята разведсообществами, ничего не изменит в существующей исходной «оптимистической» позиции этих самых спецслужб. По простым и вполне понятным причинам:
1. Никому не хочется собственными руками сокрушать фрагмент мифологического сознания «широких народных масс» о могуществе и всесилии спецслужб, сформированный долгими десятилетиями с помощью, в основном, кинематографа и оппозиционной публицистики, истово находящей следы зловредной деятельности сотрудников тайных полиций даже там, где их отродясь не было.
2. Мало найдётся высших руководителей спецслужбы, у которых существует уверенность в способности собственных ведомств (с учётом их структур, специфических технологий работы), концентрироваться на длительном интервале времени на реализации даже очень важной геополитической задачи в постоянно меняющемся, часто весьма кардинально, социуме, при неизбежном участии спецслужб в стремительных потоках политической жизни.
3. Достаточно образованные и многоопытные руководители (даже на уровне внутрикамерного пахана) отлично осознают высокую полезность благоприятных для себя мифов разнообразного характера: от мнимого владения боевыми искусствами, до могущественных связей или собственном фантастическом бесстрашии и мстительности, и т. п.
Руководители спецслужб также прекрасно осознают (не хуже отцов церкви) «производительную мощь» мифов о всесилии, всепроникновении спецслужб, массировано доносимых СМИ, кинематографически до сознания и подсознания «широких народных масс». А потому и впредь во все времена будут только укреплять такие мифы и конструировать новые.
Особенно хорошо это удаётся, когда к знакомым состоявшимся событиям, правдоподобно воплощённым действиями обаятельных актёров, приплетены измышлённые хитроумные действия спецслужб, якобы обеспечивших историческую победу. Естественно, что здесь несколько оправданий такой практики спецслужб, в частности то, что политики измышляют, выдумывают вообще бессовестно, без меры. Не отстают от них и обслуживающая власть интеллектуальная творческая челядь.
4. В глубине души большим чинам в любых госструктурах, особенно выбившимся в вельможи государства, очень хочется в глубине души верить в то, что они действительно творят историю. Потому в сотворённые даже при их участии мифы они и сами весьма охотно верят, что в сильнейшей степени (не хуже прибылей, наград, почётных или должностных званий) согревает душу. Особенно приятно это слышать вновь и вновь из уст разнообразных угодничающих именитых гимнопевцев.
5. В ряде случаев сотрудникам спецслужб действительно удалось подготовить и осуществить впечатляющие, блестящие по уровню профессионализма операции, истинное содержание которых по множеству соображений нельзя раскрывать никоим образом. Но заявить об этом по политическим и иным мотивам нужно. Тогда только рождаются кинолегенды, в наибольшей мере соответствующие реальности. Хотя, конечно, тоже изрядно приукрашенные художественным вымыслом во имя зрелищности. Но такое – весьма редкое явление в пересчёте на количество занятых в спецслужбах людей.
Таким образом, можно вполне обоснованно заключить, что любые «государственные интересы», которые реализуют, защищают, наряду с другими государственными учреждениями, и спецслужбы, всегда осуществляются преимущественно в виде личного, кланового, корпоративного интересов, либо содержат таковые в изрядной доле. В зависимости от того, какой уровень добросовестности удаётся поддерживать в многообразном чиновничестве лидерам политического режима.
Если, к примеру, при И.В. Сталине голова любого нерадивого чина могла в мгновение оказаться на плахе, то при последнем генсеке КПСС номенклатурное чиновничество трудилось на благо государства уже с изрядным «довеском» своих личных интересов.
Нынешние же чины в своей служебной деятельности практически полностью интересы общества заместили на личные. И теперь если и есть что-то для государства в существовании и работе его традиционных институтов, то только, разве что, сам факт из наличия, которое поддерживает в населении иллюзорную надежду и веру в то, что государство якобы существует и блюдёт интересы общества.
Этой поддерживающей кое-какую жизнеспособность российского социума иллюзией по инерции воспроизводится его минимальная жизнедеятельность. Хоть как-то. Со спецслужбами дело, как кажется, обстоит немного лучше – обстановка понуждает к действиям. Действия – мобилизуют, тренируют, хотя бы в некоторой мере. В отличие от всех прочих «боевых отрядов» многомиллионной коррумпированной российской бюрократии.
7. Кадровые спецнужды спецслужб
Действительно, для спецслужб зачастую нужны достаточно специфические люди, иногда – и с полезными для дела аномалиями в психике, способностях. К примеру, тихони – отличники, послушные родителям и учителям, малоинтересны для них. Разве что, для каких-нибудь технических подразделений обеспечения, где нужны ум и беспрекословная исполнительность при высочайшей добросовестности.
Вообще-то, многие природные человеческие качества вполне поддаются корректировкам, трансформациям в процессе жизнедеятельности. Иногда – весьма существенным. Известно, что грамотно составленной тренировочной программой, под руководством профессионала можно развить в человеке иные природные способности до поразительных уровней. Главное – чтоб от этого была какая-то кому-то польза, и феноменальные способности человека были бы социально востребованы, оценены.
Здесь именно и таится одна из опасностей, которые спецслужбы регулярно воспроизводят в социумах: отправляя на пенсию ещё достаточно нестарых «узких специалистов», подготовленных для производства разнообразных пакостей во имя безопасности государства, спецслужбы становятся «кузницей кадров» и для корпоративных служб безопасности и для структур организованной преступности. Что часто почти одно и то же по целям своей практики.
Кадровые спецнужды спецслужб состоят ещё и в том, что им почти противопоказаны некоторые психотипы: категорически не нужны клинические правдолюбцы, люди с неколебимо устойчивыми взглядами по вопросам социальной справедливости, должного и недолжного социального поведения, иные чрезмерно самостоятельные, неохотно повинующиеся особи. А также те, кто в состоянии трезво, чётко осмысливать последствия своих действий и отстаивать свою точку зрения.
У психологов врачебных комиссий, определяющих психофизическую пригодность кандидатов в спецслужбы есть, конечно, множество своих иных дополнительных параметров, оценок многообразных личностных характеристик. Но уже первичное собеседование опытного руководителя спецслужбы с кандидатом почти сразу, без всяческих психологов позволяет установить и отсеять неприемлемо хороший для спецслужб кадровый материал.
Справедливости ради следует сказать, что перечисленные действительно достойные человеческие качества делают их обладателей людьми неприемлемыми для работы и в службах основных государственных и корпоративных структур. По причинам вполне понятным: устойчивые в своих принципах и убеждениях всегда источники конфликтов, напряжений в коллективах, склонные к тому же «выносить сор из избы» – апеллировать к начальству, общественности и т. п. А ещё того хуже – вести дневники, копить и систематизировать информацию, документы, подтверждающие их правоту и неправоту оппонентов.
Как правило, такие человеческие качества, неприемлемые для разнообразных корпораций, структур, формируются в семейной субкультуре научной, некоторой – лучшей – части творческой интеллигенции, низшего духовенства, преподавательского-профессорского состава конфессиональных школ, университетов, гуманитарных высших учебных заведений стран классической европейской культуры.
Среда этих социальных групп стабильно, во все времена, во всех народах воспроизводит революционеров, пламенных вождей, провозвестников революций, лидеров контрэлит, создателей революционных учений, идеологий.[11]11
Здесь авторы опять зачем-то наводят тень на плетень. Революционеры в нормальной человеческой среде не производятся. Это – прерогатива очень специфической среды разрушителей. На эту тему есть прекрасные работы – Дэвид Дюк «Еврейский вопрос глазами американца» или Эдуард Дрюмон «Еврейская Франция». – Д. Б.
[Закрыть]
Являясь от веку возбудителями людей против наиболее несправедливых жизненных укладов, эта человеческая неугомонная, бескорыстная, готовая к личным жертвам и лишениям во имя своих идеалов генерация, от веку же является и первейшим объектом внимания и репрессивного воздействия спецслужб. Поэтому понятно стремление опытных кадровиков органов госбезопасности изначально отсечь от своих структур тех, кто являет потенциальную угрозу стабильности любого политического режима, во имя сохранения которого в первую очередь и создаются и щедро финансируются любые спецслужбы.
Но не приемлют спецслужбы не только самую содержательную, нравственно-духовную генерацию людей. Противопоказаны им, к примеру, и поражённые нарциссизмом красавцы-мачо, чьи комплексы физиологического превосходства над прочими особями мужского вида, часто наглухо купируют интеллект, не говоря уже о всех прочих необходимых для спецслужбы качествах. Равно, как и многие иные разновидности неколебимо убеждённых в своих неоспоримых превосходствах разной природы над окружающими.
Такая публика всегда вызывает и раздражения, и отторжения многих людей, взаимодействующих по жизни со спесивцами. Отсутствие же у них одного из главных профессиональных достоинств сотрудника спецслужбы – высокой межличностной коммуникабельности – вовсе делает такого кандидата изначально непригодным для оперативной работы.
Малопривлекательна для спецслужб молодёжь из сельской местности в силу её некоторой специфической «приземлённости» мировоззрения, «мировосприятия»: заторможенности мышления, поведения в быстро меняющемся, насыщенном событиями, информацией окружающем мире городов, отличающейся высокой концентрацией людей, интенсивностью их взаимодействий. Размеренный, спокойный уклад сельской жизни формирует труднопреодолимые медлительность, обстоятельность реакций, поступков, их убедительную мотивацию.
Люди с такими качествами просто выпадают из слаженной интенсивной работы сложной структуры, что, естественно, травмирует их самих, вызывает напряжение в работе групп профессионалов. Потому-то, если есть выбор, кадровики спецслужб предпочитают тех, кому городское столпотворение – естественная среда, в которой они легко и свободно «крутятся» с любой предлагаемой жизнью интенсивностью.
Само собой разумеется, что спецслужбы только в исключительных случаях и только для работы в очень специфических секторах человеческой жизнедеятельности отбирают способных, пригодных по психико-физическим кондициям натурализованных представителей этно-конфессиональных, инородческих общин. К примеру, в европейских странах это касается этнических китайцев, арабов, в США – мексиканцев, негров и т. п.
Обоснования такого подхода в кадровой политике очевидны: всерьёз против своего этноса работать никакой сотрудник никогда не будет, а для работы с коренным населением он непригоден – мало найдётся желающих взаимодействовать в серьёзных делах с инородцем.
Само собой разумеется, что в спецслужбы не могут быть приняты люди, совершившие уголовные преступления и привлечённые за это судами к ответственности. Причины тоже вполне очевидны: и потому, что нельзя разрушать легенду о том, что безопасность страны призваны защищать «лучшие из лучших». И потому ещё, что люди, уже явившие себя, как пренебрегающие любыми очевидными и необходимыми к исполнению законами, непригодный, рискованный человеческий материал для работы в управляемых командах, где некорректное поведение даже в мелочи способно провалить серьёзную и дорогостоящую акцию.
Что вовсе не гарантирует того, что ранее не судимые за преступления сотрудники спецслужб не склонны к их совершению и не перешагнут закон в подходящих для этого обстоятельствах. И, тем не менее, люди преимущественно осторожные, достаточно изначально послушные, безусловно предпочтительней для спецслужб тех, кто любит рисковать, импровизировать вопреки воле начальников.
Наиболее подходящие для себя кандидатуры спецслужбы, как правило, рекрутируют в среде хорошо образованных и достаточно обеспеченных социальных групп: научно-технической интеллигенции, государственных служащих, чьи дети получают оптимальное для данного общества образование и воспитание. Предпочтение и здесь отдаётся людям с неброской внешностью, но с достаточным потенциалом воли, честолюбия, интеллекта.
Но наиболее любимый и ценимый кадровый материал для спецслужб, вне всякого сомнения, – дети самих сотрудников и руководителей спецслужб. Выросшие и воспитанные в особой субкультуре ценностей, мотиваций, механизмов взаимоотношений, они оказываются наиболее благодатным материалом для формирования и пополнения среды профессионалов. Кроме того, они уже частично наследуют полезные социальные связи родителей, могут неограниченно обращаться к опыту отцов, который, в отличие от всех иных прочих, доступен для них полностью без всяких купюр, умолчаний.
Особо ценимы дети высокопоставленных руководителей спецслужб – им открыты двери элитных учебных заведений (не говоря уж о лучших университетах), наиболее благоприятные для быстрой карьеры структуры спецслужб, должности в наиболее закрытых центрах управления, госструктурах и т. п.
Вот вполне типичный рядовой, современный пример такой карьерной судьбы:
«Андрей Луговой. Родился в Москве в 1965 году в семье офицера Министерства обороны СССР. С 1987 годы выпускник Московского командного училища Верховного Совета РФ – элитного вуза, кузницы офицеров Минобороны и КГБ. Из кремлёвского курсанта он стал кадровым офицером и принят на службу в 9-е Управление КГБ СССР. В 1991–1996 г.г. служил в главном управлении охраны – Службе безопасности президента, переименованной позднее в ФСО. Потом, уволившись из спецслужб, стал директором службы безопасности телеканала ОРТ, в то время контролировавшегося Борисом Березовским…
Дмитрий Ковтун. Деловой партнёр и друг Андрея Лугового. Родился в Москве в 1965 году в семье офицера Министерства обороны СССР. С 12 лет жил с родителями в Москве – в том же подъезде, что и семья Лугового. С ним вместе поступил в Московское высшее общевойсковое командное военное училище имени Верховного Совета РСФСР, большинство выпускников которого в настоящий момент являются сотрудниками спецподразделений ГРУ, СВР, ФСБ, ФАПСИ. Закончил училище в 1986 году. По окончании служил в Чехословакии, затем в Германии».[12]12
Дарья Пыльнова. Дмитрий Шкрылев. «Российский PR против Скотленд-ярда». «Новая газета». 18.12.2006 г.
[Закрыть]
Понятное дело, что не только отцы упомянутых сотрудников российских спецслужб были весьма высокопоставленными чинами МО СССР, но и их деды, похоже, вели свою родословную не из детских домов, а скорее всего от видных в своё время комбригов или командармов. Иначе бы не оказались в столице на высоких генеральских должностях. И их дети, благодаря положению папаш, проходили военную службу не на Камчатке, Таймыре или, к примеру, в Северодвинске или ещё какой гарантированной дыре, а сразу попали в столичные структуры спецслужбы или в Европу.
Можно нисколько не сомневаться в том, что и отношение к ним во время прохождения службы было со стороны их командиров особым: более снисходительным к «шалостям» и более щедрым при поощрениях за любые сколь-нибудь приметные служебные «подвиги» – как охранительный щит работал авторитет родителя, его дружеских связей.
Подобная практика повсеместно существовала во все времена и в основе её отнюдь не какие-то рациональные начала, а исключительно неодолимые инстинктивные императивы продления благополучия рода, передачи по наследству накопленного, достигнутого высокого социального статуса, который для множеств «элитных» человеческих особей является наивысшим благом.








