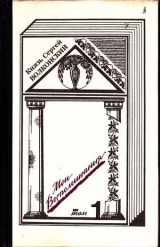
Текст книги "Мои воспоминания (в 3-х томах)"
Автор книги: Сергей Волконский
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 49 (всего у книги 49 страниц)
И тем не менее свидетельство, выданное Маркову, помечено No 2, а No 1 принадлежит Федору Осиповичу Фишерову. Он был в одной студии, где я преподавал, но которая распалась, и я Фишерова даже не помнил. Однажды встретил меня на улице, остановил и сказал, что очень ему хочется у меня брать частные уроки. Мне совсем не хотелось, я его не знал, время мне было дорого, брать с него тоже было неприятно, да и вообще начинать, не зная, стоит ли, но все-таки я сказал зайти. С первого урока я увидал такую сознательность, такую способность к логическому мышлению и такое умение полученные знания обратить в практику, что после того в течение почти двух лет мы занимались, насколько позволяли нам его и мои занятия. Из него выработался настоящий преподаватель. Что мне дорого в нем, это то, что он воспринятое от меня совершенно претворил в свое и при большой педагогической находчивости придумывает новые приемы усвоения, новые технические упражнения, и все это, хотя ново, всегда в согласии с основными принципами. Фишеров и Марков сейчас преподают в разных студиях Москвы; они в спросе, на хорошем счету. Слышал, что они проникали в студии Художественного театра...
Станиславский вначале относился к моим приемам преподавания с недоверием. Он опасался почему-то, что я буду прививать приемы ложного пафоса, который у нас называется "французским". И почему только? Точно у нас нет лжи, а у французов нет простоты. Да наша театральная читка сплошь ложная... Но уже к концу первого года Станиславский смилостивился; на второй год он уже говорил на репетициях своим актерам: "Ступайте к Волконскому, потому что я не могу тратить семьдесят пять репетиций из ста на то, чтобы учить вас читать".
Поворот Станиславского в сторону техники очень знаменателен. Для меня же это было провозглашением победы моих принципов. Люди, восставшие против моих путей "во имя" путей Константина Сергеевича, остались на платформе Станиславского – без Станиславского. Конечно, Константин Сергеевич не изменил своим принципам, но он увидел, что без разработки техники нельзя. Поворот его был настолько силен, что появилась статья Мейерхольда "Одиночество Станиславского", в которой маститый "Теократ" утверждал, что после того, что Станиславский говорит теперь на своих лекциях, ему остается лишь уйти из Художественного театра...
Я, во всяком случае, глубоко благодарен Константину Сергеевичу за высокодружескую поддержку, какую нашел в нем, а главное – за ту медленную эволюцию, с какою эта поддержка понемногу осуществлялась...
О значительности этого поворота могу судить, когда вспоминаю предостережения покойного моего приятеля Алексея Александровича Стаховича, который был близкий друг Станиславского и мне передавал его суждения. Он всегда мне говорил: "Не обольщайся: в этом году на тебя мода, в будущем году к тебе охладеют, а на третий год тебя забудут". Как я жалею, что не довелось ему видеть картину Станиславского, сидящего за столиком и записывающего мой урок. Сколько молодости было в этом увенчанном сединой лице и как старчески угасша была рядом с ним студийная театральная молодежь, как пугливо-безразлична к новому слову...
Не для того, чтобы хвастать, но ради ясности положения и обоснования моих утверждений упомяну о том, что Константин Сергеевич пожелал пройти со мной монолог "Скупого рыцаря", то есть чтобы я ему высказал мои взгляды и приемы чтения по поводу этого монолога. Он пожелал также, чтобы я взял на себя выправление "Синей птицы" в Художественном театре. Но после первых же попыток я должен был отказаться. Я взял на пробу акт "Лазурного царства" и ничего не мог добиться. Эти актрисы понятия не имеют о движении голоса; инструмент голосовой совершенно бессознателен и увязает в однажды принятых привычках и ухватках. Они не знали, что значит повышение и понижение голоса, а когда узнали, то не могли исполнить: голос все впадал в старую складку. В течение восьми уроков повторяли мы одну несчастную фразу; выходят на сцену – говорят по-старому. Эти люди, которым Станиславский с утра до ночи повторяет о "мышечном ослаблении", выходят на сцену такими связанными, напряженными, с такой фальшью в напряженном голосе и в способе давать его, что получается не "Лазурное царство", а какая-то санатория*.
______________________
* Вовсе не выставляю это как какой-нибудь специальный недостаток Художественного театра – во всех театрах то же самое, и ни одна школа этого не знает, никто этого не слышит; учителя на это никогда не обращали внимания, они даже не знают о существовании науки о законах речи, а ученики, когда я им об этом говорил, в большинстве считали, что это напрасная трата времени: было бы чувство (или, как у нас говорят, – чуйство), больше ничего не нужно. И ни один не призадумается над тем, что ведь чувство мое, чтобы дойти до другого человека, должно через что-нибудь пройти. У пианиста через пальцы (он их и упражняет), у актера через голос (нужно его воспитывать).
Станиславский пожелал, чтобы я выправил. Но, во-первых, выправлять всегда неблагодарная задача. Во-вторых, он делает непростительную ошибку, когда думает, что можно пускать на сцену людей, которые не только не выработали всех возможностей своего голоса и умения ими владеть соответственно требованиям сознательного искусства, но даже не отдают себе отчета в том, что такое средства голоса, каково их разнообразие и каков их смысл. Вот почему я, после нескольких попыток, устранился. Нельзя учить людей, которые думают, что они умеют, нельзя прививать хорошие привычки людям, которые укореняются в дурных, – это напрасная трата сил... Всего этого мой покойный друг Стахович не видел. В первый год моего московского житья, 13 марта 1919 года, он повесился. Я подробно говорю и о нем и о его трагической кончине в моих «Лаврах».
Мои две "гисовские шестерки" вспоминаю с удовольствием; это была настоящая работа. Узнав, что я собираюсь осенью ехать в Петербург, мои слушатели выразили желание заниматься со мной в летние месяцы. За эти экстренные занятия они захотели меня вознаградить сахаром... Не все их имена помню, но многих из них провожаю благодарной памятью в ту пучину прошлого, на поверхности которой вряд ли когда встретимся.
Один, по имени Покровский, как-то исчез, а уже перед самым моим отъездом вдруг зашел ко мне на квартиру:
– Я случайно получил баночку икры. Прошу принять от меня на память.
Таких примеров внимания много мог бы перечислить. Мы, там жившие, мы знали, что это такое – получить банку или коробку чего-нибудь вкусного; мы знали, какая это радость, какой праздник. И тем не менее приносили, делились. Приносили мне и хлеба, и крупы, и леденцов, и яблок, и банку персиковых консервов... И нельзя было не принять.
Бедный Покровский! Он был нервен, после какой-то болезни или раны осталось подергивание; но он настойчиво работал в надежде стать преподавателем декламации.
– Что же вас давно не видно было? Что делаете?
– Ах, Сергей Михайлович, стыдно и сказать, что делаю. На углу Кузнецкого и Софийки с лотком стою и продаю карандаши и резинки. Вот что делаю, чтобы просуществовать.
А были стремления, были порывы... Да, мастера большевики в деле угашания духа. А Сережникову, директору заведения, в наркомпросе говорят: "Нам ваше заведение нужно как воздух". Все на словах, все на бумаге; дайте нам бумаги – мы будем деловиты; дайте нам громких слов – мы будем культурны... О, как начинали надоедать громкие слова! Народ уже от голоду умирал, а они все еще с балкона говорили: "Попы вам обещают рай после смерти, а мы вам его даем на земле". Не все уже верили этой коммунистической шарманке. В течение года или полутора в Москве не ходили трамваи; вот на одном митинге оратор расписывает; мы сделаем то-то и то-то, и электрификация, и солнца нам уже не надо – "Мы зальем города искусственными солнцами!.." Скромный голос из публики: "А трамваи будут ходить?.."
В несуразном ГИСе я познакомился с одним из самых выдающихся людей нашего времени. Имя профессора философии Ильина было достаточно известно. Но разве в современной Москве можно найти минуту, чтобы пойти куда-нибудь, кроме своих лекций, большевистских канцелярий и своей берлоги?..
К большой радости моей узнал, что в ГИСе будет читать Ильин. Но он свободен только по четвергам от шести до восьми, а это был мой час по курсу мимики, и он просит, могу ли я ему уступить один четверг из двух. Таким образом, я, во-первых, имел честь чередоваться с Ильиным, а во-вторых, получал возможность послушать его в освобождающийся час. Четверговые лекции происходили перед всем составом студентов; они очень посещались, а лекции удивительного Ильина были, конечно, событием. Он говорил сильно, твердо; его курс был только введением в эстетику, но в каждом слове, в каждой интонации звучало исповедание высокого духа, не поддающегося никаким давлениям и бесстрашно держащего знамя свободного мышления и свободного его выражения. Он не всем нравился так же, как своим слушателям, и перед самым моим отъездом я слышал, что он был выставлен из университета.
Несмотря на то, что я бывал на лекциях Ильина, я, по близорукости своей, не знал его в лицо. В одном заседании совета преподавателей мой сосед передает мне записку, в которой просит написать часы моих лекций. Я написал; мы обменялись несколькими словами. Во время заседания только из обращения других я понял, что это Иван Александрович Ильин. Он не пришел на мою лекцию, но вместо того пригласил меня к себе на квартиру, с тем чтобы я рассказал ему мою "систему". Вспоминаю с благодарностью и восхищением то внимание, которое он мне подарил. Пока я говорил, он раз прервал меня:
– Сергей Михайлович, чему же учат те, которые этому не учат?
Трудно, конечно, судить своих товарищей по кафедре, тем более что, несмотря на новизну моих требований и резкость, с какой я их проводил, они приняли меня с товарищеским доброжелательством; однако слишком люблю свое дело и слишком скорблю о невозможной его постановке, чтобы не сказать здесь по поводу поставленного мне Ильиным вопроса, что наши студии дают камень вместо хлеба.
С Ильиным мы видались часто и подолгу. Сохраняю память о его прощальном привете накануне моего отъезда из Москвы; он, конечно, как и никто, не знал, что я имею планы ехать "дальше", он напутствовал меня в Петербург, но я сохраняю память о нашем прощании как напутствие на остаток дней моих... Ильин, конечно, самое высокое и самое сильное, что осталось там, в России...
В сентябре я выехал в Петербург...*
______________________
* Эти строки уже пошли в печать, когда я узнал об изгнании профессоров из советских пределов. Имя Ильина в числе изгоняемых. Счастлив был видеть и свое имя в том числе. В каком другом мероприятии этого гнусного правительства сказалась с большей яркостью та ложь, в которой оно пребывает? Они провозглашают культуру, но что же они делают? Ставят памятники Радищевым, именуют улицу именем Грановского, а Ильиных, Бердяевых сажают и изгоняют. Какая отвратительная ложь в этом ухаживании за покойниками и преследовании живых... Но какой же правды ждать от людей, которые провозглашают принцип уничтожения капитала во всем мире, как они сделали в России, а на Генуэзской конференции на весь мир объявляют, что спасение России в иностранном капитале!
В то время начиналось, даже уже осуществлялось то, что получило ходкое прозвище «эволюция большевизма». Торговля, до известной степени возвращение собственности, открытие большевистского банка. (Нет, вы только подумайте – сочетание слов: большевистский государственный банк!) Тут же декрет о разрешении людям известного возраста покинуть большевистскую республику. Вот последние впечатления осени 1921 года.
К этому прибавлялись ужасающие подробности последнего петербургского расстрела. Расстрела, где, по официальному признанию, был убит 61 человек. В их числе поэт Гумилев, князь Ухтомский, работавший в Эрмитаже и казненный, как гласит официальное сообщение, за доставление за границу сведений о деятельности музеев. В числе их – шестидесятилетняя старуха и муж с женой, Акимовы-Перец; она расстреляна на пятом месяце беременности. Тогда же погиб некий Бак, молодой, ни в чем не повинный, благородный и высокой честности.
Все это становилось невыносимым. Я начинал не владеть собой. В одной канцелярии в присутствии преподавателей и многих учащихся, а главное, нарочно в присутствии многих коммунистов я объявил, что не могу продолжать читать в заведении, которое именует себя культурным и не ходатайствует во имя культуры о том, чтобы наконец были прекращены расстрелы. Вокруг меня улыбались!! О, эта улыбка! Что в ней? Безразличие? Снисхождение к чувствительности? Удовлетворение просыпающегося зверинства? Но эта улыбка меня всюду встречала: это был ответ на негодование. Я рассказываю человеку, что одна моя родственница потеряла сына от сыпняка, муж в концентрационном лагере, сама босиком ходит по улицам Одессы, – он улыбается, как будто я ему рассказываю, что она вышла замуж по любви!
И это не только закоренелые коммунисты; люди благодушные и не коммунистически настроенные доходили до какого-то притупления чувств. Одного милого ученика встречаю на улице как раз в то утро, когда узнал о расстреле Гумилева: говорю ему, а он: "Э! Сергей Михайлович! Стоит ли беспокоиться!" Как о чем-то совершенно неважном: пропал носовой платок...
В прекрасной книге Вандаля "L'avenement de Napoleon" помню, когда он говорит о настроениях последних месяцев революции, помню такую фразу: "L'apathie temperait l'indignation" (Апатия смягчала негодование). Ужаснейшее "воспитательное" влияние большевизма: разрушение характера. Или цинизм, или усталое безразличие. И оба сливаются в одном: "наплевать". Я больше не выдерживал. На улице одному коммунисту отказался руку подать. Если бы я не уехал в Петербург, могло бы плохо кончиться: после моего отъезда приходили меня арестовать. На Петербург почему-то это не распространилось...
Итак, осуществлялось то, что называется теперь "эволюция большевизма". У людей отняли все, им запрещали что бы то ни было продавать. Магазинов не было; когда цены взвинтились до невероятных пределов, а у людей ничего больше не было, сказали: можно открывать магазины и разрешается в этих магазинах продавать и покупать.
Когда у людей отняли что у них было золотого и серебряного, а тех, кто скрывал, промучили и порасстреляли, тогда открыли банк и сказали: приносите нам ваше золото; не бойтесь, мы вас не будем расстреливать, как ваших братьев, а мы у вас его возьмем и разменяем вам на негодные бумажки...
То, что прежде запрещалось, за что расстреливали, то теперь не только разрешалось, но поощрялось. Объявили, что слово "спекуляция" изымается из криминального обихода: то, что прежде было поводом к расстрелу, теперь становилось пустым звуком...
Обнародовали в Петербурге список домов, подлежащих возвращению прежним владельцам, – восемь тысяч домов. В течение двух с половиной месяцев на этот зов откликнулось домовладельцев одиннадцать человек. Это из газеты, большевистской, конечно, – разве другие есть в стране свободы? Это цифра официальная, и официальная газета прибавляет, что, очевидно, была плохая "информация". Она не говорит о том, что дома рушатся, подвалы залиты водой, потолки дают трещины и сыпятся, квартиры заселены до переполнения, водопроводы не действуют, имущество вывезено, материала на ремонт не достать, рабочие недоступно дороги, денег нет, а со стороны уступчивого правительства одни только требования – в известный срок восстановить и угроза, что за невыполнение последует ответственность "по всем строгостям революционного времени". Нет, всего этого газета не упоминает, а вот "информация", видите ли, подгадила...
Разрешение на выезд после пятидесяти лет... В комнате No 28 сидит барыня в нарядном черном платье с отменными манерами. Это тоже эволюция: вместо папахи с папироской.
– И много уже воспользовалось разрешением?
– Очень много.
– Как давно декрет?
– Полтора месяца. Видите ли, мы это сделали (что это "мы"? – pluralis majestatis или pluralis modestiae? [Множественное число от величия или от скромности? (лат.)]), мы это сделали для того, чтобы дать возможность тем старым и больным людям, у которых есть за границей родственники, найти там условия более легкие, чем те, в которых они здесь живут.
Хотелось сказать, что проще было бы не ставить их в те условия, в которые они "вами" поставлены, но я спросил:
– Это без права возвращения?
– Пока. Но, конечно, впоследствии...
– Так что, собственно, это изгнание?
– Нет, я вам говорю, что, как только обстоятельства поправятся...
– Ну да ведь так мало привлекательного и сердцу близкого здесь осталось...
С ангельской улыбкой эта интернационалка отвечала:
– Ну все-таки – голос родины...
– Ну, знаете, после того, что на родине со мной сделали... У меня все отняли, меня только еще раздеть можно, и то корысть невелика – локти продраны... Вы смотрите, что у меня пальто хорошее, меховое? Это моего друга, который повесился.
После этого разговора я решил бежать каким угодно способом, но только не быть обязанным своим освобождением таким людям. Официальное высвобождение, как это называется там – легальный выезд, сопряжено с большими затруднениями. Один мой знакомый получил из-за границы денег, подал все необходимые заявления, имеет все права по возрасту, все преимущества по болезни и тем не менее не может выехать: с него требуют взятки, а он не хочет давать. Вероятно, он сейчас уже и деньги свои путевые прожил, это было почти год тому назад...
Еще одно воспоминание последних дней. Пришли меня пригласить прочитать в пользу голодающих. В то время много было сборов на голодающих. Один день парикмахеры стригли и брили в пользу голодающих; другой раз театральный сбор шел на голодающих; то налог на передвижение: кто едет, а не идет пешком – сто тысяч в пользу голодающих. Был и день катанья. По Невскому разъезжали придворные коляски, запряженные рыжими тройками, – шеи колесом, сбруя с бляхами, ямщик с павлиньими перьями; или проезжали английские шарабаны, кучер в ливрее и цилиндре; в этих экипажах, развалившись, размахивая руками, сидели по пять, шесть человек матросы или рабочие и орали – в пользу голодающих. Такая прогулка по Невскому взад и вперед стоила двести тысяч. Наконец, был и день воздухоплавания в пользу голодающих.
Так вот, пригласили меня в пользу голодающих прочитать. Будет вечер, сборный: Немирович-Данченко, Кони и я. Вечер в клубе имени Маркса, на Владимирской (бывший дом Голицына, красивый растреллиевский дом, где была редакция "Петербургской газеты"). Вечер будет называться "Вечер воспоминаний". Просят меня что-нибудь прочитать соответствующее и, кроме того, вступительное слово – о значении воспоминаний. Вознаграждение лекторское, с позволения сказать, го-но-рар – 50 тысяч.
Я принял приглашение. Во вступительном слове я сказал о культурной роли памяти, об уважении к памятникам, о тех народах, которые подверглись нашествиям иноплеменников, но своих варваров не имели, таких, которые протыкали портреты штыками...
Одна коммунистка-комиссарша влетела в "артистическую" комнату в совершенно взъерошенных чувствах от таких "контрреволюционных" слов. Значит, так надо понимать, что не контрреволюционно было бы сказать, что памятники надо разрушать и что это неварварство?.. Какая в этой лжи боязливость перед тем, чтобы называть вещи своими именами. На всех углах плакаты: «Берегите памятники», «Берегите книгу» и прочие благие пожелания, а назвать варваром того, кто разрушает, – это не полагается, это контрреволюция...
Во втором моем выступлении в тот вечер я говорил о декабристах и кончил тем, что таких людей, как они, больше не будет: "Это были люди, в которых не было ни капли ненависти – одна любовь; люди, которые ничего не хотели для себя – все для других; это были люди, в которых не было ни малейшей корысти – одна жертва. И вот почему в наши времена вспоминать о декабристах благотворно..." После чтения пригласили лекторов в канцелярию. Я знал зачем, но спросил.
– Вы имеете получить 50 тысяч.
– Простите, я с голодающих не беру. У меня все отняли, но я у других не беру. В этом я неисправимый буржуй.
– В таком случае позвольте вас поблагодарить.
– Не за что...
И, наконец, последнее впечатление последних дней. Артисты петербургских театров пригласили меня прочитать лекцию о театре. В бывшей квартире директора императорских театров помещается теперь Театральный музей. Одна комната этого музея, бывшая приемная зала, оставлена под собрания и лекции. Здесь, в бывшей моей квартире, в зале с желтыми занавесками, которые я сам когда-то выбирал, я прочитал четыре или пять лекций, взяв для того несколько глав из первой части моих воспоминаний: о Росси, Сальвини, о немецком и итальянском театре, о Саре Бернар, Дузе, Режан... Отношение было самое теплое.
Престарелый Владимир Николаевич Давыдов председательствовал. Он был совсем слаб, память уже не подавала, и ему подсказывали. Я в Риме три месяца тому назад видел его дочь; она прислуживала в русском ресторане; я мог ей мало утешительного сказать о ее отце... Одну лекцию я прочитал там же в пользу убежища для престарелых артистов, – прочитал своих "Декабристов". Вера Аркадьевна Мичурина, как член комитета, сказала очень милое заключительное слово, которое закончила тем, что "мы всегда уважали образ княгини Марии Николаевны Волконской, увлекались ее трогательными воспоминаниями, но могла ли она думать, что тяжелыми испытаниями своей жизни она через своего внука сослужит службу нашему убежищу?.."
Среди знаков доброго внимания, с которыми встретила меня театральная среда, с особенной признательностью вспоминаю Надежду Алексеевну Бакеркину, бывшую балетную артистку, которая заведовала балетным отделом Театрального музея. В ее квартире на Каменноостровском, где она жила с сестрой Марией Алексеевной, находил я отдых, сочувствие и редкое гостеприимство, начиная с хозяек и кончая собачками – белой Миреткой и черной Тотошкой...
Петербург был великолепен в своем постепенном умирании. Красавец, заживо гниющий. Пустынные улицы зеленели травой, решетки каналов валились, подвалы домов заливались водой, но под этим умиранием в летаргической недвижности стояла застывшая краса тех очертаний, что задумали и осуществили строители дивного града Петра. И Нева все так же катит волны, Исаакиевский купол блестит, бездымный воздух чист и ясен "И светла Адмиралтейская игла...". На этом кончаю свои воспоминания.
* * *
Сейчас я уже не на Родине – на чужбине. Вокруг меня зеленые горы, пастбища, леса, скалы. Надо мной синее небо, светозарные тучи. Вы скажете, что и там было синее небо, и там светозарные тучи? Может быть, но я их не видел; они были забрызганы, заплеваны, загажены; между небом и землей висел гнет бесправия, ненависти, смерти. И сама "равнодушная природа красою вечной" уже не сияла. Здесь она сияет, но всегда и всюду вижу недремлющего Змия. Летний день "горяч и золот", но Змий сторожит и ждет. Жасмин благоухает, в душистых светотенях липы жужжат бесчисленные пчелы,
В розе пышной и пахучей,
Нежась, спит блестящий жук,
а там разрушение продолжается и озверение растет...








