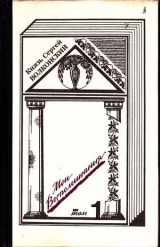
Текст книги "Мои воспоминания (в 3-х томах)"
Автор книги: Сергей Волконский
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 42 (всего у книги 49 страниц)
Расшатывание чувства собственности шло с поразительной быстротой. "Это все будет наше", – говорили мне некоторые крестьяне, сельские говоруны. Мальчишки в саду попадались с пучками ветвей красной смородины:
– Зачем вы обломали?
– Все равно наше будет.
– Я знаю, что ваше; да зачем же вы ваше да ломаете? И удивляло меня всегда, почему они говорят: "будет наше", почему не говорят: "это наше"? Потребовалось некоторое время, чтобы они поняли, что это легче, чем им кажется, проще, чем им рисовали эсеры. Эсеры им говорили: "Подождите, мы дадим, будет ваше". Пришли большевики и сказали: "Чего вы, дурни, ждете, – берите". Могло бы и не быть большевиков, а большевизм все равно был бы...
Здесь упомяну мимоходом, что в самом начале революции (уже был апрель, но были еще "мартовские дни") я получил телеграмму от Головина, бывшего председателя II Думы, а при Временном правительстве управлявшего наследием министерства Двора. Он предлагал мне принять управление бывшими императорскими, ныне государственными театрами. Я отказался. Во-первых, я не верил в жизнеспособность того, что начиналось; во-вторых, театр меня уже как таковой не интересовал; я уже совсем обосновался на вопросах театрального воспитания и преподавания, и заведовать театрами, "улучшать" театр, в то время как надо создавать актеров, я считал бесполезной и непочтенной тратой времени и стараний.
За моим отказом был назначен Федор Дмитриевич Батюшков, человек тихий, скромный, образованный, но не театрального, а литературного мира и с театром никогда не имевший соприкосновения, кроме того, что он состоял членом "литературного комитета", рассматривавшего представляемые в дирекцию пьесы. После воцарения большевиков Батюшков некоторое, очень короткое время оставался, но потом вышел, написав комиссару по театральным делам очень дельное и сильное письмо. Я узнал об этом совсем случайным образом.
Осенью того же 1917 года, как о том расскажу ниже, я был в казацкой станице Урюпино. Случайно увидел на столе в одном доме старый номер, очевидно, один из последних номеров "Петербургской газеты". Эта газетка всегда уделяла много места не только театральным делам, но и закулисным сплетням. Смотрю: Батюшков, его уход, его письмо. Это были уже устаревшие новости, но письмо так мне понравилось, что, придя домой, я написал ему, послал ему мое сочувствие. Вскоре после того он умер. Мое письмо я адресовал в дирекцию театров и потому имел полное основание думать, что оно могло не быть доставлено. Через два года в Москве узнал – не помню, от кого, – что Федор Дмитриевич его получил. Мы с Батюшковым были товарищи по университету; он был, как и я, учеником Веселовского по романским языкам.
Образовался у нас в Борисоглебске, как и везде, Союз землевладельцев. Председательствовал бывший председатель земской управы Николай Александрович Гусев, дельный, тихий и приятный человек. Ему и его жене впоследствии, я, когда был вынужден скрываться, был лично очень обязан. Союз наш действовал толково, в особенности в смысле разъяснения крестьянам приемов и условий отчуждения земли. Но под всей работой чувствовалась какая-то ненужность и бездонность.
Это мне стало еще яснее, когда я попал как делегат нашего союза на московский Всероссийский съезд землевладельцев. Съезд заседал в Никитском театре. Столько дельного, практически обоснованного я редко когда слыхал в многочисленных наших съездах, комиссиях, собраниях. Редко видал и такое единодушие. Когда был поставлен вопрос о желательности или нежелательности отчуждения помещичьей земли в пользу крестьян, причем несогласным было предложено поднять руку, в обширном зале Никитского театра поднялось только пять рук. И несмотря на это, все вместе оставляет впечатление какого-то истерического крика, бессильного порыва против надвигающейся стихии. Среди ораторов выделялись князь Крапоткин (конечно, не тот) и, если не ошибаюсь, барон Энгельгардт из восточных губерний. Много у меня накопилось материала тогда; вернувшись, я сделал доклад нашему собранию; но сейчас уже не помню. Странно, это мне кажется таким далеким, более далеким, чем то дальнее, о чем писал в предыдущих главах.
Но помню и не могу забыть крестьянских представителей на этом съезде. Они, между прочим, были отправлены делегатами... Не знаю, почему употребляю это иностранное слово, и вспоминаю по этому поводу рассказ про одного губернатора, который говорил: "Господа, зачем иностранное слово делегат, когда есть русское слово депутат?" Итак, эти крестьянские представители были посланы уполномоченными в Петербург к тогдашнему министру земледелия Чернову. Через два дня они вернулись и рассказали нам о своей поездке, о приеме министра и о своих петербургских впечатлениях. Нельзя передать этот черноземный юмор, эту едкость оценки, беспощадность этого суда. И как все это было рассказано!
Этот кусок жизни, трепещущий негодованием, можно сказать, облитый кровавыми слезами, был вместе с тем последней степенью художественной формы. Как эти люди, из деревни, которые дальше своей губернии вряд ли когда бывали, как могли они, попав в столицу, в кабинет министра, как могли они прочувствовать, объять и оценить эту обстановку и этих людей и так свои впечатления передать? Вижу, как они ехали, как извозчиков на вокзале наняли, как из-за угла Знаменской их обдало дробным "пуканьем" перестрелки, как приехали в министерство, дожидались и наконец вошли к нему. "Сидит это у стола, косматый, перед ним всё бумаги, а вокруг него всё телефоны – и направо телефон, и налево телефон, и под столом телефон. И он это трубку за трубкой берет и к уху прикладывает. Одну возьмет – нет, не та; другую возьмет – опять не та. "Что такое, говорит, все не та?" Третью трубку – и опять не та. "Ну, говорит, нехай, пущай подождут". А на вопросы наши все ничего. "Некогда, говорит, так занят, так занят..." Да чем же, говорим, заняты, коли в наше дело не вникаете? Говорит, – всей Россией занят, а не то что ваше дело. "А мы-то, говорим, не Россия разве?" Ведь встал, прощаться стал, ей-Богу! А мы как обступим, да за грудки его держим, ну, он тут сказал, что даст распоряжение. А даст ли, да какое, кто его знает?..
Так хлестала народная мудрость этих проходимцев, мявших в руки народные судьбы. Они вышли из министерства, побежали на вокзал, уже не по Невскому, а "проулками", Чернышевским мостом; добежали, едва-едва поспели. Пробирались по вокзалу, мешков навалено, людей видимо-невидимо. Наконец в вагон вскочили, сели, перекреститься не успели, как тронулся поезд... То, что я передаю, есть лишь жалкое приближение, но когда я у нас в союзе на общем собрании это рассказал – народу в зале судебных заседаний было много, – нарастал и разразился такой неудержимый смех, что я был вынужден для перехода к существу доклада сказать: "Да, господа, все это было бы смешно, когда бы не было так грустно".
В то время возникла в Борисоглебске маленькая газетка (не помню, как называлась); в этой газетке я писал по вопросам современности, обыкновенно в разговорной форме и стараясь переводить серьезные общественно-экономические вопросы на почву домашне-обывательских интересов. Дорого бы дал, чтобы иметь сейчас под рукой эти мои статьи: в них жизнь момента сказывается с большей яркостью, чем та, на какую способна моя память... Бывали рассказы и юмористические. Один из них был построен на том, что мне передала Элеонора Осиповна Гусева. Назывался рассказ "Булка".
"Софья Васильевна сидела за самоваром и шитым полотенцем обтирала ложку.
Против нее, едва видный из-за стола, сидел ее восьмилетний крестник Ванька, деревенский мальчишка. Уже с пятилетнего возраста он приходил по праздникам из деревни с "поздравлением". До переворота мать говорила ему: "Ну, Ванятка, ступай завтра к крестной барыне". После переворота она стала говорить: "Ступай, Ванятка, завтра к этой самой крестной"...
– Что же ты не в том пальтишке пришел, что я тебе подарила?
– А мать яо прадала.
– Вот как. А она мне говорила, что так тебе пальтишко нужно.
– На што оно мне, когда у меня свое было. А мать яо прадала, семь с полтиной взяла.
Он, чуть не лежа на столе, дул в блюдечко и, длинным взглядом скользя по клеенчатой скатерти, смотрел на "эту самую крестную".
– Ну, что у вас на деревне нового?
– Новава ничао, а только скоро будем их бить.
– Кого это?
– А буржуев.
– За что же их бить-то?
– А за то, что буржуи.
Он усиленно жевал вкусную булку, и трудно было даже отличить, что было ему вкуснее, – булка или слово "буржуй".
– Как же вы их будете бить?
– А из ревальверта. А когда не довольно, тогда еще и спинжалом его.
Он поставил сухое блюдечко и пальцем провел под мокрым носом.
...В ту ночь Софья Васильевна видела во сне, что, кушая булку, она накололась на кинжал..."
Большего не помню. Помню лишь, что в словах мальчика слово "буржуй" проходило во всех падежах. Рассказ этот, как сказал, списан с натуры. Он рисует атмосферу и разговоры, среди которых росли тогда крестьянские дети...
О тогдашние разговоры! Ведь вся Россия говорила: город говорил, деревня говорила, вокзалы говорили, в вагонах заснуть нельзя было, потому что вся Россия говорила. И что за нечесанные речи! Обо всем, специальностей не было, всякий обо всем. Хотелось бы и теперь послушать некоторых из наших говорунов. Один, косивший у меня в парке, сказал мне, значительно покачав головой: "Мы что, а вот послушайте, сын мой приедет, вот говорит так говорит"... И вот приехала эта птица в защитном цвете и в папахе. Наслышался я тогда всяких "контактов" и "продуктивностей". Удивительно, как человек думает, что он поумнел, оттого что употребляет слова, которых не понимает. От времени до времени ссылка на авторитет: "Про это хорошо сказала Брешко-Брешковская..." Что сказала, я, разумеется, не помню; ведь для этих людей цитировать имя важнее, чем сама цитата. Другой был Андрей Кованев села Несевкина. Он был из числа деятельных, участвовал в комиссиях, куда-то к сроку поспевал, из тех, которые думают, что без него если не Россия, то уезд, во всяком случае, пропадет. Он меня почему-то выбирал жертвою своего красноречия, и все у него возвращалось, что он принимает меры, "а то боюсь, как бы у нас не вышел конфеликт на почве аграрных беспорядков". Очень ему нравилась эта закругленная фраза, но предотвратить он не сумел. Во всей России самая ужасная губерния была Тамбовская, во всей Тамбовской губернии самый ужасный был Борисоглебский уезд, и во всем уезде самый ужасный наш околоток: имена Мучкапа, Алабух и станции Волконской впоследствии я читал уже в Москве как место действия самых кровавых "конфеликтов".
Был еще другой Кованев, Владимир, славный малый. Он все смотрел и умилялся, как я подстригаю деревья и кусты.
– И для кого вы трудитесь? Ведь смотреть жалко. Сами ведь уже не увидите.
– Я не для себя, я для красоты.
– И кто только после вас стричь будет?
– После меня уже не стричь, а рубить будут.
И до последнего дня я подстригал и подчищал, и до последнего дня Франц и Людвиг расчищали фруктовый сад, так что волостное правление всполошилось: не хотело верить в бескорыстие такой работы – что-нибудь тут неспроста... И до конца все в парке продолжалось, как будто готовилось к будущему лету и к будущим годам...
Прощания настоящего не было: к чему дальние проводы? Одно, впрочем, было прощание тягостное: когда я спускался по ступеням моей итальянской залы в нижнюю часть, туда, где по полкам стояла моя библиотека, каюсь, у меня дрожали колена. Обходил книги и прощался. Тут была вся богословская библиотека моей матери, была моя библиотека по театральному воспитанию, думаю, единственная в России...
На каждой книге надпись: где, когда приобретена... Подходил, просматривал, клал на место. Почему я с ними прощался? Не было основания; о национализации книг в то время не было речи, а о том, что они будут в качестве "народной собственности" на базаре продаваться, могло ли в голову прийти. Но я прощался со своими книгами... Библиотека ниже уровня земли, и высокая и глубокая комната погружена в молчание; фортепиано открыто; мраморный бюст мадонны желтой белизной вырисовывается на темном дубе библиотеки; из южных окон два луча падают в нижнюю часть комнаты на круглый стол, и пламенеет под ними букет красных георгин...
Когда ясно стало, что все прахом пойдет, стал думать: что сделать с теплицей, чтобы растения не погибли? Решил устроить в Борисоглебске базар в пользу одного там ремесленного училища для девочек. В это училище я часто ходил, занимался с девочками, читал им; школа эта меня интересовала; надзирательница, Вера Ивановна Скрынникова, влагала много разума и сердца в руководительство этим заведением.
Попросил городского голову Козловского выхлопотать мне разрешение на пользование городским бульваром в течение трех дней для устройства благотворительного базара. Разрешение было дано, с охотой даже. Так как жара была страшная (июль месяц на исходе), то растения перевезли ночью. В пять часов утра разбудил меня топот по доскам мостика; вскакиваю – десять, двенадцать подвод под предводительством Франца и Людвига, и на них знакомые фикусы, пальмы, агавы и прочее тропическое население моей павловской теплицы. Как раз в это время в больнице у меня была целая партия легкораненых, а многие просто с недомоганиями. Всех заинтересовала разборка, переноска и расстановка растений. Бульвар был против моего дома, даже в заборе в этом месте калитка. Целый день проработали и превратили этот бульвар уездного города прямо в кусочек Ниццы. Лоханку фонтана разукрасили висячими настурциями и геранями, в киоске устроили продажу живых и сушеных цветов. На другой день девочки-"ремесленницы", каждая с ножницами, с пачкой купонов, явились в шесть часов утра, чтобы полить, подвязать, подмести. "Праздник цветов" удался на славу. Все раскупили, только самые большие деревья остались; их поставили в городскую управу. Девочки были в восторге и поднесли мне своей работы скатерть, а Францу и Людвигу, как ходившим за растениями, привезшим их, подарили одному – полотенце для его невесты, другому – салфеточек для его дочерей... Так кончила, добровольно и красиво, свое существование павловская теплица...
Жизнь в деревне становилась все менее приятной. К осени она сделалась трудновыносимой; начали подумывать о переезде в город. Жаль было уезжать: осень как будто сознавала, что она последняя. Такой раскраски не видал еще; такого предсмертного лиственного пожара не помню. И все звучали в голове строчки Тютчева:
Ущерб, изнеможенье – и на всем
Та кроткая улыбка увяданья,
Что в существе разумном мы зовем
Возвышенной стыдливостью страданья.
В природе было все то, чего в жизни окружающей уже не было: ни кротости, ни разумности, ни возвышенности, ни стыдливости уже не было в окружающей жизни. И тем дороже была природа, от которой уходил...
В то лето еще можно было продавать – имущество еще не было окончательно взято на учет. Был продан хлеб, были проданы кое-какие запасы материала, быки, автомобили. Собравшуюся от этих продаж сумму я решил отвезти в Новочеркасск, с тем чтобы положить в тамошнее отделение Волжско-Камского банка. С директором Борисоглебского отделения, Павлом Николаевичем Аносовым, я был хорошо знаком.
Здесь, кстати упомяну, что жена Аносова, Варвара Ивановна, была сестрой известного Муралова, командовавшего большевистскими войсками в Москве, но не была большевичкой. Высокое родство не послужило ей в защиту, и борисоглебские большевики впоследствии ее выставили из помещения банка с такой поспешностью, что пришлось вещи вынести на улицу; к счастью, погода была не дождливая...
Аносов снабдил меня письмом к своему новочеркасскому товарищу; одна добрая знакомая зашила мне квитанцию в рукав рубашки, и в начале октября я поехал. В первый раз я совершил тогда длинный переезд в теплушке; в первый раз видел, во что превратились наши станции: море солдатских шинелей и мешков. В особенности поразила меня станция Лиски. Я уже раньше видел такую картину завоевания орудий транспорта солдатами. Это было в Грязях, когда я ехал на московский съезд землевладельцев. Я стоял в ожидании поезда, смотрел в открытую арку. Вдруг появилась эта громада и тихо вкатывалась под навес; это был поезд, как будто захваченный солдатами: на платформах, на буферах, на крышах, – всюду солдаты. И на локомотиве с обеих сторон паровика два солдата, как аллегорические фигуры, являли картину военного захвата. То было время, когда царствовали шинель и семечки...
Новочеркасск – милый город; я испытал новое, в Борисоглебске уже непривычное впечатление беззаботной толпы, кофеен, кишащих народом, праздного на бульваре гулянья...
Я приехал ночью и попал в маленькую гостиницу, кажется "Америку". Комната такая грязная, что раздеваться было страшно. Только завалился после двух теплушечных ночей, как слышу невозможный говор из коридора. Встаю, думаю, пойду упрашивать, чтобы потише. Стучусь, вхожу: три офицера сидят, перед ними закуска. Только начал излагать свою просьбу, – услыхали, что я путешественник издалека: "Вы устали, проголодались; садитесь с нами выпить, закусить". Такой неожиданный оборот приняла третья ночь моего путешествия... Я успел устроить свои дела в банке, как вдруг известие, что Ростов взят, что путь на Харьков занят. Мне оставалось одно только: возвращаться через Царицын. Мои офицеры отговаривали, утверждали, что опасно, но, увидя мое непоколебимое решение, советовали по крайней мере не брать с собой никаких бумаг. "У вас отберут, – сказал один из них, – отдайте мне, я сдам матери в станицу на хранение". Ничего ценного у меня не было, но были как раз экземпляры тех газетных статей, о которых упоминал. Этого офицера я впоследствии еще раз видел. Когда я был в Урюпине, куда скрылся от борисоглебских неистовств, мне однажды говорят, что на кухонном крыльце меня спрашивают. Выхожу и, к удивлению моему, вижу моего новочеркасского знакомого. Он был в тулупе, бледный, испуганный, трясся. Он должен был бежать; узнал, что я в Урюпине, зашел и в тот же вечер намеревался ехать дальше; он пробирался в Сибирь. "А ваши рукописи у моей матери", – были последние его слова...
В вагоне по пути в Царицын я познакомился с двумя офицерами, казаками из Урюпина; они ехали домой; до Поворина нам был один путь. От них я узнал, что в станице Урюпинской не так скверно живется, – гусь стоит три с полтиной, и я решил, что, если плохо будет в Борисоглебске, уеду с моими дамами "к казакам". На одной из станций, предшествующих Царицыну, вдруг встречает нас из уст в уста переходящий слух: "В Борисоглебске разгромили винные склады". На следующих станциях уже несколько пьяных, а в Царицыне уже отвратительная картина солдат, шатающихся в шинелях нараспашку, с папахами, свалившимися на ухо, и с папиросками во рту, останавливающихся перед нашими двумя офицерами в глумительно вызывающих позах. Ну, думаю, какой меня ждет в Борисоглебске приезд... Из Царицына пошел вагон четвертого класса, нары в три ряда... В Поворине простился с моими спутниками...
Поезд должен был приходить вечером – мы приехали ночью. Вы не можете себе представить, что был этот вокзал, эта пьяная оккупация. Это море шатающихся шинелей, эта неприкрытая, уже ничего не стыдящаяся наглость людского стада. Я пробирался сквозь толпу с саквояжем в одной руке, с пишущей машинкой в другой. Почему меня не обобрали? Звезда... Выхожу на крыльцо – ни одного извозчика. Грязь, черноземная, непролазная грязь, и все-таки надо идти. До дому по крайней мере две версты. Калоши вязнут, чмокают в грязи. Навстречу попадаются или обгоняют меня какие-то человеческие тени, то шатающиеся, то от чего-то спасающиеся... Темно, вязко, тяжело идти, а над темным городом от времени до времени дробный сухой треск ружейного залпа...
Попадаются навстречу мне трое каких-то, тоже торопятся, кричат мне: "Куда идете? В город нельзя, там стреляют. Идите на вокзал". Я им не сказал, что на вокзал может идти только тот, кто там еще не был. Иду дальше, с трудом продвигаюсь. Наконец дохожу до того места, где асфальтовый тротуар, – легче идти; останавливаюсь, чтобы дух перевести и оттянутыми руками помахать. Смотрю вокруг себя: на асфальте бумага, битое стекло, пустые коробки; магазинные окна выбиты. Был, значит, погром. Иду дальше – на углу улицы три солдата стоят, на меня смотрят. Слышу, один из них говорит: "Вот еще один идет". Я продолжаю идти; тем временем один из трех оставляет своих товарищей, уходит. Иду на них, они ко мне:
– Вы откуда?
– С вокзала.
– С вокзала?
Большое недоверие почему-то прозвучало в этом переспросе. Стали осматривать меня, даже пальто мое распахнули. Я начал замечать, что имею дело не со злоумышленниками. Но вместе с тем, кто же они? Милиционеры? У них на рукаве нет красной повязки...
– Ну, идите себе. Уж видать, что вы ничего.
– А вы кто будете?
– А мы милиционеры. Только повязки сняли, а то все хулиганы...
– А товарищ ваш что же ушел?
– Да просто-напросто испугался. "Довольно, – говорит, – я их сегодня насмотрелся"... Ну, вот что. Вы приезжий; так видите вон тот большой дом? Это гостиница "Европейская". Наш вам совет: ступайте вы в гостиницу, возьмите номер и из номера не выходите.
Ну, если вы думаете, что я до гостиницы дойду, то дойду и до своего дома; это от гостиницы через дом.
Пошел и, чтобы не стучаться в ворота, не навлекать внимания, перебросил вещи через забор палисадничка, сам стал на скамейку и перескочил через забор. К счастью, никто не видел. Бросился в дверь стучать, Ольга Ивановна вышла, отворила. Она ахнула. Я свалился на стул. В груди у меня колотило, в горле пересохло. Не мог говорить. Ольга Ивановна сварила кофею на машинке. Я выпил кофе, уже без сахара; отошел и стал слушать ее рассказ.
На другое утро повестка из управы: экстренное заседание санитарной комиссии по случаю разгрома винных складов и вызванного тем пожара в соседнем лазарете. Прихожу. Весь санитарный Борисоглебск в сборе. Ждут председателя Сладкопевцева. Сладкопевцев приходит и говорит, что так занят, что никак не может председательствовать; предлагает выбрать в председатели меня. Отказываюсь, говорю, что провел ночь в вагоне четвертого класса и пр. "Просим, просим, мы все не спали эту ночь". Принимаю, объявляю заседание открытым.
Да, я понимаю, что люди не спали. Кто не слышал этих рассказов, не может представить себе, что такое погром винных складов, что такое это алкогольное большевистское крещение. Цистерны и бочки пылали, и толпа, несмотря на это, черпала, пила и упивалась. Мужчины, женщины, дети, старухи – все хотели своей доли праздника. Выказывали такое презрение к опасности, что оно граничило с храбростью; только не храбрость то была, это было опьянение; они были пьяны раньше, чем пили, они были пьяны от желания. Взлезали на край цистерн, припав грудью, пили. Были случаи, что падали в горящий алкоголь; на поверхности плавал жир человеческий, а они все пили. В ведрах уносили горящую жидкость, на землю ложились, мокрую землю сосали... Горячие ведра не могли нести, садились на них, чтобы потушить. Утром лазареты были переполнены людьми с однородными ожогами таких частей, которые вообще не имеют случая прикасаться к огню...
Рядом со складом и отчасти даже в том же доме помещался лазарет для раненых. Солдаты, давно целившиеся на вино, с негодованием говорили: "Ишь, подлецы, нарочно лазарет к винному складу пристроили. Ну да мы все равно доберемся". И добрались. Говорят, это было не без попустительства со стороны командира полка. И вот санитарному составу пришлось спасать и выносить раненых. Здесь были акты геройства. Времени было так мало, что думать о чем бы то ни было, кроме больных, нельзя было, и сестрицы бросили все свое имущество на произвол огня. Я в жизни не забуду этого заседания. Женщины сквозь слезы говорили, а мужчины слушали и плакали. Мне выпала на долю тяжелая задача подавить собственное волнение, выразить от имени собрания и присутствующих граждан благодарность сестрам милосердия, проявившим высокие стороны человеческого духа, в то время как вокруг нас подымались человеческие низы...
После винного погрома в Борисоглебске, так мне казалось, нельзя было оставаться. В Павловке тоже трудно было. Волостной контроль начинал принимать оскорбительные размеры. Кроме того, стало небезопасно. Появился в окрестностях некий Чурилов, разбойник, который наводил грозу на всю округу. В семи верстах, в усадьбе бывшей генерала Бунина, где жила его дочь с мужем, он убил мужа и, заставив жену молиться перед смертью, выстрелил ей в плечо. Я навестил ее на другой день. Жалко было смотреть на эту раненую женщину в доме, где был покойник. Мы в Павловке стали заставлять нижние окна досками. От колокола, который бил часы, была проведена целая сигнальная сеть веревок. Может быть, и даже наверно, это было несерьезно, но по всей округе пошел слух, что Павловка неприступна, что там всюду электрические провода. Тем не менее лучше было уезжать. В первых числах ноября я выехал в город, а на следующее утро – в казацкую станицу Урюпино.
Я поместился сперва у псаломщика, в очень плохих условиях. Они жили вдвоем, муж с женой, и еще один офицер казак, Дмитрий Миронович. На всю нашу компанию был один лишь умывальник, и тот стоял в столовой. Но мы чувствовали одинаково, можно было говорить свободно, а это было такое преимущество по тем временам, что мирило со многим. Для дам моих я нанял дом дьякона за тысячу рублей, дом без всякой обстановки, но ничего другого не было. Обзавелся дровами и стал ждать. К счастью, они не переехали: Борисоглебск стал успокаиваться. Не могу себе представить, как бы в этом доме они могли жить. Впоследствии я переехал в хороший дом неких Миримановых; здесь имел две комнаты. Приехал даже ко мне из Павловки мой "камердинер", беженец, белорус Димитрий. Хозяйка моя, Ольга Димитриевна, была приятная, серьезная дама; две маленькие дочки и незамужняя сестра, Раиса Григорьевна. "Тетя Рая". Сия особа при всех своих достоинствах была менее серьезна и в урюпинской глуши все рассказывала о своих успехах в других местах...
Урюпинское житье было не без приятности. Люди хлебосольные, и хлеба и соли в то время там еще было много, судя по тому, например, что в том доме, куда я был приглашен под Новый год, на столе было целых два гуся, один жареный, другой копченый...
Гостеприимный дом был атамана Демидова. Почтенная добрая жена, кажется, очень несчастная. Ее мать была старушка, впавшая в детство, сын был слабоумный, дочь, кажется, была только по части завивания волос. В супруге атамана было что-то высокое, как всегда во всяком невысказанном страдании. Этот Демидов впоследствии бежал с одной графиней Бобринской...
Богатый владелец консервной фабрики Лившиц с женой. Жили хорошо, имели великолепное молочное хозяйство; таких вкусных молочных продуктов я никогда не едал; неожиданно было в Урюпине найти французскую литературу, французский юмористический журнал, французские романы; это было не только неожиданно, но для меня уже ново. Большая консервная фабрика Лившица еще до большевистского владычества должна была прекратить производство за отсутствием жести для консервных коробок. Любопытно, что, когда воцарились большевики, они сказали хозяину фабрики, которому предлагали быть заведующим своей бывшей фабрики: "Ну если жести нет, отчего вы не сделаете деревянные коробки"...
Лившиц, мой хозяин Мириманов и еще несколько человек затеяли заняться огородничеством. Предвидя надвигающееся оскудение, они облюбовали пустое место за городом и решили обработать его на началах добровольного труда. Должны были работать жены, дети. Обратились за разрешением. Что такое? Частная инициатива? Спекулятивные цели?.. Лившиц намеревался со мной заниматься английским языком. Я уже давал уроки английского одной нашей соседке, мать которой была дочерью священника в знаменитой кочубеевской Диканьке. Много знакомых имен проходило в ее рассказах...
Ее дочь была странная, взбалмошная особа; разведенная, с маленькой дочерью. Когда и в Урюпине возглавились большевики и однажды все дамы почему-то решили, что надо им переодеться и бежать, эта особа объявила, что и она последует общему примеру, но пусть никто не смеет думать, что она из боязни бежит, – она бежит единственно из того, чтобы ее дочь не могла когда-нибудь упрекнуть ее в бессердечии...
Приехал и через несколько дней был вынужден бежать симпатичный, даже обаятельный генерал Потоцкий. Его жена прелестно пела; мы успели провести два приятных вечера. Впоследствии большевики урюпинские пустили слух, что Потоцкий расстрелян, слух, который в залах заседаний вызывал взрывы рукоплесканий, но тем не менее был совершенно ложен: Потоцкий жив и сейчас в Сербии...
Еще были в Урюпине некоторые случайные встречи. Один человек меня на улице остановил – сын местного портного, бывший на румынском фронте в санитарном отряде моего брата Петра; принял меня за брата... С одним пленным чехом играли в четыре руки Брамса и Дворжака. Одного офицера встретил, который был адъютантом Каледина и даже сопровождал его, когда он шел на свидание с Керенским, и даже спас его от покушения в коридорах Зимнего дворца... Наконец, часто бывал у Власова, моего железнодорожного спутника, того, которому был обязан первыми сведениями об Урюпине. Он был женат; с ним жили родители жены, брат, маленькая сестра – большой гостеприимный дом. В последние дни моего пребывания там он бежал. Слышал после, что жена, беременная, поехала за ним, но уже не застала – он был расстрелян...
Мирное житье в Урюпине не долго продолжалось, в начале января уже были большевики. Как везде, так и там они начали с того, что, прежде чем ограбить жителей, объявили обложение на расходы по содержанию советских учреждений. Кто не платил, тех они сажали, брали измором. Получил и я повестку явиться на заседание, и, кажется, даже сумма обложения была проставлена. Я выждал удобной минуты и заявил, что мое обложение, вероятно, недоразумение; по-видимому, меня считают собственником; между тем если бы я был собственником, то я бы не был здесь. Мои доводы подействовали – меня не облагали. Но меня не оставили в покое. Пришли с обыском, искали пулеметов. О, эти пулеметы! В Павловке их у меня искали, в Урюпине искали, в Борисоглебске после тоже искали... Мои две комнаты перевернули вверх дном. Ушли... Через день тот же самый человек приходит снимать допрос: цель приезда в Урюпино, знакомства, семейное положение и так далее, и так далее... Ушел. Однажды мне говорят как достоверное, что решено меня арестовать. Чтобы выяснить это неопределенное положение, я взял да и пошел к ним прямо в ревсовет.








