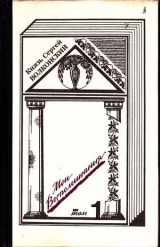
Текст книги "Мои воспоминания (в 3-х томах)"
Автор книги: Сергей Волконский
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 43 (всего у книги 49 страниц)
Сидит в шинели и папахе, семечки грызет. Говорю:
– Я такой-то. Слышал, что меня арестовать хотите, так я пришел.
Я увидел такое изумление на лице, которое вполне объяснило отсутствие какого бы то ни было ответа на мое заявление. Я продолжал:
– Так как я живу в семейном доме, а аресты всегда бывают ночью, то я предпочел, чтобы домашних не беспокоить...
– Да нет, нисколько... во-первых, вовсе не ночью, а потом, у нас и не было намерения... мы относительно вас...
И вдруг, обращаясь в раскрытую дверь соседней комнаты:
– Иван Семеныч!
Входит другой, в шинели и папахе, тоже семечки грызет.
– Вы знаете, кто это?.. Это князь.
Второе изумление, уже вдвоем. Кончилось тем, что меня уверили, что против меня не имели никаких намерений.
– Очень рад слышать, – сказал я. – Вы знаете мой адрес, я же даю слово, что не удалюсь из Урюпина, не предупредив, и не выеду, не испросив пропуска.
Когда я выходил, уже на улице подошел ко мне один в папахе, которого я прежде заметил на том заседании, где обсуждалось обложение, – долго тогда почему-то на меня смотрел. Теперь вышел за мной и подошел:
– Вы, того, только политикой не занимайтесь.
– Да я никогда не занимался.
– Ну вот.
Мы прошлись по базарной площади. Он из Петербурга, по фамилии Захаров:
– Я ведь хорошее воспитание получил; я воспитывался в семье очень высокопоставленного чиновника.
– Что же, говорю, не все, значит, буржуи плохи?
– Ну понятно... Через них образование получил... Так вы, того, политикой-то не занимайтесь.
Я хорошо почувствовал, что у меня объявился какой-то неизвестно за что покровитель.
Больше меня не беспокоили. Это было в конце января; 4 февраля должна была состояться в Борисоглебске свадьба моей второй племянницы, княжны Марии Григорьевны Волконской, с Михаилом Павловичем Толстым. После данного мной слова я не мог сейчас уезжать. Свадьбу сыграли без меня... Выждав две недели, я отправился туда же, в ревсовет, просить пропуска на выезд в Борисоглебск. Затруднений не делали. За длинным столом сидели шинели и папахи, в том числе и мой Захаров. Когда мне передавали документ, он крикнул уходившему писцу: "Проведите через исходящие!" Я понял, что он считал важным, чтобы о моем разрешении на выезд остался официальный след. Недоумеваю и всегда буду недоумевать. Но перед отъездом из Урюпина я бросил в почтовый ящик письмо на имя члена ревсовета, товарища Захарова, в котором выражал сожаление, что не имел случая на словах выразить ему признательность за внимание, от него исходящее.
Вспоминаю Урюпино с удовольствием. Длинно, низко расползшееся село. Впрочем, тамошние любят, чтобы говорили "станица", не "село". Большие, снегом занесенные пустыри, говорят, – площади. И среди этого огромное трехэтажное здание кадетского корпуса, где при мне плясали, а после меня было столько боев и столько погибло юных жизней... Говорят, летом в Урюпине неплохо: есть поблизости лес, есть купание. Но я помню только в снежном захолустье маленькие домики. Но и там жизнь и даже жизнью выработанное разнообразие. По крайней мере, когда я спросил моего хозяина псаломщика, который из кинематографов, или, как у нас там называли, который из иллюзионов лучше: "Художественный" или "Модерн", – то он ответил, что оба хороши, но только публику разве можно сравнить: "Ведь в "Художественном" только посмотрите какая публика! Ведь это все сплошь шляпки, горжетки, шляпки, горжетки..."
Дважды приезжали навестить меня мои борисоглебские дамы, Елена Николаевна и старшая племянница Лизет. Приезжали они не без риска, проскакивая во весь дух через села заведомо большевистские. Но старый кучер Петр был испытан и предан; к тому же его дочь была замужем в Урюпине, а сын Павел гостил у сестры. Приезд моих дам вносил оживление не в одну мою жизнь, но и в жизнь домов, с которыми был знаком. Отъезд их оставлял за собой приятные и в то время уже ценные вещественные доказательства их приезда, вроде мешочка белой муки или иного лакомства. Так получил я последнюю баночку павловского вишневого варенья...
Хочу, прежде чем расстаться с Урюпином, вспомнить один случай. Когда приходили ко мне с обыском, у моей хозяйки, Ольги Григорьевны Миримановой, был званый чай, очень хороший, парадный чай; это был даже последний на моей памяти настоящий большой, с булками, с вареньем, с печеньями чай. Приход этих людей со штыками, с красными кокардами произвел, конечно, большой переполох, и одна дама, нарядная дама в черном бархатном платье, сочла уместным лишиться чувств. Пока мои комнаты переворачивали наизнанку, ее откачивали, отмачивали и растирали. Когда ушли представители этой прелестной власти, она вышла из спальни, держась за виски. Муж, офицер, поддерживал возвращающуюся к жизни супругу... Когда я был там, в большевистской канцелярии, насчет разрешения на выезд – мое удивление! Кого я вижу заседающим среди шинелей и папах? Мужа нашей впечатлительной дамы. Пока я дожидался бумаги, он вышел ко мне, щелкая семечками:
– Вы что же, в Борисоглебск на время или останетесь?
– Не знаю, как поживется... Как здоровье вашей супруги? – осведомился я. – В последний раз, что мы виделись, она была так нездорова...
– Она у меня очень нервная.
– Ну, я думаю, она успокоилась, с тех пор как вы здесь...
Я выехал вечером. Поезд так был нагружен, что я только по мерзлым буферам мог взлезть. К счастью, свой мешок и пишущую машинку я догадался связать веревкой, так что мог их держать в одной руке, а другой сам держаться... На станции Алексиково, где перемена поезда, имел последнее видение "тети Раи", которая возвращалась домой после поездки на свой бывший хутор... Сколько лиц, канувших в вечность...
Когда я вошел в свой борисоглебский домик, я не узнал его. Все лучшее, что было в Павловке, было размещено в маленьких комнатах моего бывшего лазарета.
Картины по стенам, ковры, вазы с цветами, мебель карельской березы, семейные портреты... В большой угловой комнате, окнами на юг и на запад, устроили гостиную; там стоял мой "Бехштейн". Тут же была наша столовая, и тут же я спал... Все это мои дамы перевезли; каждую вещицу сами обвязывали, укладывали. Крестьяне, надо сказать, всегда лично ко мне хорошо относившиеся, не препятствовали вывозу вещей, и все попытки задержать обоз в пути разбивались о пропускной лист Павлодарской волости.
Последующее борисоглебское житье протекало в пекле революционного брожения: обыски, аресты, расстрелы, беспокойные дни, непокойные ночи. Мой дом стоял, как вы помните, через дом от Европейской гостиницы; между нами была земская больница и тот кинематограф, где когда-то я устроил спектакль, а теперь происходили митинги. В гостинице разместились самые страшные очаги революционной власти: ревсовет, конфликтная комиссия, впоследствии чрезвычайка, и, наконец, с балкона свесился красный флаг и на нем черный якорь – знамя морского штаба в сухопутном городе Борисоглебске. Саженях в трехстах был острог, и в версте – свальная яма, служившая местом расстрелов; залпы были слышны. В таком приятном соседстве протекали наши борисоглебские дни. И если теперь, закрыв глаза, припоминаю эти два месяца, – знаете, что встает в памяти? Живые картины, костюмы, балетные постановки, репетиции, концерты, пантомимы. Какое-то художественно-благотворительное поветрие носилось над нами рядом со злобно буйствующим хулиганством. Утром панихиды, вечером оркестры; в острог пища посылалась, и в то же время готовился буфет для благотворительного концерта; шились платья для сирот, и тут же кроились костюмы. Когда пришли ко мне с первым обыском, я был на репетиции в Народном доме, за мной прислали; бросаю репетицию, прихожу – штук шесть чинов революционного комитета и с солдатами.
– Какое ваше отношение к Чикаревскому?
А Чикаревский, племянник того охотника, о котором рассказывал в одной из предыдущих глав, третий день сидел в тюрьме, и мы накануне послали ему пищи.
– Какое отношение? А вот посмотрите на стене.
На стене висела афиша того спектакля, с репетиции которого меня вызвали. Среди номеров значились "Живые куклы"; участвующие: Куколка, Петрушка, Негр; Неф – Чикаревский.
– Вот мое отношение к Чикаревскому.
– По постановлению революционного комитета вы арестованы.
Пока я собирался, а они собирали мои бумаги, один из них, развалившись в кресле с папироской в зубах, указывая на афишу, сказал:
– Зачем это князь Волконский? Теперь нет князей, все свободные граждане.
– Ну и везите, – сказал я, – свободного гражданина под арест.
Арест, положим, был не очень страшен. Взяли с собой какие оказались бумаги, посадили меня в автомобиль и повезли в Европейскую гостиницу. Здесь просмотрели бумаги, письма, телеграммы и через полчаса отпустили. Среди бумаг была телеграмма о том, что Павлодарская волость основывает больницу и просит назвать моим именем; произвело некоторое впечатление. Был кусочек бумаги, на котором адрес моего брата Петра.
– У вас брат есть? Где он?
– В Киеве.
– Что он там делает?
– Застрял, а что делает, не знаю. Он во время войны заведовал санитарным отрядом на румынской границе.
Услыхав это, один из "товарищей" воскликнул:
– Как?! Заведующий санитарным отрядом? Я его знаю, я у него служил. Меня княгиня конфетами угощала.
Через полчаса я был опять дома. Репетиции наши возобновились; Чикаревскому нашли заместителя.
Это был интересный спектакль, в пользу бывших земских служащих, оказавшихся выкинутыми на улицу. Какие затруднения! Уже профессиональные союзы вмешивались, ставили свои требования. Красноармейцы стращали; моему камердинеру Дмитрию, который пошел служить в красноармейскую столовую, было заявлено: "Скажи князю, что если он на афише пропечатается князем, то будет арестован". Ходили слухи о том, что во время спектакля будет произведен поголовный обыск. За два дня до спектакля, как мне передавали, было заседание бывших земских служащих, чтобы решить, быть ли спектаклю или не быть, – такие носились зловещие слухи. Перед поднятием занавеса приходил ко мне Сладкопевцев, с которым окончательно установились хорошие отношения, просит меня не выходить на сцену: решено в меня яйцами кидать. (Вы видите, что дело было в такое время, когда яйца были еще дешевы.) Были ли слухи преувеличены или ввиду исключительной удачи спектакля не посмели вмешаться и прервать, только вечер прошел без задоринки, и единственное, что полетело на сцену, – пучок подснежников моей племяннице, изображавшей Куколку. Этот спектакль происходил в Народном доме – полторы тысячи человек зрителей. На генеральную репетицию привели из городских и пригородных школ больше полутора тысяч детей.
Из программы не могу не упомянуть три номера. Они действительно были удачны и могли быть показаны где угодно. Прежде всего "Живые куклы". Конечно, сколок с "Петрушки" Стравинского: у Куколки роман с Петрушкой, а Негр ревнует. Они сперва появлялись на ящиках, под музыку "табакерки" дрыгали; иногда они увядали, тогда я вскакивал от фортепиано, кидался на сцену, заводил их ключом (за сценой в это время вертели трещотку), они выпрямлялись, музыка и пляска возобновлялись. Но вот начинаются "глазки" между Куклой и Петрушкой. Неф кипятится. Он очень живописен: шитый халат, чалма с павлиньими перьями, огромная кривая сабля. Понемногу страсти разгораются, они забывают, что должны изображать кукол; они сходят со своих мест, они моей команды не слушают. Я обращаюсь к публике, говорю, что утратил авторитет, и прошу разрешения "предоставить им полноту власти", хотя и не ручаюсь, что из этого выйдет. Начинается драма любви и ревности: преследование, сабля из ножен, валяние в ногах, распущенные волосы, бегство двух соперников за кулисы, отчаянная мимика Куколки, и наконец выходит Петрушка, спотыкаясь, едва передвигая ногами: у него конец сабли торчит из груди, а рукоятка из спины. Он падает к ногам возлюбленной. Плач неутешной подруги над трупом милого дружка. Но сквозь похоронный марш проступают, как капельки, нотки "табакерки"; она начинает подрыгивать, утирает слезки и, махнув публике платочком, припрыгивая уходит со сцены. Петрушка тоже просыпается от знакомых звуков, возвращается к жизни, поднимается и приплясывает вслед за ней. Негр – за ними. Все хорошо, что хорошо кончается. Все это было исполнено в строгом согласии каждого движения с музыкой, с безупречной ритмичностью. Успех был большой. Конечно, сказали, что относительно полноты власти это я подстроил, чтобы показать, что, переданная народу, власть ведет к убийству. Подстроил или не подстраивал – это другой вопрос, а ведет ли к убийству или не ведет – это опять другой вопрос. Но во время спектакля вопросов не решали, а от души смеялись: эстетика победила политику... Другой номер была инсценировка "Как хороши, как свежи были розы". В темной комнате, освещенной свечой на столе, лунным светом из морозного окна и красным пламенем камина, я сидел, гримированный под Тургенева, и говорил эти удивительные тургеневские слова. Когда доходил до того места, где: "И вижу я себя перед низким окном загородного русского дома", – раздвигалась стена и представала картина: он стоял перед окном в костюме онегинских времен, она сидела у окна, "опершись на выпрямленную руку, и долго и пристально смотрела на небо, как бы выжидая появления первых звезд"... Световые эффекты были восхитительны: земский техник устроил при помощи деревянного корыта реостат, так что действительно было видно, что "летний вечер тает и переходит в ночь"... Видение кончалось, когда рассказ возвращался к действительности. Когда доходило до слов: "Встают передо мной другие образы", – раздвигалось другое место стены, и там за чайным столом картина "семейной деревенской жизни". Мать сидела за самоваром, в сторонке "две русые головки", и "руки их сплелись", "а в глубине уютной комнаты" на клавишах картонного пианино лежали "другие, тоже детские руки", в то время как за сценой ланнеровский вальс, к сожалению, заглушал "воркотню патриархального самовара", чтобы из публики его было слышно...
Третий номер, о котором хочу сказать, – живые картины "Стрекоза и Муравей". На фоне темно-синего коленкора дверь – крыльцо жилища Муравья.
В дверях, к притолоке прислонившись, в ермолке, с трубкою в зубах – Муравей. Муравьиха, красивая, дебелая, с засученными рукавами, в корыте белье стирает. За ними видна кухня, посуда, под потолком на веревочке детское белье сушится. По ступеням крыльца штук восемь "муравьят" впихивают куль муки. Направо и налево от крыльца толпа подростков и детей смотрят, как перед крыльцом смуглая цыганочка с гитарою в руках, с кольцами в ушах, с монетками на лбу – поет. Это Стрекоза. Можете сами догадаться, как в соответствии с текстом при каждом новом подъеме занавеса картина менялась. Все картины сопровождались балалайками – оркестр гимназистов. Участвовало человек двадцать детей. Они великолепно исполняли все им показанное, очень полюбили репетиции и заслужили много похвал. Одна из девочек должна была выбыть: были расстреляны ее отец и брат... К этим картинам я приделал конец, как сказал публике: "то, чего у Крылова нет". Дверь жилища Муравья заперта. На сцене никого, кроме Стрекозы. Она свалилась на ступени, гитара поперек колен. Лунный свет, а вместо веселых балалаек за сценой хор поет с закрытым ртом, и во время пения начинает падать на нее снег. Три раза требовали повторения этой картины; всякий раз пение становилось заунывнее, а снег падал гуще...
Да, наш спектакль удался. Все, что я вам рассказываю, было совсем не просто, даже очень сложно, но отлично слажено и проведено с той преданностью делу, при которой только и возможен театр. Не забуду милого нашего земского техника Васильева. Он изнемогал от труда и трудностей; он сказал мне, что никогда в жизни не возьмется больше за подобное дело. После спектакля он сказал: "Сергей Михайлович, если когда-нибудь вам еще понадобится, всегда буду работать в вашем спектакле". Он уже заразился "театром", он понял, что значит минута, вознаграждающая за недели труда и безнадежных хлопот...
Хор Сретенской церкви был в самом деле очень хорош. Регент пламенел к своему делу. Для последней картины "Стрекозы" он положил на голоса известную мелодию Гуно к прелюдии Баха. Помню в связи с этим маленький случай другого порядка. Он пришел ко мне для обсуждения музыкальной программы. Пока мы разговаривали, говорят мне, что спрашивает меня бывший конторщик павловской лесной дачи; можно сказать: бывший конторщик бывшей лесной дачи бывшего князя Волконского. Оказывается – конторщик, по недобросовестности уволенный года за два. Теперь требует вознаграждения. Я сказал, что не вижу основания к его требованию. Он возвысил голос, я остался при своем. Он стал кричать все громче и громче и объявил, что пойдет жаловаться на меня в конфликтную комиссию. Он пришел в совершенно истерическое состояние и, уходя, сказал в кухне: "Я подам на него донос, что он с немцами в союз вступает". На меня все это произвело мало впечатления, но когда я вернулся в гостиную, я застал нашего регента в таком состоянии, что он просил отпустить его и отложить окончание разговора до другого раза...
Конфликтная комиссия, о которой упомянул, рассматривала дела между служащими и нанимателями. Должен сказать, что это учреждение произвело на меня хорошее впечатление. Бывшие мои служащие подали заявление об удовлетворении их за год. Ведь это любопытно: требовать с человека удовлетворения за то, что у него все отобрали.
Тут были подписи людей, служивших тридцать лет и более, людей, чьих детей я воспитывал, чьих жен за свой счет отправлял в Тамбов на операции. На первом месте стояла подпись нашего машиниста Матвея Яковлевича Маслова. Вдовец, он только за три месяца перед тем женился на престарелой уже экономке нашей Марии Гавриловне. Свадьбу праздновали у нас на балконе "молочного дома", племянницы готовили приданое, одевали и причесывали "молодую"... Когда я в этой конфликтной комиссии сидел, давал свои объяснения по какому-то другому делу, вдруг увидал в дверях лицо бывшего истопника нашего Федора. Отец многочисленного семейства, без жены; я его устроил, дал жилье, корову. Заметив меня, он только глянул и пропал. Я окликнул: "Федор!" Он вернулся.
– Ты тоже подавал на меня?
– Да ведь там другие заведовали...
– Да ты только скажи, мне интересно знать, ты подписал или не подписал?
– Так ведь я что же... разве я...
– Подписал или не подписал?
– Подписал.
Я кивнул головой.
Так вот, интересно было, что меня на это дело в комиссию даже не вызывали, но случайно я оказался там, когда пришли несколько человек из подписавших. Я оказался случайным свидетелем того, как председатель-большевик пробирал их: "Вы получили за два месяца вперед, и вы имеете нахальство приставать к бывшему хозяину, требовать еще?" Странные бывали положения в тогдашние времена. Вдруг этот большевик, которому поручено разбирать недоразумения рабочих с хозяевами, говорит мне, хозяину, князю, владельцу: "Ах, как тяжело с этими людьми! Поверите, иной раз страшно становится, что окно во втором этаже: того и гляди выкинут в окно"...
Я должен в интересах истины упомянуть, что из всех моих многочисленных служащих только двое не подписали заявления: наш старый кучер Сергей и старый, лет сорок прослуживший кузнец Семен Васильевич Чивилев. Настроение служащих мне было понятно в той степени, в какой оно было вызвано стремлением к лучшему, по пословице "рыба ищет, где глубже". Им так напели; естественно было им ждать рая земного и потому бросать интересы хозяина на произвол судьбы и примыкать к тем, от кого исходили обещания, и даже пользоваться возможностью в последнюю минуту развала хватать что попадется под руку. Но поскольку в их настроении выражалось желание содрать с бывшего хозяина, привлечь его к какой-то ответственности, я их не могу понять. Всю жизнь они получали, принимали, и вдруг с того же человека теперь хотят содрать, от которого прежде принимали. Они не были извергами, они были самыми обыкновенными представителями нравственной серости, способные даже и на добрые чувства; но тут сразу выступило то, что в них было звериного.
Редко, как именно в этом, я ощутил беспощадность того рубежа, через который большевики заставили перешагнуть: ни малейшей, даже самой тонкой связи с тем, что удерживало человеческую совесть. Люди перешагнули и почувствовали освобождающее блаженство безответственности. Говорят: "изменились". Нет, значит, и были плохи. Я совершенно убедился в том, что в смысле нравственной сортировки людей большевизм оказал услугу: кто был плох, стал хуже, кто был хорош, стал лучше. Теперь все наружу, прикидываться уже ни к чему: лицемерие не нужно, а цинизм даже вознаграждается...
Да, наши служащие оказались на высоте момента. Провожая их памятью своей, отдавая их тому прошлому, в которое они канули, хочу мельком вспомнить одного. Он не был похож на других... Еду в коляске мягким, теплым вечером со станции Волконской в Павловку. Уже осенние зеленя, в воздухе стрижи, и серебрятся паутинки... "Эй, берегись!" Обгоняем пешехода с котомкой; оборачиваюсь – "Мишка!" Это был внук нашего покойного кучера Варфоломея Дейча Ходыкина: он учился в наших мастерских, сделался шофером. На третий год войны он ушел на казенную службу в Москву, а теперь, летом семнадцатого, возвращался на побывку домой. Я, конечно, посадил его и подвез. Интересная его была судьба. Он попал в Архангельск, зарабатывал до двухсот рублей в месяц, а по праздникам его еще приглашали на частную работу. Он ходил на какие-то курсы, состоял членом клуба, познакомился с англичанами и даже начал уже по-английски понимать.
А начал он в нашей павловской мастерской. Отец его, Степан Ходыкин, был у нас столяром и в то же время главным представителем крайних направлений среди служащих... Но я далеко ушел от наших художественно-благотворительных упражнений.
Один еще концерт мне памятен. Я был приглашен читать. Выхожу – в первом ряду матросы: ремни, револьверы и на груди патроны, бесчисленное количество патронов. Прочитал "Грешницу" Алексея Толстого, возвращаюсь за кулисы, мне говорят: "Не выходите больше, решено вас домой не пустить и сегодня арестовать". Я не мог не исполнить программы, я участвовал во втором отделении, – остался. В антракте говорю об этом одному знакомому студенту. У меня в Борисоглебске образовалась группа студентов, которые пожелали со мной заниматься читкой; занятия начались с большим увлечением и с приятностью для меня, но было всего уроков пять. Одному я сказал о переданных мне опасениях. Через пять минут он подходит ко мне: "Ваше пальто в буфете, мы пройдем черным ходом, и нас тринадцать человек, чтобы вас проводить". Много доказательств преданности я испытал, и даже от людей, которых в лицо не знал... Мы вышли на улицу; там ждала вся компания и проводила меня в такой дом, где я спокойно переночевал. На улицу старался не показываться. Но вечером была вечеринка, устроенная съездом сельских учителей; на съезде этом я читал доклад о внешкольном влиянии школы; они очень сердечно отнеслись к моему докладу; в числе их тоже были люди, со мной занимавшиеся, ввиду этого я не мог не пойти на их вечеринку в здании женской гимназии. Все прошло благополучно. Но после этого вечера я проводил дни в одном близком мне знакомом доме, а ночевал то в одном месте, то в другом. Последнее мое убежище было у одной старушки мещанки; оттуда я уже выходил только к моим добрым знакомым, по той же улице. Потом и к ним ходить перестал и вышел, только чтобы уже Борисоглебска больше не видать...
Не могу не упомянуть здесь и о пленных. В Борисоглебске было порядочное число австрийских офицеров. Я с ними не был знаком, но через нашего друга Франца Климека они знали обстоятельства нашего житья, и, несмотря на отсутствие личного знакомства, я чувствовал, что установилась издали симпатия. Они не пропускали ни концерта, ни спектакля, тем более что в концертах всегда участвовал один молодой их соотечественник, игравший на скрипке, по имени Покорный. Раз приходит ко мне Покорный и говорит, что ввиду зловещих слухов австрийские офицеры поручили ему передать мне их приглашение укрыться у них и переночевать в их концентрационном лагере. Я, конечно, был глубоко благодарен, но австрийское гостеприимство отклонил. И я был вознагражден за мое воздержание: в ту ночь в австрийском лагере был обыск...
Наши павловские пленные давно уже были переведены в Борисоглебск, и Франц с Людвигом часто заходили, помогали работою по дому, по огороду. Они хорошо знали город, его настроения, и многим мы обязаны их предусмотрительному оповещению... Был еще у нас один Франц; этот был караульным при доме; в отличие от Климека и "русского Франца" его звали "другой Франц". С ним связана память о пасхальной ночи. Я спал. Вдруг слышу, будит меня торопливый голос – насколько литвин способен на торопливость; голос русского Франца: "Одевайтесь скорей, стреляют". Вскакиваю. Выхожу на крыльцо – через двор наш пули летают. Это из "главной квартиры", из Европейской гостиницы. Двор был залит луной; на противоположной стороне под высоким забором узнаю в тени очертания Елены Николаевны и караульного Франца. Меня подзывают. Что происходит, неизвестно, но оставаться под этими пулями и рисковать, что, может быть, придут, нельзя было. Франц стал на четвереньки, и мы, использовав его спину как подножку, перелезли через забор во двор земской больницы и тут же под забором прикорчились между грудой бревен около покойницкой. К утру все утихло: мы прошли через больницу и вместе с солнцем вышли на улицу... Этот Франц впоследствии женился на горничной Елены Николаевны, эстонке, и в 1921 году, уезжая на родину, они зашли к нам в Москве; к сожалению, никого не было дома...
Обысков было много. Приходили искать пулеметов, приходили искать и отобрали вино. Хорошее вино, ящиков двенадцать; в землю во дворе были зарыты; мы указали место, они штыками тыкали, пока в ящик попадут; выкопали, увезли "для больных". После того врачебные комитеты много раз обращались в ревсовет просить для больниц того вина, которое было отобрано в доме Волконского, но ответа никогда не было. И можно ли было отвечать, когда вино было распито всем составом ревсовета с председателем Карытиным во главе?
Этот Карытин был прежде заведующим школой для мальчиков на каких-то новых педагогических началах; пользовался уважением родителей, и вдруг оказывается – большевик и выбран председателем совета: глава уездного правительства. Помню его на митинге в здании кинематографа, делающего заявление о том, что он накануне послал в соседний Новохоперский уезд пушки, потому что там "буржуазия нос задрала".
Ужасно жуткое впечатление эти митинги. Внизу, конечно, только посвященные, члены комитетов; но на хорах всякая публика вперемежку. Разговаривать можно только шепотом: со всех сторон подсматривают и подслушивают. От негодования лопнуть хочется, а не надо выдавать себя. Вертится среди публики один из них, приехавший из Киева Гришка Дубовой. Он во время обыска в моем доме вытащил из кармана нож и хвастался, что он этим ножом в Киеве двух князей Радзивиловых зарезал. Говорят, его впоследствии расстреляли. Еще расстреляли свои своего же, некоего Букреева; тоже приходил к нам с обыском, мебель отбирал, и все ему почему-то нужен был "розовый плюшевый комплект". Я во все время обыска играл на фортепиано; они злились и, уходя, сказали жившему у нас бывшему раненому: "Уж мы сделаем так, что играть перестанет". И сделали, правда, уже после меня: в один, не прекрасный, а дождливый день мой "Бехштейн" был погружен на подводу и отвезен в коммунистический клуб.
И вот я вас спрашиваю: с социальной точки зрения, когда это фортепиано, столько денег заработавшее благотворительными вечерами, лучше исполняло свое социальное назначение – когда стояло у меня и я перевозил его на концерты и спектакли, или когда на нем с утра до вечера и с вечера до утра отбивали "собачий вальс", этот всероссийский гимн художественно-большевистских увлечений?.. Вспоминаю еще, что, уходя, эти люди сказали нашему бывшему раненому:
– Мы сделаем так, что ты будешь спать там, где князь, а он будет там спать, где ты спишь.
– Так я, пожалуй, и не захочу там спать.
– Отчего?
– А потому, что я на кровати сплю, а князь спит на диване.
"Народные представители" обругали его княжеским прихвостником и ушли...
Да, верхняя галерея кинематографа была жутким местом наблюдения. Оттуда видел бывшего эсеровского комиссара Николая Кузьмича Краснобаева, когда он защищался против обвинения в саботаже. Ему большевики предложили работать с ними, но он сказал, что не может работать с людьми, которые продают родину. Это заседание должно было быть для него роковым, но у входа какой-то незнакомый солдат, проходя мимо него, шепнул: "Уходите, вас арестуют". Он скрылся в один из дворов, в то время как чрезвычайники по ошибке устремлялись за другим...
Это был человек удивительно прямой, честный, благородной души, способный на настоящее, горячее негодование. Во время своего комиссарства он сильно поработал над тем, чтобы отстоять Павловку. Он и сам туда ездил, но мне говорили, что, когда он вошел в дом, увидел, что сталось с моей комнатой (в которой прежде никогда не бывал), он не выдержал и выбежал вон...
Так эсерство, в сущности, отступало перед делом рук своих... Да кто же не разочаровывался в России? Кто, кроме большевиков? Должен прийти и их черед разочарования...
Николай Кузьмич все же не избег большевистской расправы. Этот человек, одиннадцать лет "ради народа" просидевший в одиночном заключении в Шлиссельбурге, был "представителями народа" расстрелян. У Краснобаева остался брат Иван, который взялся проводить меня в Тамбов, когда я покидал Борисоглебск. Он потом ушел к белым, и ничего я о нем не слышал до прошлого мая, когда вдруг в Риме получил письмо из Каттаро...
Расстрелы все учащались, и чрезвычайка все больше свирепела. Один из приговоренных перед расстрелом о чем-то начал просить палачей. Другой, наш помещик Безобразов, начал его стыдить, что он перед такими людьми унижается. Его за эти слова заставили рыть могилы...
Ужас овладевал жителями; надвигалась ночь; об увеселениях, даже благотворительных, уже не думали. Открыли на главной улице магазин всяких вещей, куда всякий нес то, без чего мог обойтись: лампы, рамочки, коврики, вазочки – все, из чего составляется "убогая роскошь наряда" уездно-обывательской квартиры. Но когда появились там платья, предметы утвари, то и этот источник жизни был насильственно закрыт. Как раз в это время пришел номер советской газеты из Москвы, в котором, кажется за подписью Троцкого, говорилось, что "буржуазия должна быть поставлена в такие стесненные условия, квартирные и продовольственные, чтобы почувствовать себя в железных тисках революции". Можете себе представить, что подобное наставление должно было вызвать в провинции...








