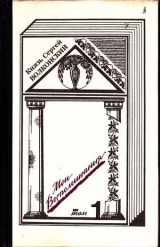
Текст книги "Мои воспоминания (в 3-х томах)"
Автор книги: Сергей Волконский
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 49 страниц)
Высшую силу в себе сознавая,
Что ж толковать о ребяческих снах?
Жизнь только подвиг, – и правда живая
Светит бессмертьем в истлевших гробах.
Говоря о единомышленниках, не могу не упомянуть трех моих братьев: Петра, Александра и Владимира. В затронутых выше вопросах все чувствовали глубоко, видели ясно и судили верно – каждый по-своему и все одинаково.
Ум брата Петра проникал действия людей и побуждения их, как какая-нибудь кислота; он был язвительно-критичен; он был эксцентричен в выражении своих суждений; он кипел, шипел, свистел, и весь блеск его юмора становился союзником его негодования.
Брат Александр сжимался, морщился, был "концентричен" в своих проявлениях; в его осуждениях всегда чувствовалось – "да не судимы будете".
Брат Владимир чувствовал всей гармонией своего существа; он не судил, не осуждал – это просто было ему неприемлемо. У него это не было осуждением в силу каких-нибудь соображений – государственных, религиозных; для него вообще это не было вопросом соображения, это было простое, естественное проявление его природы. Он не принимал. Как тот контуженный, про которого я рассказываю ниже, в главе о войне, который передавал цветок товарищу, чтобы понюхал, потому что у него "не пропущает", так и у брата Володи – не пропущала его природа.
Брата моего Владимира знала вся Россия – он был вице-председателем Государственной думы при председателях Хомякове и Родзянко. Его тактом, его сдержанностью восхищались все. После одной из сессий пришли к нему в кабинет предводитель крайней правой и предводитель крайней левой: оба благодарили за беспристрастие, с каким он вел собранья. Твердость его поведения и уважение, которое он внушал, поразительны, когда принять во внимание сравнительную молодость его. Никогда не забуду мановения его руки с думской кафедры и как бурное море волнующейся залы ему повиновалось. Между прочим, помню, я был в первом заседании Думы после смерти Льва Толстого. Левые намеревались поднять скандал, правые готовились к шумному отпору. Открыв заседание и огласив заявление ораторов, желающих говорить на эту тему, брат сказал: "К могиле надо подходить со скорбью и в молчании". Послышались, на густых низких нотках, одобрительные возгласы, и, прежде чем кто-либо успел протестовать, он преддожил секретарю перейти к очередным делам. Скандал не удался, а мог выйти громадный. Только после заседания брат увидел, чего он избежал: к нему подошел Пуришкевич, известный enfant terrible крайне правой, и со словами: "Спасибо, вот от чего вы меня избавили" – вынул из кармана автомобильный гудок. Как видно, он явился во всеоружии...
Впоследствии брат был товарищем министра внутренних дел. Он пережил их четырех или пятерых. Государь каждому новому министру говорил: "Берегите Волконского". Николай II хорошо его знал, они в детстве вместе играли; государь звал его "Володя". Но положение становилось все невыносимее. Честность должна была задохнуться или уйти. Помню, что почти за год перед тем я ему из деревни иносказательно писал: "Тебе пора переезжать: в квартире воняет, и ремонтировать нельзя"... Брат ушел. Все хорошее в нем оказалось не нужно. Лучшие люди целого поколения оказались не нужны...
В посмертном письме, которое она нам оставила, наша мать писала: "Тяжело положение тех, кто призван судьбой жить в переходные эпохи". Мы это испытали и продолжаем испытывать. Но я думаю, что только тот может понять все недавнее, только тот способен осознать всю роковую причинность явлений, кто пережил душой и разумом мрак восьмидесятых годов. Только тот может понять, скажу более, только тот имеет право судить, кто перестрадал, а кто в те времена благодушествовал, тот пусть себе желает возвращения того, что невозвратимо, – того благодушия он никогда не обретет. И слава Богу, что не обретет, потому что то благодушие покоилось на незнании самых глубоких корней жизни. Только тот поймет – откуда и почему, кто пережил, перечувствовал и перестрадал "переходную эпоху".
Сейчас подойдем к затронутым вопросам еще ближе, но прежде сделаем маленькое отступление.
ГЛАВА 5
Из чиновничьего прошлого
Я упоминал уже о том, что в конце восьмидесятых годов я начал вести заметки. Тетрадки эти, количеством пять штук, пропали, как и все, что у меня было. Но вот приехав после бегства из большевистского царства в Рим, я, к удивлению своему, нашел одну из этих тетрадей. Хочу воспользоваться находкой, чтобы прервать свой рассказ и сделать здесь вставку, которая осветит затронутые вопросы не с философской, умозрительной стороны, а с практически-житейской, и притом в легкой, почти юмористической форме. Сама по себе командировка уполномоченного Красного Креста в голодную губернию не такое уж важное событие, но вокруг нее возникают портреты, характеры, мировоззрения, и все сливается, чтобы дать картину того русла, по которому шла деятельность того, что в те времена называлось правительственною благонамеренностью. Чиновное раболепство, отсутствие собственных убеждений, заискивание путем лицемерия – все это есть плоды той коренной болезни нашей, о которой говорю: смешение принципа национального с религиозным, смешение принципа благонадежности с набожностью, принципа церковного с полицейским. Оставляю весь свой рассказ в том виде, как я тогда его написал; не меняю даже настоящего времени глаголов – это придает рассказу живость и близость сегодняшнего дня.
В ноябре 1898 года мой брат Петр получил приглашение от Главного управления Красного Креста ехать в Рязанскую и Тульскую губернии. В тот год был голод; ему поручалось обследование продовольственного положения и подача помощи населению. Приглашение мотивировалось тем, что брат близко знаком с Тульской губернией. Он действительно туда ездил предыдущим летом в качестве сотрудника некоего Клопова. Для точного воспроизведения всех условий, при которых совершилась поездка брата, и для полного изображения общественных и административных настроений необходимо два слова о Клоповской экспедиции, ибо, как сказал бы какой-нибудь герой Достоевского, оттуда все и пошло.
В октябре и ноябре не было в петербургских гостиных другого разговора, как о Клопове. Много шуму, много пыли подняла эта личная командировка государем маленького, неизвестного человека в целях выяснения, насколько донесения администрации об экономическом состоянии согласуются с действительностью. Больше всего негодования вызвало то, что командировка состоялась помимо министра внутренних дел, без предупреждения местных властей и приобретала, таким образом, внешний характер негласной ревизии.
"Сферы" заволновались. Министр юстиции Муравьев сказал, что нужно быть таким... (не повторяю), как Горемыкин, чтобы не подать в отставку. Витте, министр финансов, сказал: "Пусть только сунется в мое ведомство". По вечерам вокруг карточных столов у Сипягиных, у Александры Николаевны Нарышкиной сановники сливались в общий хор негодований; дамы, брезгливо искажая рот, спрашивали: "Что это такое Клопов... Хлопов..." – "Клопов, мадам". – "Клопов? Какой ужас!" "Клопов – это создание братьев Волконских", – сказала графиня Анастасья Федоровна Нирод (сестра известных братьев Треповых). Вероятно, это же самое повторяли другие.
Слишком, однако, большое значение придают братьям Волконским, если думают, что они способны "создать" кого-нибудь. Достоверно следующее. Анатолий Александрович Клопов, мелкий чиновник министерства путей сообщения, по специальности статистик, прекрасный знаток России, изъездивший ее вдоль и поперек, изучивший все промыслы и способный до самозабвения увлечься всяким делом, в котором чувствует биение истинной жизни, через брата Петра познакомился с великим князем Николаем Михайловичем, через него – с Александром Михайловичем, а последний устроил у себя свидание с государем. "И представьте, – восклицали наши барыни, – какие глупости рассказывают, будто он сказал государю: "Вы, ваше величество, ничего не знаете, не можете знать".
Вовсе это не глупости. Не знаю, было ли это и как было, но кто хоть раз слыхал Клопова, тот знает, что он на это совершенно способен, что он способен государя и к стене прижать и за пуговицу взять (как Песталоцци Александра I), что если он сделает разницу между государем и простым смертным, то лишь в том смысле, что он ему скажет больше, чем всякому другому, потому что он знает, что государь может больше, чем всякий другой. Результатом этих свиданий и разговоров было то, что несколько губернаторов увидели в подведомственных им губерниях незнакомого господина, разъезжающего по городам и селам, собирающего сведения в учреждениях, делающего опрос обывателям. Когда его спросили, в силу чего он действует, он вынул из кармана лист, пред которым власти молча преклонились.
В числе лиц, которых Клопов просил помочь ему, находился и брат Петя, и выпала на его долю Тульская губерния, губерния, оказавшаяся замечательной, и не тем замечательной, что в ней жил Лев Толстой, а тем, что в ней губернаторствовал губернатор Шлиппе. Кстати, по поводу Льва Толстого. Клопов был у него, долго беседовал; провожая его. Толстой сказал: "Если бы я еще верил в эти обряды, я бы и государя и вас перекрестил".
"А в те времена, – говорит Курюков в "Федоре Иоанновиче", – и меж бояр великие разрухи чинилися". Великие разрухи чинились в Туле прошлым летом, и брат, что называется, попал в переделку. Администрация и земство или, вернее, часть земства резко разошлись по вопросу о голоде; земство доносило о нужде, выставляло необходимость своевременной помощи; Шлиппе же, сообщивший Сипягину при проезде из Крыма в Петербург, что все обстоит и будет обстоять благополучно, был заинтересован в том, чтобы оправдать свое предсказание. Не буду останавливаться на подробностях, скажу только, что все, что есть в губернии раболепного, жаждущего аттестации в благонамеренности или "консерватизме", сплотилось вокруг губернатора Шлиппе, чтобы дать отпор живым силам земли в лице таких людей, как Писарев, Долгорукий, Бобринский.
Большого шуму наделало открытое письмо председателя уездной земской управы графа Владимира Бобринского губернатору Шлиппе, напечатанное в "Петербургских ведомостях" у Ухтомского. В этом письме председатель уездной управы изобличает беспечность и нерадение губернатора, оставлявшего без ответа самые настоятельные донесения, письма, даже телеграммы. Письмо это, вызванное желанием Бобринского оправдаться в возведенных на него и напечатанных в "Губернских ведомостях" обвинениях, произвело необычностью своей большой переполох в петербургских "сферах": разве может "подчиненный" печатно оправдываться, да притом путем обвинения начальства. Все спрашивали себя: что будет; выражали – одни опасение, другие надежду, что после предстоявших осенью выборов Бобринский не будет утвержден в должности; да это еще в лучшем случае, а то и суд... Государь сказал Ухтомскому: "Я надеюсь, что Бобринский будет утвержден, – такие люди нужны на местах". Увы, царские "надежды", как и царские "желания", уже мало что значат.
Припоминается мне, рассказывал Ухтомский, что представлял государю прошения сектантов о прекращении на них гонения, о возвращении отобранных детей, – государь всегда говорил, что сделает "все возможное", но время проходило, прошение не получало движения. Один семидесятилетний старик, баптист, два года тому назад высланный из Курской губернии на Кавказ, просит позволения вернуться, чтобы умереть на родине; это третье его прошение на Высочайшее имя. "И почему это, – говорится в прошении, – когда нас забирают или когда детей наших отбирают, творят это дело ночью? Дух дьявола все дела свои творит ночью... И для кого это творится, и где сидит тот человек, которому это нужно и который такие приказания отдает, – в министерстве ли, в Сенате ли, в Синоде ли?" Не похоже ли это на человека, который с ужасом спрашивает себя, кто сошел с ума – окружающий мир или он сам. И всегда был один ответ: "Постараюсь сделать все от меня зависящее". А через несколько месяцев прошение повторялось...
Вот почему "надежды" государя на утверждение Бобринского мало кого подбадривали. Петербургские гостиные перешептывались, "сферы" глубокомысленно молчали. Все ждали. Результат: "Петербургские ведомости" получают предостережение и приостановку розничной продажи, Шлиппе получает звезду, Бобринский не утвержден. По поводу пожалованной губернатору звезды забавно отметить, что на торжественном обеде в честь губернатора Шлиппе губернский предводитель дворянства Арсеньев так закончил свой тост: "Звезда на груди вашего превосходительства да будет нашей путеводною звездой". Да, уткнуться в губернаторский пуп – вот весь горизонт многих провинциальных "деятелей"...
На такую-то жгучую почву вступил брат Петя через два-три месяца после описанных событий, уже не в качестве частного сотрудника статистика Клопова, а в качестве официального делегата от Красного Креста, по личному указу императрицы Марии Феодоровны. Шлиппе принял командировку брата как "личность" против себя; по его приезде дал ему аудиенцию в десять минут и затем ни на одном заседании Красного Креста не был. Этим ограничилось содействие губернатора уполномоченному. Все, что было искренно заинтересовано делом и не снедаемо личным честолюбием, соединилось вокруг брата и принесло ему навстречу весь запас сил, накопившийся под долгим давлением административного недоверия и упрямства, и свежую бодрость проснувшихся надежд.
В числе оказавших ему поддержку был и местный архиерей, преосвященный Питирим. Между прочим он обещал брату разослать подведомственному ему духовенству циркулярное приказание об оказании ему содействия. Но и он боялся выступить официально ранее, чем определится, за кем победа: циркуляр был разослан лишь три месяца после обещания. Интересно, что в самый разгар административного гонения на Бобринского архиерей печатал в "Епархиальных ведомостях" свою речь, произнесенную на освящении одной из открытых Бобринским школ, в которой выражал надежду, что плодотворная деятельность графа по народному образованию будет продолжаться и впредь на пользу населения. "Петербургские ведомости", перепечатывая речь архиерея, прибавляли: "К сожалению, пожеланиям преосвященного не суждено сбыться, так как граф Бобринский в должности председателя управы не был утвержден губернатором".
Немало было потрачено и юмора среди всех этих печальных, а для многих тяжелых обстоятельств. Так, например, Бобринский, жалуясь в письме к товарищу обер-прокурора Св. Синода Саблеру на то, что Шлиппе не утвердил одной ассигновки на школу, просил его "оградить дело народного образования от гонения со стороны чуждого нам по вере и народности губернатора". А иноверный губернатор, кстати сказать, отправляясь на первую ревизию, посылал вперед приказание, чтобы народ выходил его встречать с образами и хоругвями. Он просил и колокольного звона, но архиерей не разрешил.
Работа в Туле закипела, но надо было много терпения и веры, чтобы довести ее до конца. Тем временем партия пресмыкающихся, в особенности знаменитый Чернский уезд с предводителем Сухотиным во главе, соединилась вокруг "путеводной звезды". Для характеристики этих людей заимствую из дневника брата следующий эпизод. Все губернские предводители дворянства съехались в Москву ко дню открытия памятника Александру II. Князь Трубецкой, московский предводитель дворянства, должен был от лица всех говорить речь государю. Арсеньев, тульский губернский предводитель, заявил Трубецкому, что он своим дворянством не уполномочен что бы то ни было передавать, "так как тульское дворянство реформам Александра II не сочувствует". Он же позволял себе в многолюдных заседаниях предлагать и преподносить дворянские ходатайства "под соусом Александра III". Как ясно в этих словах сказывается глумительное отношение человека к тому самому, пред чем он в данную минуту считает выгодным преклоняться. Понятно, почему некоторые так настойчиво делят род людской на консерваторов и либералов: более естественное деление на порядочных и непорядочных было бы им слишком невыгодно.
На почве смешения принципов патриотизма и православия, политической благонадежности и церковной обрядности чиновное подхалимство дает невероятные по уродливости проявления. Вот несколько примеров. Вновь назначенный министр народного просвещения Боголепов, прошлой весной объезжая Прибалтийские губернии, в речи к Рижскому епископу выражал надежду, что представители церкви будут проводниками русского языка. Он не знал, значит, или считал более выгодным, более соответствующим данному политическому моменту – забыть, что в Писании сказано: "Шедше научите все языки", а не сказано: "Шедше научите русскому языку". Он забыл и то, очевидно, что у того же архиерея есть подведомственные ему священники из эстонцев, которые учат эстонцев по-эстонски основам православной веры, а не русской грамоте. Никогда смешение понятий не выразилось с большей ясностью формулировки, чем в появившейся недавно в "Московских ведомостях" статье за подписью "Русский" по поводу открытия в Вильно памятника Муравьеву. Усердствующий патриот предлагал увековечить память сего русификатора западной окраины медалью, на которой изобразить генерал-губернатора с крестом в руке! Тогда почему на обратной стороне не изобразить священника с нагайкой?
Директор одной из петербургских гимназий, Груздев, на публичном акте при распределении наград объявлял, что такому-то ученику определяется стипендия "не за успехи, а за благочестие и усердие в храме Божием". Ученик продавал свечи, заправлял кадило, разносил просфоры.
Один директор Киевского округа в аттестате ученика под рубрикой "поведение" писал: "Замечается особенное благоговение к особе государя императора".
Я нарочно беру примеры из разных областей, но ясно чувствую: корень всех грехов один. Еще не могу не упомянуть о докладе главноуправляющего Кавказом, князя Голицына, в котором он настаивает на том, чтобы переселенцы, вселяемые из России на Кавказ, были непременно православного вероисповедания. Хочется спросить: в целях чего? Более успешной русификации или поднятия земледелия?
Если чиновники гражданские считают долгом выказать рвение к делам церкви, то весьма естественно в служителях церкви стремление отличаться на поприще национализма как верного средства засвидетельствовать свою благонадежность. В торжественном заседании Общества ревнителей русской древности небезызвестный протоиерей Смирнов в порыве религиозно-чиновничьего экстаза призывал внимание присутствующих на то, что к русскому народу так часто прилагается название "Новый Израиль", и находил, что это "полно глубокого смысла". К этим вопросам подойдем ближе в следующей главе, а сейчас возвращаюсь к рассказу о командировке брата.
Итак, работа брата натыкалась на всевозможные препятствия. Все было пущено в ход, чтобы помешать делу и замарать тех, кто им занимался. В декабре появилась статья в "Гражданине", газете известного князя Мещерского, об одном из "тульских правдоискателей", который, приехав в губернию, спознался с "либеральными болтунами", вместо того чтобы обратиться к мудрому совету уважаемых консерваторов, "поседевших на службе трем царям". Статья эта, как говорят, вышла из сотрудничества Мещерского, Сипягина, графа Кутузова (известный поэт) и Соловьева (конечно, не Владимира, а служившего в ведомстве по делам печати консервативного прихвостня). Любопытно, что после состоявшегося вскоре после того общего собрания Главного управления Красного Креста, в котором брат читал свой доклад, доклад, произведший прекрасное впечатление, Мещерский как-то встретил Ухтомского: "Скажите князю Волконскому, что я не знал, что он ездил в Тулу уполномоченным"...
Работа продолжала кипеть, но и змий не дремал: когда брат вернулся в Петербург, в министерстве внутренних дел лежало на него сорок семь доносов. Тульский губернатор требовал отзыва уполномоченного Волконского. Горемыкин внемлет просьбе Шлиппе, настаивает на отозвании брата; последний получает письмо от председателя Главного управления Красного Креста, генерала Кремера, в котором ему объявляют, что "так как, по сведениям, полученным из МВД, нужды в Тульской губернии больше нет", то его командировка прекращается.
Что было делать? С его удалением из Красного Креста не только приходил конец всему начатому и поставленному на ноги делу, но, очевидно, пришлось бы пострадать всем тем, кто ему в работе помогал. Брату оставалось одно – просить доклада у императрицы. Кремера как раз в то время не было в Петербурге; между тем мешкать нельзя было – императрица уезжала. Брат обратился за разрешением представиться к состоявшему при Марии Феодоровне князю Владимиру Анатолиевичу Барятинскому. Через день, накануне отъезда в Данию, он был принят. На следующий день в министерстве внутренних дел получается бумага из Красного Креста: "По личному приказанию ее величества государыни императрицы Марии Феодоровны, одобрившей все действия князя Волконского в Тульской губернии, его командировка продолжается".
Весь описанный эпизод считаю важным в общем ходе моего рассказа потому, что он, мне кажется, с ясностью показывает, как неверное решение, ложная постановка коренных вопросов духовной жизни, просачиваясь в сознание и деятельность людей, приводит к нравственному уродству и несправедливости. Мы увидим сейчас, что они ведут и к жестокости.
ГЛАВА 6
Свобода вероисповедания
Не терпимость я проповедую; свобода верования, самая неограниченная, в моих глазах настолько священное право, что слово терпимость в применении к ней уже не кажется в известной степени насильственным, ибо существование такой власти, которая может терпеть, посягает на свободу мысли тем самым, что она терпит и что, таким образом, она могла бы и не терпеть.
Мирабо
Ясно ли проступает из предыдущего двойное значение тех вопросов, которых касаюсь? Двойное их проникновение в жизнь? Одно дело – вопрос по существу, другое дело – воспитательное влияние того, под каким углом вопрос решается, как к нему подходят, как с ним обходятся. Скажу, что второе значительно важнее первого. Существо вопроса не многих интересует, но пути, которыми он разрешается, задевают всех – и думающих и не думающих, и пути эти создают те ходячие приемы мышления, которыми устанавливается наша жизнь. И действительно, образовалась у людей особого рода мыслительная складка, создалось особое, официально одобренное мышление. Оно было мелко, оно не просачивалось в почву вопроса; оно провозглашало очевидность, когда еще ничего не было доказано. Иногда мышление прямо перескакивало через факты и самую очевидность, не стесняясь, толковало в желательно-официальном духе. Маленький пример. Когда государь сочетался браком, для молодой императрицы была составлена книга на английском языке – "The Russian Statesman's book" (Книга русского государственного человека). В этой книге была между прочим глава, посвященная вопросам инославия и иноверия как они поставлены русским законодательством. Вся глава состоит из перечня запретительных законов: из православия переходить нельзя; из иноверия в иноверие, например, из лютеранства в католичество или наоборот, нельзя без разрешения министра внутренних дел; ограничительные законы относительно детей от смешанных браков и т.д., все в том же духе. И знаете, как эта глава была озаглавлена? "Religious Freedom" (религиозная свобода). Что сказать на эту беззастенчивость? Вероятно, в целях оправдания этого заглавия, после всех запретительных параграфов, один, последний, параграф гласил, что переход из инославия в православие "however" (все же) не воспрещается. Помню, я рассказал это Соловьеву и говорю, что слово "все же" не совсем передает английское "however"; а он вдруг выпаливает: "тем не менее однако" и разражается своим ржущим смехом, который мы так ценили и который "тем не менее однако" по звуку был так неприятен.
На гнилом фоне этого официального мышления свежими пятнами проступали наши немногие "единомышленники". Правда, нашего полку прибывало, мы друг друга узнавали, но что же это в сравнении с окружающим морем потемок... Должно быть, в 1901 году основались в Петербурге "соловьевские обеды". Человек двадцать и больше сходилось в ресторане Донона у Певческого моста, вкусно обедали, приятно беседовали. Каждый раз читался кем-нибудь доклад, потом обсуждался, и – "беседа затягивалась заполночь". Были доклады на чисто философские темы, но большей частью они вращались вокруг наболевших вопросов иноверия и инородчества. Много жизненно-жгучих фактов приносилось сюда – наблюдения, письма, разговоры... Все это было у меня записано, но... Всему этому велись подробные отчеты, но... И было это двадцать лет тому назад...
Случилось в то время одно событие, которое не прошло бесследно, во всяком случае, оставило полосу в тогдашней жизни. Михаил Александрович Стахович, брат моего покойного приятеля, осенью 1902 года прочитал на миссионерском съезде в Орле доклад о свободе вероисповедания.
Михаила Стаховича я знал очень мало и никогда не подозревал в нем "единомышленника". В то время он был Орловским губернским предводителем дворянства; впоследствии он стал видным членом Государственной думы. Его речь прокатилась из конца в конец земли русской; она произвела впечатление бомбы; о ней говорили и в иноземной печати. Я в то время был во Флоренции, погружен в свои записки по тем же вопросам. Узнав о совершившемся из русских газет, я восчувствовал прежде всего сильную радость при мысли, что я не один, что человек решился и нашел случай вынести эти вопросы на арену общественного обсуждения.
Понятен прилив интереса, но прибавлялся для меня новый интерес: как отзовутся на речь Стаховича? Как откликнется духовенство, что сделает правительство, что скажут газеты? Ведь это же в первый раз люди приглашались высказаться. Каждый день я прочитывал все, что относилось к этому делу; газеты, журналы, письма с родины были полны речью Стаховича, и все это заполняло страницы моих тетрадок. На основании всего этого накопившегося материала я по приезде в Петербург составил доклад, который предназначался в Религиозно-философское общество, в то время Победоносцевым скрепя сердце разрешенное. Но я его читал перед тем во многих местах: на Соловьевском обеде, у принцессы Елены Георгиевны Альтенбургской, у великого князя Владимира Александровича; отдельно читал его старику графу Константину Ивановичу Палену и другим. В свои тетрадки я заносил впечатления от этих чтений, отзывы, вопросы и пр. Получилась интересная картина тогдашнего светского, чиновного и духовного мышления. Всего этого у меня уже нет, но доклад мой был напечатан в журнале "Новый путь" за 1903 год в протоколах заседаний Религиозно-философского общества. В библиотеке Румянцевского музея я нашел нужные мне номера этого журнала. Извлекаю из них мой доклад и выписываю его целиком.
К характеристике общественных мнений по вопросу о свободе совести
В сентябре 1902 года перед собранием учителей и ревнителей Христовой церкви и Христова учения один человек произнес слово.
Он высказал, что несправедливо преследовать человека за то, что он верит так, как ему верится, а не так, как другие хотят, чтобы он верил; что жестоко наказывать человека за его религиозные убеждения в надежде, что наказание может просветить заблуждающегося; что позорно насильственными мерами пополнять стадо Христово; что для самих представителей церкви тяжело – должно бы быть тяжело – сознание такого положения вещей, при котором паства их рядом с людьми искренно верующими, переполняется людьми, причисляющимися к господствующему вероисповеданию ради тех преимуществ, коими оно обставлено; что не может пастырь радоваться многочисленности своей паствы, верить в искренность ее, когда принадлежность к этой пастве обставлена житейскими обеспечениями и приманками; что, наконец, для пасомых, для мирян не может не быть тягостным такое положение, при котором подвергается сомнению искренность каждого православного, ибо каждый православный в ответ на свое исповедание веры рискует услышать насмешливое восклицанье: "Да, как бы не так. Так мы и поверим, что вы по убеждению православный; докажите, что вы по свободному выбору сердца исповедуете православие, а не ради благ земных. Вот такой-то, например, – верю, что он по убеждению: он страдает в своей службе, он страдает в своих гражданских правах, потому что он католик; но он не хочет быть иным – верю в искренность его убеждений. Вот этот человек страдает в правах гражданина, семьянина; он влачит свои дни в изгнании, оторванный от детей, потому что он сектант, но он предпочитает все сносить, чем умереть в другой вере, – верю в искренность его убеждения. А вы, под прикрытием закона, под охраной власти, тоже уверяете, что вы по убеждению. Извините. Вот когда вас начнут преследовать, как других, или когда другие сравняются с вами, ну тогда мы поговорим об убеждении, а до тех пор не поверю; вы православный страха ради иудейского". Вот под каким нареканием поставлен, собственно, каждый православный в России. Только человек вполне безразличный к вопросам духовной жизни может не страдать от подобного положения вещей и не чувствовать оскорбительности и жестокости его.
Содействовать разъяснению этих вопросов в духе учения Христова – обязанность каждого из нас, тем более пастырей и миссионеров церкви. Первый и существеннейший к тому шаг – ходатайство об отмене уголовной кары за отпадение от господствующего исповедания.
Таков смысл слов, которые произнес на Орловском миссионерском съезде один, как его впоследствии назвали, "светский, посторонний съезду человек". Буря, поднявшаяся вокруг этой речи, длилась более двух месяцев и уже в последние дни, к сожалению, утихла, прекращенная цензурными распоряжениями. Вечные и великие вопросы о свободе совести, о церкви, о государстве, о их взаимоотношениях, которые среди этой бури подвергались обсуждению, конечно, интересны, но интересна и сама буря, то есть то, что по поводу этих вопросов проявилось, обрисовалось, – различные течения мысли в различных кругах: правительственных, духовных, общественных. Предвидя, что "орловский инцидент" подаст повод к проявлению многого такого, что дремлет в нашей общественной совести; что он вызовет к сознанию многое, что лишь смутно ощущается; что зашевелится наконец тот ужасный хаос, который царит в умах относительно вопросов духовной жизни человека; предвидя, что мы вступаем в интересный момент для характеристики общественных мнений, – я начал со дня появления первой газетной заметки отмечать все, что мне по этому поводу попадалось в печати. Составилась как бы летопись вопроса с критической оценкой слов и событий, с примерами, анекдотами и пр. Если позволите, поделюсь с вами кое-чем из накопившегося материала.








