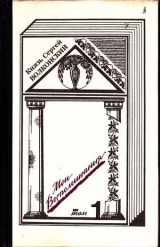
Текст книги "Мои воспоминания (в 3-х томах)"
Автор книги: Сергей Волконский
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 49 страниц)
Итак, я предпочитал расходную статью доходной. Но никогда мне не казалось, что я расходую на себя, когда расходовал на Павловку. У меня такое было ощущенье, что моя обязанность, мое призвание сделать из Павловки то, что в революционные времена стали называть "культурная ценность".
С крестьянами отношения хорошие. С конторой, с приказчиками, с управляющими они тягаются, но со мной всегда вежливы. В воскресенье утром у меня на крыльце своего рода приемный день. Тот просит "скостить", тот просит "отпустить", у того корова "похарчилась", тому соломки на крышу, тому хворосту на плетень, кирпичей на печку... Трудно иногда бывало разобраться в справедливости и искренности; священник в этих случаях был верным советчиком. Трудно и потому еще, что не нравится снисходительность владельца управляющим: это уменьшает доходность. Но я им говорю: "Ведь вы ставите благотворительность на приход; так о чем же разговаривать?" Есть и такие, что приходят просто посоветоваться, как быть в том или ином случае: дележ, приписка к обществу – вопросы, от которых я далек, но всегда ценил доверие. Особенные случаи воспитания, болезни приводили их ко мне. Одного слепого я взял в Петербург, поместил в приют, из него вышел певчий, и он плел корзины, делал щетки. За это я стал популярен среди слепых. У нас в округе их было довольно много, и, странно, они все на протяжении пяти, шести волостей знали друг друга. Один из них мне сказал, смеясь: "Слепой слепого издалеча видит". В семье Волосковых в деревне Павловке было два брата слепых; третий, зрячий, Егор, служил у нас в доме; редкой преданности человек; он пошел на войну и попал в австрийский плен. Через год вести о нем прекратились. Сколько раз старуха мать приходила просить: "Ну еще разок попытайся написать..."
У меня была целая переписка и с Красным Крестом, и с каким-то учреждением в Женеве. И не дай Бог, когда удастся известье получить, – тогда посыпятся просьбы.
Даже из Саратовской губернии получал прошения разыскать такого-то. Какая удивительная сила обобщения живет в безнадежности: один удачный случай пробуждает тысячи надежд... Милого Егора Волоскова, приветливого, сияющего, будут помнить все, кто жил в моем доме.
И еще будем мы помнить Ивана Меньшикова села Посевкина. Был убит на войне. Он был сторожем моего маленького дома в Борисоглебске, и когда в годы войны я там устроил лазарет, он стал наблюдателем, курьером и пр. Какой прелестный человек. Как раненые его любили...
Был еще один Меньшиков в Посевкине, Егор. Он с ранней юности своей работал у нас в саду, с любовью относился к каждой своей работе, прямо, когда исполнял физическую работу, приходил в какое-то вдохновенное состояние. Раз пошел с ним в дальнюю часть парка, которую мы прозвали "Кавказ", потому что там обрывистый овраг; со стороны степи я посадил лес, а дно оврага в некоторых местах приоткрыл. Таким образом, благодаря тому, что ровной степи не видать, можно подумать, что стоишь не на краю оврага, а на какой-то вершине. Там на одной лужайке среди сорной травы и мелкого кустарника я открыл прелестный дубок. Захотелось его высвободить. Пошли с Егоркой.
– Вот, Егорка, эту всю грязь вокруг дубочка мне скоси. Только смотри дубочка не смахни.
– Ну, нешто!..
Зашел с того краю, поплевал в ладони, начал косить. Что ни взмах, то чистый полукруг перед Егоркой раскрывается. Валятся сорные травы и мелкие кусты, ложатся кучками влево от него. Он входит в упоение, в ярость: гортанным дыханьем отмечает каждый взмах – "Раз! Раз!" Я стою против него, у другого края сорного места. Уже сзади дубочка все чисто. Вдруг взмах, и после гортанного "Раз!" – крик, в котором и ужас, и отчаянье, и раскаяние. Он замер. Мы смотрели друг на друга, развели руками... Однако дубочек не посмотрел на дело так трагично, как мы; он пошел от корня двумя ростками; я срезал один, оставив более сильный. Теперь он вдвое выше роста человеческого.
Егорка боготворил память моей матери. Он впоследствии был разъеден страшною болезнью. В последний раз, что он приходил, на него было жутко смотреть. Трудно было понимать его слова; но в гнусавых звуках, выходивших из того, что было остатком его лица, я разобрал, что каждый день он приказывает детям молиться за покойную княгиню...
И еще одного Меньшикова помню, тоже из Посевкина, – там было много представителей этого знатного имени. Было это на второй год войны. Приходит, – в ноги. За пятьдесят лет не могли отучиться. Впрочем, только те так делали, кто в первый раз приходил. Спрашиваю, чего ему. Забирают, а он вдовый и пять человек детей, ни матери, ни тещи, – кому их денет?
– Пришел к вам попросить письма.
– К кому?
– А там из Питера приехал набор производить Князь Великий.
А я слышал уже, кто приехал набор производить. Нет, говорю, не Князь Великий, а князь Енгалычев.
– Вы с ним знакомы?
– Знаком.
– Ну вот, к нему письмо пожалуйте.
– Слушай, ты мне веришь?
– А то.
– Ну так я тебе скажу, что письмо мое тебе нисколько не поможет. Когда набор?
– В воскресенье в Алабухи являться.
– Ну вот, забери ты всех пятерых своих детей, погрузи на телегу и так и поезжай в Алабухи и со всеми детьми прямо вали в воинское присутствие.
– Так ведь маленький и ходить-то не умеет.
– На руки возьми.
– Ну спасибо за совет.
Так он и сделал. Освободили.
Итак, по воскресеньям приходили крестьяне. Я к ним подходил вплотную. Тех, кто не знал меня, это, по-видимому, удивляло. Я заметил, что это удивленье, в свою очередь, создавало с их стороны новое средостение, но скоро оно пропадало. Отношение было хорошее; какое-то я чувствовал всегда с их стороны снисхожденье; они как будто прощали мне мои преимущества. А может быть, и этого даже не было, а просто в их глазах я был чудак. Трудно переселиться в чужую оценку, то есть в психологию, руководящую чужой оценкой... Одна баба сказала знакомой помещице, что ко мне крестьяне хорошо относятся, потому что я бедных "презираю". Конечно, я делал что мог, но тяжело сознание бездонности того, куда кладешь.
Да, помещичья помощь крестьянину – это палка об одном конце, если можно так выразиться. Или скажем так: побуждение – одно, а результат – другое. С одной стороны, желание добра, а там – ничего, пустота. Все это ни к чему, и всегда я имел такое ощущение, что это с моей стороны откуп. Откупиться за невозможное, недостойное положение вещей. Но сказать, что я чувствовал ответственность за такое положение, никогда не скажу. Бездонность всякой помощи крестьянину тем определяется, что его интересует только – получить, он не понимает, что значит вложить. Когда понятие дохода заменяется понятием наживы, то один лишь шаг к тому, чтобы понятие наживы в свою очередь заменилось понятием мошенничества. Губительный принцип единовременного пособия въелся в крестьянина, сидит глубоко. Мошенничество – один из видов единовременности, и мошенничество для него – условие хозяйства. За сорок лет один только случай припоминаю, который могу назвать хозяйственной помощью, а не подачкой. Какой разумный, правдивый мужик Алексей Давьщов села Посевкина. Он каждый год берет у меня в долг, каждый год больше, всегда возвращает "на Николу". Завел себе скотину, инвентарь, по моему совету покрыл крышу цементной черепицей. Он каждый год веселеет. А все остальное – бездонная яма, один непробудный отказ. Тяжело, с детства тяжело было чувствовать это отличие себя и всего огромного окружающего моря. И всегда чувствовалось, что когда-нибудь прорвется. Но не чувствовал я, что когда прорвется, то им станет лучше, а еще меньше – что они сами станут лучше. Алексею Давыдову не нужна моя итальянская зала, и он совершенно счастлив без нее...
Когда я в таких мыслях, я ухожу в дальний угол парка. То есть все далеко, когда двести пятьдесят десятин, но говорю – дальний, потому что самый отдаленный от всякого жилья; ни служащему туда не за чем, ни рабочему туда путь не лежит. Это самая вершина одного из наших оврагов, называется Чумакова вершина. Это западная часть парка, еще молодая, так что при вечернем солнце еще залита горячим светом. Овраг в вершине рогатится надвое, со всех сторон мысы. Склоны их я обсадил елями, а на главном мысу, разделяющем два главных оврага, я посадил большой сибирский кедр. Он могуч, он виден издалека, его зелень бархатна, он царствует посреди елок. Туда люблю я уходить, когда разум мой предвидит, а душа предпочитает не знать.
Елки на склонах стоят вертикальные; четко ложатся их тени; они рассажены этажами, так что хорошо вырисовывается разной высотой их макушек волнообразие почвы. Здесь прижился большой заяц; всегда откуда-нибудь выскочит. Но это все, больше ничего живого; разве пушистый шмель над красно-бархатным клевером покружится, сядет, торопливо пососет и, оторвавшись от выпитого цветка, жужжливо негодуя, перелетит на другой...
Сколько у нас полевых цветов, и каких разнообразных! Вот розовые лепестки эспарцета, как составленные из мелкого горошка; а вот и прямо горошек, темно-красный, с завивающимися усиками. Какое разнообразие дикой гвоздики; есть маленькая красная, а то большая белая, перистая. Там длинные метелки желтой кашки, нежно-белые метелки того, что французы зовут "царица лугов". Выскакивает крепкий, как золотая елка, Соломонов скипетр. А колокольчиков сколько видов – и обыкновенный, и елкой, точно игрушка, увешанная китайскими позвонцами, и крупный, огромный, с жирными белыми тычинками в раскрытых губах крепкого синего цветка. И, наконец, нигде не виданный мною колокольчик, такой темный, что почти черный; по латыни называется Fritilaria Meleagris. A еще милая наша Clematis integrifolia – из четырех крепких сине-лиловых лепестков звезда, и посредине пучок белых тычинок; пахнет будто одеколоном; много его в клумбы пересадил. В мае сколько темно-лиловых ирисов! Синий усоп, как мягкий хвост, качается под ветром; к кустам прижимается желтая арника, и в дубравной тени, на тонком стебельке, красная, горит наша дикая вервена – "барская спесь", или "жгучая любовь"...
А цветущие кустарники! Низкорослый бобовник, который цветет цветом абрикоса; приветливый шиповник; бересклет, к осени обсыпанный розовыми чашечками, из которых семена висят черными сережками; из них мы, дети, делали нашей няне Амалии Антоновне серьги. Белая акация, которой ни одной не было, а теперь леса. А вишни весной "как молоком облитые". Празднества, не краски, празднества, не запахи. Сколько таких празднеств от ранней весны, когда склоны оврагов голубели под голубыми подснежниками
И в завитках еще в бору
Был папоротник тонкий,
до поздней осени, когда, в предсмертной роскоши листвы, золотом блестит береза, клен пылает красным пламенем, лиловой темной кровью горит угрюмый вяз, коралловыми пятнами смеется бересклет. Сколько лиственных букетов под косым лучом горело осенью в итальянской зале на том столе, где весной пылали пионы!..
Да, наша флора очень замечательна и малоизвестна. Однажды, в начале семидесятых годов это было, мы с матерью посетили в Москве какую-то художественную школу. Нам показали среди прочих ученических работ "орнаменты на мотивы из русской флоры". Какое убожество! – ромашка, незабудки, мак, овес... Приехав в Павловку, мать моя стала зарисовывать цветы. У меня сохранился, случайно сохранился этот прелестный сборник; думал когда-нибудь его издать. Вместо обложки думал воспроизвести ее же рисунок: обливной посуды горшок, купленный на базаре в селе Алабухах в один из вторников, и в нем большой пучок ковыля. Волнистым колыханьем ковыля серебрятся в мае месяце поляны нашего парка...
Прохожу меж юных елок. Приветливо встречают деревца; у них нет различья в настроении, как у людей, у них бывают несчастья, болезни, но у них не бывает нервов. Они всегда приветливы. Люблю подходить к маленьким елкам, к таким, которых макушку можно еще тронуть... И всегда что-то приветливо прощальное я чувствую в этом западном углу нашего парка, в этой далекой Чумаковой вершине. Обхожу деревца, вижу, как будет через тридцать лет... Я нарочно посадил здесь так много елок, дабы
...над ельником, из-за вершин колючих
Сияло золото вечерних облаков.
Обхожу деревца, снимаю повитель... Имею ли я право так любить все это и так глубоко всем этим наслаждаться? А на любовь разве есть право? Нет, на любовь не может быть права, на нее может быть только чужая зависть. Но зависть не дает ее тому, кто ее не имеет, и зависть ее не отнимет у того, у кого она есть...
В лощине я посадил несколько тополей; подрезаю, чтобы стрельчатее росли. Тут же посадил голубой ветельки; смотрю: принялась. Вон елочка вздумала разукрасить себя зелеными шишечками; в эти годы? Какая неосторожность; надо сорвать их – зачем деревцу истощать себя?.. Кедр великолепен. Устоит ли? Жарко, сухо здесь; иногда поливать приходится, а пруд далеко. Он выше всех, и молодой лес вокруг него не защита ему; легко может бурей его сломать. Он был подвязан на три стороны проволокой к столбикам – проволоку украли; подвязал веревкой – веревку украли; подвязал мочалкой – мочалку украли...
Солнце село. Иду вдоль оврага домой. Овраг налево все глубже становится, все сумрачней; большие дубы, со склонов и со дна поднимающиеся, все выше. Туда, вниз, не хочется: там сыро, там уже темно, там пахнет грачом. Здесь, наверху, сухо, здесь еще светло, здесь пахнет медом и сеном... Парк теряет дикости своей; все глаже причесаны лужайки, кусты; дорога, зеленая, мягкая, стала крепкая, кирпичом убитая. Вот стриженая изгородь к дому, вот цветники и вот крыльцо: плитки в шашку, удобные плетеные кресла...
Тишина. Уже кончили поливать. Аллея погасла, и потухла горячая герань на середине круга в флорентийском горшке. Жарко. Сухо...
– Мария Гавриловна!
Старушка экономка только что заперла визгливую железную дверь кладовой и валкой своей хлопотливой походкой направлялась к кухне.
– Можно простокваши?
– Сию минуту.
И сколько раз, когда мне подавали вкусную холодную простоквашу, я думал: "А может быть, это последний раз..." Но нет, не последний... "Но будет когда-нибудь последний", – всегда доканчивал я... И был последний, был.
Я вижу, что весь свой рассказ я вел в настоящем времени. Простите и поправьте. Везде, где стоит "есть", поставьте "было, было, было". И знайте, что из всего, что я описывал, сохранилась у меня только – и сейчас, пока пишу эти строки, она лежит передо мной – кедровая шишка от кедра, что остался там, на Чумаковой вершине...
ГЛАВА 3
Гимназия и университет
IV Ларинская гимназия была на 6-й линии Васильевского острова; мы жили на 4-й, в прелестном особняке (тогда No17) с садом, с чудной верандой. Экзамены – самая прелестная пора тех времен:
Любовь земли и прелесть года,
Весна благоухала нам.
Готовились мы к экзаменам гурьбой, с товарищами, на веранде. Сирень кругом. День кончался, но ночь не надвигалась, стояла белая... Складывали книги, гурьбой бежали к Тучкову мосту и – в яликах на острова.
Петербургское взморье!.. Как мягко, низко земля подползает под воду; стелется белый песок под светлую струю, а светлая вода струйкой набегает, едва смачивает белый' песок. Колючие высятся очертания резких елей. Тихий плеск воды, и в нем передержки соловья. На белом небе – звезда, тоже белая, влажная, как слеза... И вкусны же после зубрежа колбаса, и сыр, и "трехгорное пиво"! Скользим по глади; с весел капельки струятся. Кроме наших голосов только соловьиный щелк. И дивен темный лес, "неведомый лучам в тумане спрятанного солнца"...
Я больше обязан гимназии, чем университету, и в смысле приобретенных знаний, и даже в смысле методов мышления. Что самое важное в преподавании? Скажут: уметь научить. А я думаю, что преподаватель меньше всего учитель; он, прежде всего, пробудитель. Трех человек я должен помянуть благодарностью именно как пробудителей.
Виктор Петрович Острогорский был преподавателем русского языка и литературы. Это был типический шестидесятник со всей присущей шестидесятникам прелестью и со всей несносной узостью и теоретичностью их идеализма. Большая струя гражданской скорби и горькая капля сарказма. Это на кафедре проявлялось в очень сдержанной форме, но кто только умел слушать, видел между строк мысль его и под вицмундиром его душу. Несмотря на то, что многое в его подходах было не по мне, он был мне ценен; я не следовал за ним в ту дверь, в которую он меня приглашал, но он своей критикой помогал мне осознавать ту дверь, в которую меня тянуло. Литературные направления, литературно-художественные формы, вопросы соотношения формы и содержания, этики и эстетики – все это умел он затронуть, как садовник рыхлит землю вокруг корней. "Мысль, однажды пробужденная, – сказал Карлайль, – уже никогда не заснет". Вот за что я благодарен Виктору Петровичу: не за то, что он указал мне мой путь, а за то, что указал на существование путей. Он был мягкий, добродушный преподаватель; иногда бывал выпивши и тогда бывал особенно саркастичен. Фактической стороной преподавания он сильно пренебрегал; уроков ему не готовили, сочинения "жилили". Одно неподанное сочинение о Жуковском долго тяготило нашу совесть, и все мы боялись, что вдруг он вспомнит о нем. Однажды он по записной книжке делал обзор всего пройденного – и вдруг:
– А что, о Жуковском подавали?
– Подавали, как же, подавали.
– Да, тоже очень поверхностно было написано.
Чего же поверхностнее, подумали мы, и у всех отлегло от души. Через двадцать два года, когда я был директором императорских театров и пригласил его на какое-то заседание, за чаем я рассказал ему этот случай; он заливался смехом и захлебывался от удовольствия.
Преподаватель латинского языка Владыков был фанатик грамматики. Не скажу, чтобы ему я был обязан любовью к античному миру; не скажу, чтобы он воспламенил меня к поэтам древности; но он зажег меня уважением к грамматической точности; и поскольку грамматика есть ближайшее соприкосновение словесной формы с мыслительным содержанием, я обязан ему сознательностью своего словесно-мыслительного аппарата. Он был сух, невозмутим, говорил правила латинской грамматики скороговоркой, требовал такой же сухости и быстроты в ответах и за малейшую неточность ставил единицу. Очень горжусь тем, что у меня была в восьмом классе тетрадка латинских переводов, в которой была только одна четверка, остальные все пятерки.
Его сухость оказалась болезненной; злейшая чахотка свела его в могилу меньше чем в три месяца. Я навестил его в больнице. Он не знал о своем конце; с лихорадочным увлеченьем развивал он принципы той латинской грамматики, которую собирался издать, и замогильным голосом, с пламенным взором говорил о герундиве при глаголах utor, fruor, fungor, potior и vescor...
Третий преподаватель, о котором вспоминаю с признательностью, – Владимир Иванович Белозеров, учитель истории. Он готовил нас с братом в гимназию, и мы полгода просидели на греческой мифологии. У меня была тетрадка, где были записаны генеалогические дерева богов и героев. Все это жило эпитетами, сравнениями и было проникнуто настоящим классическим дуновением. Это, в сущности, было единственно классическое, что мне дала классическая гимназия; этим зажили мои детские воспоминания флорентийских музеев, мои первые впечатления итальянского Возрождения. Особую признательность сохраняю ему за то, что он показал мне форму конспектов, по которой все главные деления пишутся по левой стороне страницы, а все подразделения заполняют правую сторону – чем мельче, тем правее. До известной степени ему обязано мое мышление своей геометрической складкой. О, как мало ценится геометрия в кругу гуманитарных дисциплин. Как вообще мало подчеркивается связь разных дисциплин. Сколько логики в геометрии, сколько геометрии в логике. А декламация – какая дивная звуковая геометрия, когда знать ее законы...
Вот три человека, которых могу помянуть. Все остальное была вицмундирная рутина.
Было и у нас, конечно, комическое козлище – в лице преподавателя немецкого языка Карла Карловича Ольшевского, которого, когда он входил в класс, встречали трубным гласом и барабанным боем кулаков по столу. Он любил, чтобы его чествовали, и как фельдмаршал перед фронтом проходил на кафедру. Он был совсем глупый человек; иногда трудно было понять, чего он требует. Вызовет кого-нибудь: "Скажите предлоги с родительным падежом". Ученик говорит без запинки это бессмысленное чередование предлогов, положенное в стихи: "diesseits, jenseits, halber, wegen". Ольшевский слушает, на его лице читается разочарование... Иногда он говорил:
– Возьмите тетрадки, что-нибудь пишите. Думайте по-русски, пишите по-немецки.
– Позвольте, Карл Карлович, лучше думать по-немецки, а писать по-русски... Или тогда уж лучше сами нам продиктуйте, а мы переведем.
– Ну хорошо. Возьмите тетрадки. Пишите: моя сестра любит жениться.
Он, как видите, по-русски плохо знал и прибегал к нашей помощи, когда ему надо было разобрать письмо. Один бывший сослуживец по Сибири, где он прежде служил, писал ему оттуда; завидовал Карлу Карловичу, живущему в столице, "в водовороте событий, а мы здесь, несчастные, толчем воду в политической ступе". Очень, после того как он ее понял, очень Карлу Карловичу понравилась эта метафора...
Я сказал, что университет дал мне меньше гимназии. Это надо, конечно, понимать относительно; то есть если сравню то, каким я поступил в гимназию и каким я из нее вышел, с тем, каким я вошел в университет и из него вышел, то на стороне гимназии будет несравненно значительнейший плюс.
По окончании гимназии я написал профессору Александру Николаевичу Веселовскому, у которого намеревался заниматься, прося его посоветовать мне, что мне прочитать, вообще, как подготовиться к слушанию его лекций; меня в особенности влекло к романской литературе. Но письмо мое осталось без ответа. Не знаю, как объяснить, что этот очаровательный человек, столь отзывчивый, так близко к студентам подходивший, не откликнулся на мой запрос; но это повлияло на все мое прохождение через университет; уже никогда я не сумел подойти ни к одному профессору.
Интересы мои навсегда остались вне университета; университет стал какой-то повинностью, которую надо было отбыть и сбыть. И я отбывал ее, и без всякого внутреннего влечения. Ведь надо же университет пройти, надо кандидатом кончить. Последнее тоже мне не представлялось под видом внутренней необходимости, а вставало постулатом родительского требования. Отец мой, сам окончивший только иркутскую гимназию и через университет не прошедший, – то не его вина была: он просился, но когда Николаю I доложили просьбу сына ссыльно-каторжного, он сказал: "Будет с него и гимназии", – так, мой отец, сам в университете не бывший, был бы в отчаянии, если бы кто-нибудь из его сыновей-студентов не кончил кандидатом. Я работал для удовлетворения его желания, но до сих пор иногда вижу во сне, что мне осталось держать последний университетский экзамен; кошмар сгущается, и когда обступает меня ужас бесцельного усилия и неискренность в удовлетворении предрассудка ради сыновнего послушания, вдруг во сне я вспоминаю, что отца уже нет в живых, что я его уже огорчить не могу, – плюю на экзамен, облегченно вздыхаю и – просыпаюсь...
Александр Николаевич Веселовский был живой, горячий человек. Высокий лоб, вокруг головы стоящие курчавые черные волосы, круглые навыкате глаза, толстые красные губы, которые как-то удивительно приятно, мягко, я бы сказал: вкусно говорили. Он читал нам языки испанский, итальянский, провансальский. Но ни он, да и никто из профессоров-филологов не умел заинтересовать предметом. Они все выносили на кафедру то, что лежало у них на письменном столе. Все суживалось, не было больших линий. Я уже не говорю о таких филологических крысах, как профессор греческого Люгебиль, который сидел на своей излюбленной "дигамме" и даже откопал, что ранее этой исчезнувшей буквы была в греческом алфавите еще другая; но даже такие светила, как Ягич, Ламанский, по славянским языкам, не сумели меня завлечь.
Таких профессоров, которые задавались художественно-ораторскими целями, могу мало назвать. Сухомлинов, по русской литературе, читал приятно, но это не было глубоко. Большим ораторским успехом пользовался Орест Миллер – читал о славянском эпосе, также по русской литературе. Маленький, горбатый, в очках, с большим оголенным лбом и большой черной бородой, – его звали Черномор. Он был немножко смешон на кафедре, которая его закрывала; всегда в полуобороте, с грозно сдвинутыми бровями, он сильно подчеркивал слова, которые хотел выделить, и иногда ударял по кафедре кулачком. Молодежь его любила, но и он заискивал перед ней. Это, впрочем, была общая тогдашняя повадка. Такие светила, как, например, Градовский, по государственному праву, которого я иногда ходил слушать на юридический факультет, всегда пригадывал кончить лекцию под рукоплескания и, выходя из аудитории, проходя коридором, оборачивался и раскланивался; с каждым поклоном рукоплескания вскипали.
То было неприятное время. В университет нахлынула волна политических брожений, и профессора этому не препятствовали, многие даже поощряли. Это был 1880/81 учебный год. Он прошел в нескончаемых волнениях, в непрекращавшихся сходках. Во второй половине этого года разразилось 1 марта, убийство Александра II, самое отвратительное из всех политических убийств. В университете царило какое-то звериное настроение. Положение людей нашего круга было тяжело, а наше с братом положение осложнялось еще тем, что отец был товарищем министра народного просвещения. Сколько косых взглядов... Как странно, что именно те люди, которые проповедуют равенство, они-то больше всего против равенства грешат. Помню, был у меня товарищ, Крыжановский, всклокоченный, в косоворотке. Он занимался изданием литографированных записок по лекциям Ягича и Ламанского. Я обыкновенно брал при раздаче и за себя, и за своего товарища Николая Струве (брат известного Петра), который давал уроки и не мог дожидаться раздачи. Но как-то так вышло, что два раза он был свободнее меня и взял мою долю. В третий раз тоже он был свободен, а я нет, и в шинельной, уходя, я подошел к Крыжановскому в то время, как он раздавал, и сказал:
– А мою долю, Крыжановский, пожалуйста, передайте Струве.
– Не передам.
– Почему?
– Потому что вы барствуете.
По лицам окружающих я увидел, что он должен пожалеть о своих словах, и по его собственному лицу я увидел, что он мою просьбу все-таки исполнит. Но вот как у этих людей во всем, даже в самых мелочах, было две меры и двое весов. Профессора этому потакали. На экзамене Минаева по языковедению я отвечал хорошо. Встаю, спрашиваю:
– Могу узнать, сколько?
– Три.
Как раз на углу стола сидел, готовился к своему билету тот самый Крыжановский. Не знаю, видел ли Минаев, как он, услышав это "три", привскочил; вся его фигура выражала – "быть не может". Через два, три дня один из товарищей был на дому у Минаева; разговорились об экзаменах.
– А вот вы говорите, что вы справедливы, а Волконскому три поставили.
– Ну, ему я за титул сбавил единицу.
И всю мою жизнь – в школе, в провинции, впоследствии в критике моих писаний, в оценке моей воспитательной деятельности – мне "сбавляли единицу за титул". Всю жизнь я чувствовал, что тяготеет на мне обвинение в том, что я "князь", а теперь, во время большевизма, мне тычут в глаза, что я "бывший князь". Несмываемый грех в глазах тех, кто проповедует равенство...
Министерство народного просвещения было единственное ведомство, которое я имел случай поближе наблюдать. Оно было затхло.
Мой отец был попечителем Петербургского учебного округа в последние годы царствования Александра II в министерство графа Д.А.Толстого и товарищем министра при Александре III в министерство Делянова, поэтому я многих знал. Нигде, никогда не чувствовал я себя столь чужим, как когда приходилось бывать в министерстве, говорить с людьми в синем вицмундире. Гимназия в то время осуществляла идеал толстовской "классической системы". Это – было стройно, но сухо, а главное, совсем не классично. Главная пружина механизма, Александр Иванович Георгиевский, с самодовольством глядел на часы и говорил: "В данную минуту в пятом классе всех гимназий российской империи проходятся латинские неправильные глаголы". И это называлось "классическое воспитание".
Конечно, я лично всегда буду благодарен родителям, что поместили меня в классическую гимназию. Но какую же я имел из дому подготовку, какой уже запас сведений, впечатлений? То, что я принес в гимназию, в смысле направления ума и душевных влечений, было, во всяком случае, не меньше того, что я от нее получил. Гимназия только пополняла; я бы сказал, что гимназия являлась казенным текстом к моим домашним, совсем не казенным иллюстрациям. Но что давала она заурядному гимназисту, такому, у которого не было такого дома, таких родителей, таких воспоминаний? Одно формальное выполнение программы, прибавлю – ненавистной программы; ибо не только безразличием дышало отношение учащихся к программе, оно дышало ненавистью: мы ненавидим всякое усилие, в котором не усматриваем целесообразности или от преодоления которого не испытываем награды.
В Петербурге сквозь этот регламент иногда пробивался свежий дух, когда преподаватель обладал сколько-нибудь яркой индивидуальностью; но провинция! Что за сонное царство провинциальная гимназия! И как все это было не нужно. Я был впоследствии почетным попечителем гимназии в моем уездном городе Борисоглебске Тамбовской губернии. Какое противоречие с совестью моей сидеть на экзамене и хвалить за хорошие ответы. Накануне я в лавке ситец покупал, лавочник мне отмерял, а на другой день сын этого лавочника рассказывает о гоплитах и квиритах или о греческих частицах. Изнемогая от жары в июне месяце, потеют несчастные мальчики над греческими аористами, а в трехстах саженях от гимназии рожь колосится... Какая ложь была во всем этом; оно столь же мало отвечало естественной пытливости ребенка, сколько требованиям среды. По окончании курса все это приводило или к разрыву с родительским домом, или к разрыву со всем, чему в течение стольких лет учился человек, – оно оказывалось неприменимо, для жизни не нужно.
И это в городском населении, а в деревне! Эти юнцы, которых родители на последние крохи "выводили в люди"... Сколько я видал таких: по деревне с тросточкой гуляет; сыплет иностранными словами; когда его спрашивают – который час, отвечает с прибавкой – "по московскому времени". Несчастные родители не знают, гордиться или стыдиться, радоваться или сокрушаться. Сверстники их называют "беловоротники", старики, махнув рукой, говорят: "пахать перестал".








