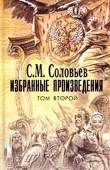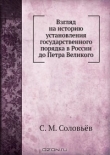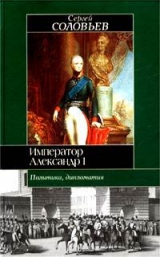
Текст книги "Император Александр I. Политика, дипломатия"
Автор книги: Сергей Соловьев
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 44 страниц)
Коалиция была неполная; присоединение Пруссии предполагалось еще в будущем; действия союзников начаты были недружно; Австрия, не дожидаясь русских войск, выдвинула свои в Баварию и потерпела уже страшное поражение. Недостаток полководца, которого можно было бы противопоставить Наполеону, привел императора Александра к мысли о вызове знаменитого французского генерала Моро, изгнанного Наполеоном в Америку за участие в роялистском заговоре; но Моро не поспел бы во всяком случае; надобно было употребить в дело остатки екатерининских, суворовских времен. Имя первого русского генерала, которое услыхал Наполеон, было имя Кутузова. Человек, которому после суждено было проводить завоевателя из России, должен был теперь встретить его в Баварии. При несчастной, непредвиденной поспешности, с какой Австрия начала войну, русское войско должно было не идти, а бежать ей на помощь. Русские прибежали на Инн в ненастье, по грязным дорогам, в очень некрасивом виде, в изношенном платье, босые, – и отовсюду дурные слухи: союзники дали себя разбить, теперь вся тяжесть ударов победителя падет на русские плечи.
Естественно, русские не могли отнестись благоприятно к австрийцам, тем более что память о последнем походе Суворова, о его отношениях к австрийцам была жива. Русские презрительно относились к людям, «привыкшим битыми быть», по выражению Суворова; австрийцы в отместку называли их словом, которое первое попадается на язык западного европейца, когда он недоволен русскими, – называли их варварами, смеялись над недостатком у них военной выправки. Русские должны были отступать, сдерживая и отбиваясь от превосходного числом неприятеля; маршалу Мортье сильно досталось от Кутузова при Дюрренштейне; услыхали о давно неслыханном деле, о разбитии французов; сам Наполеон назвал битву резней. Такая же резня произошла при Шёнграбене, где умел отбиться знаменитый суворовец князь Багратион, оставленный, по словам Кутузова, на неминуемую гибель для спасения армии. Багратион не погиб, а армия была спасена отступлением в Моравию, где с ней соединились другие русские войска, только что прибывшие из России, и небольшой австрийский корпус, отступивший от Вены, которая была уже занята французами. Союзники стояли у Ольмюца, куда приехали и оба императора – Александр и Франц; Наполеон занял Брюнн. Союзники решили идти к нему навстречу и 20-го ноября встретились у Аустерлица. Наполеон победил; из рядов русского войска выбыло с лишком 20.000 человек.
В нашу задачу не входит подробное описание и обсуждение военных действий, но всякое явление должно быть уяснено в связи с предыдущим и последующим, должно быть уяснено в той степени, в какой обнаруживает характеры действующих лиц, их отношения и взгляды, в какой имеет влияние на последующие отношения их и взгляды. Позор поражения после екатерининских войн, после суворовского похода в Италию не мог быть перенесен равнодушно современниками; как обыкновенно бывает в подобных случаях, они должны были с чрезвычайной страстностью искать виноватого, накидываясь на первого встречного, не будучи в состоянии выслушивать оправданий, исследовать дело беспристрастно и спокойно. Разумеется, прежде всего стали виноваты союзники – австрийцы. Мы не станем останавливаться на обвинениях, что австрийцы из вражды к русским открыли Наполеону план сражения и т. п.; но не подлежит сомнению, что австрийцы испортили кампанию в самом начале, выдвинувши свои войска в Баварию, не дожидаясь прихода русских, и если это действие объясняется желанием предупредить Наполеона, то трудно не предположить здесь и другого желания – заручиться успехом до прихода русских войск, чтобы смыть позор прежних неудач и не дать утвердиться мнению, что успех для Австрии возможен только при чужой помощи.
Мы видим любопытное явление, которое не останется одиноким: против войны был известный своими способностями полководец, заведовавший военной частью в империи, эрцгерцог Карл, тогда как за войну был преимущественно министр иностранных дел Кобенцль, потому что для последнего было невыносимо тяжело невыгодное положение Австрии в политической системе Европы; это при своей должности он должен был чувствовать ежедневно, и война представлялась единственным выходом; Кобенцль поддерживал и превозносил похвалами Мака в его поспешных распоряжениях. Но в России обвиняли не Кобенцля, а русского посла в Вене графа Разумовского: зачем он не доносил своему правительству об ошибках австрийского, зачем не протестовал против перехода австрийских войск через Инн, как будто невоенный человек мог решиться протестовать против военных распоряжений, протестовать против того, к чему Россия постоянно побуждала Австрию. Сильно нарекали на заведовавшего иностранными делами в России кн. Чарторыйского; но его заподозривали вообще, как поляка, в неприязни к России; в печальном же окончании коалиции он виноват не был. Чарторыйский, оскорбленный обвинениями, написал императору Александру длинное письмо, где, оправдывая себя, главным виновником беды выставил самого императора. По его мнению, Александр был виноват, во-первых, в том, что не послушался его совета и не вторгнулся с войском в Пруссию для восстановления Польши, а во-вторых, в том, что поехал сам к действующей армии, где его пребывание вместо пользы приносило только вред.
На первом обвинении нам останавливаться не нужно: оно показывает пункт помешательства, очень неприятный в русском министре иностранных дел. Но второе обвинение имеет за себя кажущуюся правду. Если бы, по мнению Чарторыйского, главнокомандующий Кутузов был предоставлен самому себе, не стеснялся присутствием государя, то, отличаясь прозорливостью, он стал бы избегать сражения до вступления Пруссии в коалицию. Таково было именно мнение Кутузова. В интересах Бонапарта было не терять времени, в наших интересах – длить время; он имел все причины желать решительного сражения, союзники – все причины избегать его. Надобно было утомлять неприятеля частыми битвами, не вводя в бой главные силы, идти в Венгрию и войти в сношение с нетронутыми австрийскими корпусами.
Итак, Чарторыйский указывает нам человека, по мнению которого не должно было давать сражения под Аустерлицем: этот человек был главнокомандующий Кутузов, и мнение главнокомандующего не было принято! Зачем же он после того оставался главнокомандующим? Сам император Александр оставил нам свидетельство, почему мнение главнокомандующего не было принято: «Я был молод и неопытен; Кутузов говорил мне, что нам надобно было действовать иначе, но ему следовало быть настойчивее». Вина, следовательно, заключалась в Кутузове, который ненастойчиво проводил свое мнение и тем обнаружил недостаток гражданского мужества. Рассказывали, что накануне сражения Кутузов пришел к обер-гофмаршалу графу Толстому и сказал: «Уговорите государя не давать сражения, мы его проиграем». «Мое дело знать соусы да жаркие, – отвечал Толстой. – Война – ваше дело». Этой неискренности под Аустерлицем приписывали последующее нерасположение императора к Кутузову. Но имеем ли мы право предположить у Кутузова в такой степени недостаток гражданского мужества? Действительно ли он не настаивал на своем мнении из нежелания, из страха противоречить государю, желавшему сражения?
Подобно эрцгерцогу Карлу, Кутузов не рассчитывал на успех при встрече с Наполеоном; но как не встретиться? Трудность решения этого вопроса понимал лучше других Кутузов, знавший, что в интересах Наполеона было именно дать сражение, и знавший, как трудно заставить Наполеона отказаться от своего желания в пользу врагов. Уклониться от решительной битвы, когда такой полководец, как Наполеон, ее хочет, трудно, невозможно; надобно отступить, но для этого надобно иметь план отступления, надобно знать, куда отступать, с какими средствами и какие средства можно найти в стране, куда будет направлено отступление. Отступать в Венгрию: но что такое Венгрия? Не надобно забывать, что русский главнокомандующий был в чужой стране, ходил ощупью, впотьмах; начальником штаба был у него австрийский полковник Вейнротер, потому что хорошо знал местность; австрийцы своими искусными распоряжениями уже заморили голодом русское войско в Моравии: лучше ли будет в Венгрии? И главное: хотели ли австрийцы отступления, продления войны? Они этого не хотели; они были утомлены войной во всех отношениях и так или иначе желали ее окончания; выдерживать Австрия не умела, не привыкла, народной войны боялась; в 1797 году в подобном же положении австрийский министр Коллоредо произнес знаменитые слова: «Победоносному врагу зажму я рот одной провинцией, но народ вооружить – значит трон низвергнуть».
Австрийцы желали решительного сражения и надеялись на его успех: действия русских войск при Дюрренштейне и Шёнграбене служили основанием этой надежде. Но теперь легко представить положение императора Александра, русского главнокомандующего и всех русских: австрийцы желают сражения; русские, пришедшие к ним на помощь, русские, знаменитые своей храбростью, вдруг станут уклоняться от битвы, требовать отступления, обнаружат трусость пред Наполеоном! Всякий должен чувствовать, что в таком положении ничего подобного нельзя было требовать от Александра и окружавших его; нельзя было требовать от них ни малейшего сомнения, колебания и здесь, в этом положении пред австрийцами, желающими сражения, основание того воинственного задора, за который так щедро теперь упрекают императора Александра и его приближенных. Всякий должен чувствовать, что Кутузов также не мог настаивать на уклонении от сражения, на отступлении, ибо видел, что на устах каждого русского готовый ответ: «Да ведь это позор для нас; и войско упадет духом, если заставить его отступать». Наконец, надобно прибавить и сильную физическую причину, заставлявшую спешить сражением: голод. Есть известие, что солдаты по два дня не ели, что на обеде у императора один жареный гусь подавался на 20 человек.
Но писателям историй непременно надобно было найти одного какого-нибудь человека и сложить на него вину Аустерлица. Под руку попался им генерал-адъютант императора Александра князь Петр Петрович Долгорукий, который пред сражением был отправлен к Наполеону для переговоров. Князь Долгорукий обвинен в том, что держал себя гордо пред Наполеоном, раздражал его, отнял всякую возможность к дальнейшим переговорам. Но для Наполеона были горды, раздражали его и Колычев, и Морков; его могли не раздражать только люди, пресмыкавшиеся пред ним, уступавшие всем его требованиям, доступные обаянию его звонких, пестрых речей. Князь Долгорукий не позволил себе ничего более, кроме предложения условий, изменять которые не имел никакого права. Разговор его с Наполеоном для нас важен потому, что в нем обнаружилось все различие во взгляде между соперниками. Наполеон не мог или не хотел понять, чтобы русский государь мог вести войну за независимость держав, за восстановление политического равновесия в Европе, нарушенного захватами Франции; не хотел допустить, чтобы русский государь владел той широтой взгляда, по которой он должен был предупреждать опасность, какою Восточной Европе, России грозило образование империи Карла Великого на Западе Европы. Наполеон привык иметь дело с державами, для которых первый и последний вопрос был: «Что мне тут взять? Что мне за это дадут?» Он предполагал то же самое и в побуждениях Александра.
«Зачем мы ведем войну; какие существуют могущественные причины, заставляющие Францию и Россию драться друг с другом? Я этого не понимаю» – вот слова, которыми Наполеон встретил Долгорукого. «Целый свет знает эти причины, их повторять не нужно», – отвечал Долгорукий.
Наполеон:Нет ничего легче, как восстановить согласие между мной и императором Александром: хочет он Валахии? Стоит ему только об этом вымолвить слово, и дело будет улажено.
Долгорукий:У императора Александра достаточно земель, и он намерен охранять целость Порты; у него другие цели: восстановление равновесия в Европе, независимость Голландии и Швейцарии.
Наполеон:Разве эти страны не независимы? У меня нет ни одного солдата в Швейцарии; впрочем, все это можно уладить.
Долгорукий:Восстановление короля Сардинского…
Наполеон:Король Сардинский – мой личный враг; я не могу терпеть его в Италии; впрочем, можно согласиться вознаградить его где-нибудь в другом месте.
Долгорукий:Однако ваше величество обещали это в заключенном с Россией договоре?
Наполеон:Но под каким условием это было обещано? Чтоб император Александр помог мне ограничить морское владычество англичан. Россия не сдержала своего слова, и я свободен от своего… Итак, мы будем драться.
Наполеон долго хвалился аустерлицким солнцем, оно сияло ему до самого московского зарева. Для Александра с Аустерлица начинается ряд тяжких испытаний в продолжение почти семи лет.
IV. ВТОРАЯ КОАЛИЦИЯ
Неизвестно, что намеревались делать в австрийском лагере в случае удачи сражения, но очевидно, что в случае неудачи было решено покончить войну на каких бы то ни было условиях. На другой день после Аустерлицкой битвы император Франц послал уже с мирными предложениями к Наполеону, императора Александра он просил позволить ему заключить мир. «Делайте, как хотите, – отвечал Александр. – Только не вмешивайте меня ни под каким видом». На следующий день, 22 ноября, произошло личное свидание между Францем и Наполеоном, которому прежде всего нужно было не только разорвать коалицию в настоящем, но и предупредить возможность ее в будущем: он потребовал, чтобы русское войско вышло немедленно из австрийских владений, причем внушал Францу, что странно было бы для Австрии соединяться с Россией, которая одна может вести войну по прихотям своей фантазии; после поражения русское войско спокойно возвратится в свои степи, а союзник поплатится областями.
Русское войско ушло, Австрия поплатилась. От нее потребовали, чтобы она отдала Франции Венецию и венецианские области на твердой земле, признала Наполеона королем Италии; Тироль, который справедливо сравнивают с громадной естественной крепостью, имеющей великое значение для того, кто ею владеет, – Тироль с Форарльбергом Австрия должна была уступить Баварии, другие владения свои в областях Верхнего Дуная и Рейна должна была уступить Виртембергу и Бадену, должна была, таким образом, заплатить всем этим германским владениям за союз их с Наполеоном против нее, лишилась всего 1.114 квадратных миль и 2.784.000 жителей.
У Австрии, впрочем, был доброжелатель подле Наполеона, составитель широких политических планов, знаменитый французский министр иностранных дел Талейран. После Аустерлица он написал Наполеону: «В воле вашего величества теперь или разбить Австрийскую монархию, или восстановить ее. Существование этой монархии в ее массе (dans sa masse) необходимо для будущего благоденствия цивилизованных народов; умоляю ваше величество перечитать проект, который я имел честь отправить вам из Страсбурга». По этому проекту Австрия должна была лишиться и Венеции, и Тироля, и швабских земель, но должна была получить вознаграждение. Впервые по плану Талейрана Австрия возводилась в дунайское государство – чин, которым ее жалуют и теперь, желая, чтобы она скорее убралась из Германии, и в то же время считая ее необходимой для будущего благоденствия цивилизованных народов. Талейран отдавал Австрии Сербию, Молдавию, Бессарабию и северную часть Болгарии. А почему Талейран считал Австрию как дунайское государство необходимой для будущего благоденствия цивилизованных народов, это вытекало из того, что самая опасная соперница Франции, а следовательно, самый опасный враг цивилизации была Россия, которая рано или поздно должна была завоевать Турцию; поэтому надобно вдвинуть между Россией и Турцией Австрию, которая, таким образом, станет соперницей России, союзницей Франции и обеспечит Порте безопасность и долгое будущее. Англия не найдет более союзников на континенте, а если и найдет, то бесполезных; русские, запертые в своих степях, бросятся на Южную Азию, там столкнутся с англичанами, и вместо настоящего союза произойдет между ними вражда.
Талейран прежде всего желал обеспечения для Франции существующего порядка, столь и для него самого выгодного; поэтому, естественно, он желал, чтобы новая Франция приобрела для себя в Европе друзей, а не врагов только, и самой возможной союзницей по соображениям настоящего и прошедшего казалась ему Австрия, особенно когда отнималось яблоко раздора – Италия. Талейран хотел сказать: довольно будет с нас, пора перестать приобретать, надобно заняться упрочением приобретенного, но говорить это Наполеону значило говорить глухому. Наполеон был человек борьбы и без борьбы существовать не мог; богатырь только что расходился, ему нужны были враги для борьбы, а не друзья, не союзники постоянные. Он старался заключать союзы то с тем, то с другим государством, но для того, чтобы в известное время, перед борьбой, ослабить, разорвав союз, против него направленный, все это было на время только, для удобства борьбы; мысль о чем-нибудь постоянном, прочном, об окончании, успокоении была ему противна; в талейрановских планах и внушениях слышалось ему memento mori (помни о смерти. – Примеч. ред.). Здесь начало разлада между ним и Талейраном, который своими широкими планами становился в его глазах причастным греху непростительному: грех этот Наполеон называл идеологией; другое дело обещать, показать красивую приманку в будущем, чтобы заставить согласиться на требования в настоящем; и Наполеон позволяет Талейрану при переговорах с австрийскими уполномоченными обещать им земли по Нижнему Дунаю, даже земли от Пруссии, которая должна получить Ганновер, если только они заключат как можно скорее мир на требуемых условиях.
Но удочка была закинута понапрасну: у австрийского правительства уже составилось убеждение, что «Турецкая империя во всей своей целости необходима для будущего благоденствия цивилизованных народов», что надобно всеми силами защищать драгоценное владычество османов на Балканском полуострове от посягновений России, а теперь заставляют саму Австрию посягнуть на целость владений Порты и навлечь на себя вражду России. Напуганные австрийцы отвечали, что никак не могут на это согласиться, ибо следствием будет разрыв Австрии с Россией. Тщетно Талейран уверял, что опасности никакой нет, что Франция гарантирует будущие нижнедунайские владения Австрии; тщетно заявлял, как он, Талейран, стоит за союз Франции с Австрией, как он говорил Наполеону: мы будем воевать с Австрией, а кончим союзом с ней. «Спешите заключением мира, – говорил Талейран, – у Наполеона приходит аппетит в то время, как он ест». Австрийские уполномоченные не соглашались; они тянули время в надежде на Пруссию, которая своим грозным положением могла бы сдержать требовательность Наполеона; но когда эта надежда исчезла, австрийцы принуждены были согласиться на все требования с французской стороны и заключить мир в Пресбурге 14(26) декабря 1805 года.
Посылка Гаугвица с мирными условиями и с объявлением войны в случае их непринятия императором французов уже показывала, что в действиях Пруссии не будет ничего решительного. Гаугвиц, верный представитель короля, поехал не затем, чтобы вовлечь немедленно Пруссию в войну с победителем, каким был Наполеон и до Аустерлица; Гаугвицу прежде всего хотелось выждать, как пойдет дело, и по этому ходу располагать свои действия. Фридрих-Вильгельм боялся войны и в случае победы Наполеона, и в случае победы союзников, которые, приписывая одним себе весь успех дела, возьмут себе львиную часть; Гаугвиц боялся войны в том и другом случае, да еще боялся Фридриха-Вильгельма. От этого страха образ его действий совершенно совпадал с образом действий Наполеона, которому нужно было протянуть время, не доходить с прусским уполномоченным до решительных объяснений, не допустить, таким образом, коалиции до полноты и, пользуясь этой неполнотой, разбить союзников, принудить Австрию к миру и тогда уже легко разделаться с одной Пруссией так или иначе. Гаугвиц не очень торопился сбором в дорогу, не очень торопился и в дороге. В Праге получил он известие о дюрренштейнской резне и поспешил в письме к королю ослабить впечатление, какое это дело могло произвести: «хотя русское войско и отличилось, но все же оно принуждено отступать»; Гаугвиц поддерживал в короле страх перед Наполеоном или, лучше сказать, подлаживался под этот страх; он писал: «Напрасно обвиняют великого полководца, зачем он от Рейна прорвался к границе Венгрии, где предстоит ему опасность быть отрезанным и уничтоженным; он не пойдет в Венгрию, ибо знает трудности похода в этой стране; он идет за врагами в Моравию, и если неприятельское войско отступит, то он вторгнется в Силезию и по течению Одера откроет себе дорогу через прусские владения, где не встретит сопротивления, ибо прусское войско рассеяно на обширном пространстве от Майна до Лузации».
Этим внушением Гаугвиц заранее оправдывал свое намерение не торопиться решительным объяснением с Наполеоном, чтобы не подвергнуть Пруссию опасности в случае победы французов или отступления русских в Венгрию. Король, разумеется, заранее был согласен со своим любимым министром. Тщетно император Александр писал ему с жалобами на медленность Гаугвица; тщетно льстил по поводу стойкости прусского войска: «Мы не недостойны иметь союзником государя, у которого такое знаменитое войско, как ваше», – все напрасно; король отвечал, что занимается собиранием войска в ожидании исхода переговоров графа Гаугвица, который прибыл наконец в Брюнн к Наполеону, употребивши 14 дней на проезд из Берлина в этот город. Разумеется, он предложил посредничество Пруссии, но не заявил ничего решительного; Наполеон отправил его в Вену к Талейрану: тот рассыпался перед ним в учтивостях, и Гаугвиц очень приятно провел время в ожидании, чем кончится дело в Моравии. Дело кончилось Аустерлицем, и, когда Наполеон возвратился оттуда в Вену, Гаугвиц явился поздравить его с победой. Наполеон принадлежал к тем людям, которых успех не смягчает. У него сильно кипело на сердце, страшно хотелось распечь Гаугвица, то есть правительство прусское: как оно осмелилось оскорбиться нарушением нейтралитета с его стороны; как оно осмелилось стать в отношении к нему в грозное положение, предлагать ему мирные условия; как осмелилось дать увлечь себя так называемым патриотам и под влиянием царя подписать Потсдамский договор. Но с другой стороны, мир с Австрией еще не был заключен, разрыв с Пруссией мог повести к восстановлению тройной коалиции, тогда как теперь представлялся удобный случай уничтожить возможность подобной коалиции на будущее время: Пруссия, испуганная Аустерлицем, не полагаясь более ни на Россию, ни на Австрию, одинокая, согласится на союз с Францией, закабалит себя за Ганновер и останется навсегда в рабстве, ибо за Ганновер перессорится со всеми. Если же и теперь окажет колебание, станет опять толковать о нейтралитете, то надобно раздавить ее как можно скорее, ибо никто за нее не заступится; Австрия, заключивши мир, не начнет вдруг новой войны, у России в свежей памяти Аустерлиц.
В Шёнбруннском дворце, где жил Наполеон, в кабинете знаменитой императрицы-королевы Марии-Терезии, Наполеон принял Гаугвица, принял ласково. Гаугвиц, человек хороший, мягкий, уступчивый, все говорит, что он предан Франции; он еще недавно пострадал за это, получив оскорбительно-холодный прием от императора Александра; какое теперь торжество для него получить совершенно другой прием от аустерлицкого победителя! Но видно было, что Наполеон, лаская Гаугвица, насилу сдерживался, – и вдруг переход к королю: «Почетнее было бы для вашего государя прямо объявить мне войну; он бы этим услужил своим новым союзникам; я бы дважды подумал прежде, чем дать сражение. Но вы хотите быть союзниками целого света – так нельзя: надобно выбирать между ними и мною. Будьте со мной искренни, или я с вами расстанусь. Я предпочитаю открытых врагов ложным друзьям. Я бы мог отметить вам, занять Силезию, поднять Польшу и нанести Пруссии такие удары, от которых она никогда бы не оправилась. Но я хочу забыть прошлое и явиться великодушным; я прощаю за минутное увлечение, но с одним условием: чтоб Пруссия соединилась с Францией самым тесным и неразрывным союзом и взяла Ганновер». Гаугвиц был смущен этим предложением, зная, что оно не понравится королю; стал отговариваться неимением инструкций, но Наполеон стоял на своем: или союз и Ганновер, или война, – и тут же новые ласки относительно Гаугвица. Ласки не помогли бы, если бы, с другой стороны, не велено было внушать Гаугвицу как будто под величайшим секретом, что уже все готово для прусской кампании, что французские войска двинутся на Силезию.
Но мы видели, что Гаугвиц именно этого и боялся. Он решился подписать союзный договор (15 декабря н. ст.): Франция передавала все свои права на Ганновер Пруссии, которая за то уступала Аншпах в пользу Баварии, а княжество Невшательское – прямо Франции. Король мог не утвердить договора, а между тем время было выиграно. Пруссия была избавлена от внезапного нашествия. Но дело в том, что заключением этого союза между Пруссией и Францией отнята была всякая надежда у Австрии на возможность продолжать войну или получить лучшие условия мира, и если Аустерлицкое сражение имело такие решительные следствия, заставило Австрию заключить такой тяжелый для нее мир и поставило очень скоро Пруссию в еще более тяжелое положение, так виной всему этому, разумеется, была прусская политика, представителем которой был Гаугвиц, верный носитель королевских мыслей и взглядов, – политика, благодаря которой коалиция оказалась неполной, что именно и нужно было для успехов Наполеона. С прусской стороны явились упреки русскому и австрийскому императорам, зачем они решились на битву, не дождавшись срока, назначенного королем Фридрихом-Вильгельмом (именно 15 декабря н. ст.) для движения прусской армии против французов, если бы Наполеон не принял мирных условий, отправленных к нему с Гаугвицем. Но могли ли императоры Александр и Франц рассчитывать на какие-нибудь сроки, видя со стороны Гаугвица медленность и бездействие?
И о событиях после сражения не следовало с прусской стороны высказывать таких заключений: «Положение дел вовсе не было отчаянным. Перемирие могло быть нужным, можно было начать переговоры, причем граф Гаугвиц явился бы посредником; император Александр должен был внушить мужество императору Францу, удержать короля Фридриха-Вильгельма при трактате 3 ноября, ускорить военные движения Пруссии». Но Австрия именно и длила переговоры затем, чтобы Гаугвиц наконец явился посредником, но он не явился, а заключил союз с Францией, что и заставило Австрию отказаться от мысли о войне. Надобно было вести мирные переговоры; но если первым условием для этого было постановлено удаление русских войск из австрийских владений, то любопытно было бы знать, как император Александр мог внушать мужество императору Францу? Что касается короля Фридриха-Вильгельма, то император Александр после Аустерлица передал в его распоряжение русские войска, находившиеся в Силезии и Северной Германии, и дал обещание помогать ему всеми своими средствами, если король в них нуждается. От императора Франца явился в Берлин генерал Штуттергейм и прямо объявил, что прислан посмотреть, что сделает Пруссия; что его государь протянет мирные переговоры для узнания королевских решений: если король пожелает помочь ему, то он не подчинится слишком тяжелым условиям, но если будут медлить помощью, то это поставит в необходимость заключить мир. Помощь была замедлена, Гаугвиц заключил союз с Францией;
Австрия должна была заключить мир; коалиция рушилась.
На письмо императора Александра, предлагавшего все свои средства в помощь Пруссии, король отвечал, что принимает предложение с благодарностью, потому что имеет великую нужду в помощи при таких трудных и критических обстоятельствах. Гарденберг на конференции с Алопеусом объявил, что король очень рассчитывает на помощь русского войска, но войска этого, находящегося в Силезии и Северной Германии, мало, так что оно не может уравновесить прусские силы с французскими; полагаться же на австрийцев было бы непростительной мечтой после неоднократных опытов: союзник слабый всегда служит не помощью, а бременем, Австрия же представила доказательства своей слабости, чтобы не сказать хуже, сообщивши Бонапарту Потсдамский договор, и генерал Штуттергейм говорил о союзе между Австрией и Францией как о деле возможном. Когда Алопеус спросил: «В случае возобновления войны признает ли прусский король случай союза (casus foederis), вытекающий из Потсдамского договора?» – то Гарденберг отвечал, что король не откажется от своих обязательств, основанных на союзе и совершенном согласии с петербургским двором, но вследствие всего случившегося обязательства Потсдамского договора нуждаются в больших изменениях, о которых с прусской стороны всегда готовы войти в соглашения с величайшим доверием.
Еще только новые соглашения! Но прежде чем эти новые соглашения могли начаться, приехал граф Гаугвиц с подписанным им договором оборонительного и наступательного союза между Пруссией и Францией. Несколько дней совещались о судьбе этого удивительным образом рожденного ребенка; наконец решили усыновить его; король ратифицировал договор только с некоторыми объяснениями и ограничениями: король соглашался на один оборонительный союз, а не наступательный. Потом в объяснительной записке говорилось, что обязательства Пруссии по этому договору начнутся только с той минуты, когда мир с Австрией утвердит уступки этого двора, а мир с Англией утвердит приобретение Ганновера Пруссией, но в ожидании этих миров и утверждений прусский король вступает во владение Ганновером и отвечает Франции за спокойствие Северной Германии. И только когда Ганновер сделается собственностью короля вследствие мира между Францией и Англией, Пруссия немедленно сделает со своей стороны уступки, обозначенные в договоре. Неизменным осталось условие договора, по которому Франция и Пруссия гарантировали независимость и целость Оттоманской империи, – условие, служившее Наполеону верным средством поссорить Пруссию с Россией, у которой уже начинались враждебные отношения к Турции. Гарденберг упрекал своего соперника Гаугвица, зачем он заключил такой невыгодный для Пруссии союзный договор с Францией: уже если хотели вступить в союз с Францией, то, по его мнению, надобно было сделать это посильнее и совершенно предаться этой системе. Но Гаугвиц, которого посылали опять к Наполеону с утвержденным договором и объяснительной запиской, Гаугвиц обещал королю, что он доставит ему еще важные выгоды кроме Ганновера: следствием Пресбургского мира должно быть переустройство Германской империи; Южная Германия с ослаблением Австрии отойдет под заведование Франции; можно на это согласиться, с тем чтобы Северная Германия отошла к Пруссии, чтобы прусский король был провозглашен императором Северной Германии.