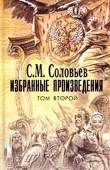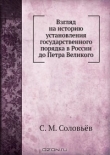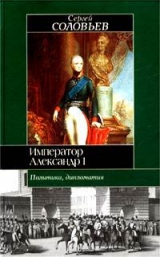
Текст книги "Император Александр I. Политика, дипломатия"
Автор книги: Сергей Соловьев
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 44 страниц)
Но твердое решение императора Александра поддерживать старшую линию Бурбонов отнимало у французских изгнанников надежду употребить наследного принца Нидерландского орудием для достижения своих целей. Им оставалось держаться герцога Орлеанского; его агентом в Брюсселе был один английский лорд, который тайно раздавал деньги жившим здесь в изгнании французским офицерам. Говорили, что герцог Орлеанский предлагал жезл коннетабля Франции принцу Евгению Богарне, в случае если ему удастся получить французский престол.
Но главным союзником Людовика-Филиппа во Франции был граф Артуа, который своим поведением уничтожал все надежды умеренных и заставлял их поневоле обращать взоры к младшей линии Бурбонов. Герцог Веллингтон по совету Поццо опять решился обратиться к наследнику престола с представлениями, чтобы он перестал находиться в постоянной и ожесточенной оппозиции правительству. Артуа встретил эти представления с «невозмутимою неисправимостью»; он отвечал герцогу, что во всем виноваты министры; что Ришелье честный человек, но его водят другие; впрочем, он, Артуа, не прочь войти в соглашение с Ришелье. Веллингтон спросил: какие условия соглашения? Ответ: удалить дурных министров, перестать давать должности врагам законной монархии и управлять посредством честных людей. Веллингтон возразил, что таким поведением Ришелье погубит короля и свою репутацию. Артуа отвечал, что в таком случае он останется верен своей партии и своей системе.
Веллингтон:Я думал, что говорю с наследником престола, а не с вождем партии.
Артуа:Я прежде всего человек и хочу действовать по чести и совести.
Веллингтон:Честь и обязанность предписывают вам быть в соединении с интересами и чувствами народа, которым вы будете управлять, а не возбуждать разделения, которые вам могут быть гибельны.
Артуа:Я не знаю расположении народа; большинство разделит мои мнения, если правительство захочет дать власть людям, которые имеют одинакие со мною принципы.
Веллингтон:Вы принимаете меня за глупца, полагая, что я не знаю состояния Франции.
Артуа:Вы, иностранцы, не знаете людей; я знаю дело лучше – моя партия, конечно, самая сильная.
«Невозмутимая неисправимость» графа Артуа, основанная на сознании, что его партия самая сильная, неумолимая вражда «крайних» к министерству, естественно, заставляли последнее усиливать свою партию, все более и более сближаться с так называемыми либералами разных оттенков. Герцог Ришелье сознавал опасность этого сближения; он упирался при каждом новом шаге, который правительство хотело сделать в этом направлении; но он не имел ни достаточной силы воли, ни достаточной силы разумения и невольно увлекался роковою силою обязательств. Несмотря на первенство Ришелье, сильнее его в министерстве был Деказ, сильнее по своей живости и энергии и по своим отношениям к королю; но Деказ, на которого преимущественно исключительно была направлена ненависть «крайних», имел все побуждения к тому, чтобы удариться в противоположную сторону. Он делал это и по инстинкту самосохранения, ибо как человеку совершенно новому ему не было примирения ни с чем старым; он делал это и по самолюбию, потому что он считался главным виновником дела 5-го сентября; ему трудно было возвращаться назад, разделывать собственное дело. Он провозгласил, что в сближении с новой Францией правительство должно себя популяризировать и национализировать.
Действительно, правительство должно было это делать; но у Деказа недоставало ни личных средств, ни средств положения, чтобы делать это с успехом. Тон составляет музыку; в обществе ясно различается тон правительственной музыки; управляемые чуют инстинктивно твердость или слабость правительства, способность или неспособность направлять движение; так, в стремлении Деказа популяризировать правительство сейчас же почуялась слабость, старание заискивать популярность, и сейчас же выросли силы, независимые от правительства, и начали смотреть на правительство как на средство для достижения своих целей. Желая ослабить оппозицию ультрароялистскую, подали руку либералам; либералы оперлись на поданную им руку; но вместо одной ультрароялистской оппозиции приготовилась другая, либеральная, – и слабое правительство стало между двух огней.
И мадам де-Стааль была независимая и опасная сила со своею литературною знаменитостью, со своим неизмеримым самолюбием и со своим бесцельным либерализмом, служащим для приятного препровождения времени и украшения салона наравне с картинами, статуями и цветами. И старый министр иностранных дел, Талейран, был независимая и опасная сила: около оракула собирались поклонники и с благоговением внимали гневным выходкам и злым насмешкам мстительного бога, направленным против каждого действия правительства, против каждого министерства, потому что бог был согнан с Олимпа и теперь занимался подведением подкопов под священную гору. Независимою и опасною силою был и банкир Лафитт: заискивания и ласкательство правительства вздули и без того страшное тщеславие человека, который не умел ни о чем серьезно подумать, но умел обо всем красно поговорить и прослыть поэтому человеком очень способным. Лафитт не хотел служить слабому правительству; он стремился быть самостоятельною силою; денежный царек бросал деньги направо и налево и составлял себе обширный круг поклонников, подданных из остатков бонапартистской партии, из адвокатов, революционных писателей, из мелких торговцев парижских. Независимою и опасною силою был и Лафайет, perpetuum mobile революции. И много других независимых и опасных сил было вызвано слабостью правительства.
Стремление министерства популяризировать и национализировать правительство высказалось сильно в войсковых преобразованиях, совершенных новым военным министром маршалом Гувионом С.-Сиром: люди из партии «крайних» были им заменены людьми более способными, но неизвестными своею преданностью династии Бурбонов; многие из военных времен империи, находившиеся в опале последние два года, были приняты снова на службу. Меры очень хорошие, если бы Бурбонская династия могла привязать к себе войско, могла заставить его забыть недавнее прошедшее; если бы «крайние» яростными воплями против военного министра не напоминали войску, что ждет его в скором будущем. Недолго министерство могло предаваться обольщению, что либералы будут поддерживать его против ультрароялистов; против правой стороны (ультрароялистов) в палате образовалась левая, которая чрез возобновление пятой части палаты становилась все сильнее в ущерб правой стороне, но не в пользу министерства: в некоторых вопросах и правая и левая стороны соединялись против министерства. Борьба партий, ставших теперь на ноги, отразилась в литературе. Если «крайние» печатали, что французская революция была злом, возведенным на высшую степень своего могущества; что людей должно собирать только в церковь да под ружье, потому что тут они не рассуждают, а только слушают и повинуются, то либералы в своих сочинениях оправдывали революцию, называли конвент по преимуществу французским собранием, пытались даже извинять казнь Людовика XVI. Либералы спешили отомстить за недавнее унижение и гонение, за белый террор 1815 года: не было конца их рассказам об этом времени, их жалобам на злодейства реакционеров. Если в сочинениях либералов еще не было прямого нападения на короля и на монархию, то крайние демократические стремления высказывались ясно, дворянство и духовенство преследовались со страшною ненавистью. Чтобы противодействовать нечестию детей Вольтера, миссионеры рассеялись по провинциям, возбуждая религиозное чувство горячей проповедью и благочестивыми упражнениями; но в своей деятельности они руководились часто одною ревностью не по разуму: не отличаясь образованностью, они редко обращали внимание на свойства той среды, в которой должны были действовать, и их неловкое поведение служило богатым содержанием для выходок и насмешек детей Вольтера, которые указывали на явное возвращение к средним векам. Появление иезуитов особенно было вредно для дела религии, потому что заставляло и людей религиозных присоединяться к так называемым философам. Славолюбивая нация, особенно молодежь, с жадностью бросилась на приманку, выставленную бонапартистами и вообще врагами Бурбонской династии, с жадностью бросилась на рассказы о недавней славе Франции, о временах, столь противоположных настоящему унизительному положению отечества; одни песни Беранже сколько наделали вреда Бурбонам! В водевилях редко не вставлялся куплетец в честь храбрым, потому что он непременно возбуждал сильные рукоплескания.
Эти явления причиняли сильное беспокойство иностранным дипломатам. В мае 1818 года герцог Веллингтон так высказался насчет состояния Франции: «Французское правительство в последние 8 – 10 месяцев вело себя неблагоразумно, не принимая в расчет истинных интересов Франции, особенно монархических принципов, на которых это государство должно быть управляемо. Желание популяризировать, национализировать (как выражаются министры) правительство привело их на ложную дорогу. Они обратили внимание на публичные крики, не на крики партии самой многочисленной, самой разумной, роялистов (я отличаю здесь „крайних“, которые хотят восстановления дореволюционного порядка вещей), – они обратили внимание на крики партии, которая кричала всех громче, на крики либералов, бонапартистов, якобинцев. Избирательный закон дает все влияние мелким землевладельцам, которые во время революции приобрели национальные имущества. Им выгодно поддерживать принципы, которым они обязаны своим богатством. Закон о рекрутском наборе и повышениях в армии есть мера, которую я громко порицаю, потому что он подрывает французскую монархию, отнимает у короля всю власть, всякое влияние на войско и делает из армии королевской, какою она должна быть, армию национальную. Общественный дух во Франции обнаруживает пагубное влияние на правительство. Первая забота мудрой администрации состоит в том, чтобы овладеть общественным мнением, предвидеть заранее все то, что может его волновать, и вовремя брать инициативу, чтобы дать ему надлежащее направление; но французские министры, будучи слишком слабы для того, чтоб стать в челе общества, вздумали популяризировать себя, идя вслед за обществом. Они ошиблись относительно выбора. Они сочли демагогов органами большинства нации. Они испугались их крика. Какое английское министерство осмелилось бы без потери общего уважения и власти слушаться ярых декламации лондонских демагогов! А таких-то именно людей французское правительство ласкает; истинных же защитников трона оно отталкивает и отнимает у них дух. Якобинцы, бонапартисты в таком поведении французского министерства почерпают себе ободрение и смелость. Они громко проповедуют свои принципы. Несчастие Франции состоит в том, что аристократический класс, на счет которого мелкие землевладельцы обогатились, не имеет ни богатства, ни кредита для обнаружения влияния, необходимого для безопасности трона. Я считаю герцога Ришелье честнейшим человеком в мире, но он слаб. Самый сильный человек, Деказ, тщеславен, легкомыслен, не способен выказать силу, необходимую в настоящем положении правительства. По моему мнению, во Франции нет ни одного человека, способного энергически вести дело. На все мои замечания у короля один ответ – что необходимо популяризировать его правительство. Франции грозят волнения и смуты. Она не вышла из состояния революции, и с 1815 года она пошла назад в своей реставрации».
Но тот же Веллингтон объявил, что как ни неправилен ход правительства во Франции, сколько элементов смуты ни представляет столкновение партий, однако нельзя еще опасаться серьезного волнения: союз держав в состоянии сдержать все партии. Итак, можно ли вывести союзные войска из Франции и в каком отношении должны были стать к ней союзные державы – вот вопросы, которые предстояло решить на конгрессе, назначенном в Ахене осенью 1818 года.
IV. АХЕН – КАРЛСБАД
Если мы внимательно вглядимся в движения, происходившие на памяти истории в человеческих обществах, то главную причину этих движений найдем в стремлении определить отношения личности к обществу. Природа человека требует жизни в обществе; но, входя в общество, человек должен отказаться от известной доли своей самостоятельности и свободы в пользу других, в пользу общества. «От известной доли» – но именно от какой?.. Вот вопрос, который и решается в продолжение всей истории человечества, ибо для успехов человеческой, то есть общественной, жизни личность должна сохранять известную и значительную долю самостоятельности и свободы. Для охранения своей самостоятельности и свободы личность имеет прежде всего свою внутреннюю, духовную природу, посредством которой сносится с высшим миром, где находит высшую поверку всем действиям и отношениям. Понятно, как верование в загробную жизнь, в вечное существование каждой отдельной личности способствует тому, чтобы дать последней свободное и независимое положение; понятно, какие средства дает ей это верование в борьбе с материальною силою и случайностями.
Кроме религии, кроме верования в вечное самостоятельное существование личности, последняя, для своей охраны, имеет еще семейство и собственность, которые дают ей возможность устраивать в обществе свой особый и самостоятельный мир. Таким образом, религия, семейство и собственность составляют три крепости, посредством которых личность отстаивает свою свободу и самостоятельность; и общество, для правильного установления своих отношений к личности, не должно касаться этих твердынь ее. Когда же они подкапываются разными способами, когда личность выманивается из них обещанием большей свободы и независимости, которыми прикрывается стремление к порабощению личности, то происходит смута, могущая прекратиться только с восстановлением твердынь, охраняющих личность.
На поприще более обширном мы видим движение, столкновение народных личностей. Очевидно, что благородная натура европейско-христианских народов влечет их к жизни сообща, вследствие чего международные отношения сильно изменились, особенно в течение последних веков. По единству интересов, по возможности наблюдать за жизнью друг друга не раз являлись у народов общие действия, общие распоряжения; народная личность почувствовала со стороны общества народов посягновения на свои права, на свободу и независимость действий. Народ объявляет другому войну; но несколько других народов вмешивается и требует прекращения войны, выставляя общий интерес, сохранение политического равновесия и т. п. Свобода народной личности явно ограничивается обществом народов, интересами этого общества. Но этого мало, что свобода ограничивается действиями известной народной личности по отношению к другой личности; один народ вмешивается во внутренние дела другого народа, например, протестантские государи считают своим правом и обязанностью поддерживать протестантских подданных других держав против их правительств. Наконец, государства на основании общей пользы и безопасности, на основании политического равновесия начали считать себя вправе с общего согласия делить владения известного государства, как, например, разделены были владения Испании.
Разумеется, что при таком движении международной европейской жизни народная личность должна была протестовать, и необходимо поднимался вопрос о вмешательстве и невмешательстве чужих держав в дела известного государства, вопрос – насколько народная личность должна отказаться от своих прав в пользу общей международной жизни, где должны быть поставлены границы вмешательству. Разумеется, решения таких вопросов нельзя ожидать в скором времени. События конца XVIII и начала XIX века преимущественно содействовали поднятию вопроса о вмешательстве: революционная пропаганда, войны Французской республики и особенно завоевательные стремления империи повели к образованию коалиций, из которых последняя, самая обширная, победив Французскую империю, естественно, сочла себя вправе распорядиться так, чтобы бедствия, испытанные европейскими народами от Франции, больше не повторялись. Таким образом, насилия, какие позволил себе один сильный народ против других, повели к тесному и продолжительному союзу между последними. Общая опасность от Франции поддерживала союз, вела к общим мерам; представители союзных держав в Париже составляли постоянные конференции, совещались о мерах, какие нужно предложить французскому правительству для внутреннего успокоения страны; войска союзников занимали французские крепости: никогда еще Европа не видала подобного явления, подобного вмешательства. Но это вмешательство должно было окончиться; признано было нужным освободить от него Францию, чтобы дать большую силу ее правительству, и теперь рождался вопрос: должен ли вместе с этим кончиться союз, уже шестой год соединявший сильнейшие европейские державы?
Вопрос решался различно этими державами. Еще в 1805 г., предлагая Англии союз для положения пределов усилению военной Французской империи, русский император предлагал вместе с тем после мира заняться трактатом, «который ляжет в основание взаимных отношений европейских государств; здесь дело идет не об осуществлении мечты вечного мира, однако будет что-то похожее, если в этом трактате определятся ясные и точные начала народного права». Не в 1805, а в 1815 году императору Александру удалось осуществить первую часть своего плана – избавить Европу от Наполеона. Но он не забыл и второй части плана и спешил положить начало ее осуществлению в Священном союзе между Россией, Австрией и Пруссией, государи которых соединились «узами неразрывного братства, обязывались оказывать друг другу во всяком случае, во всяком месте взаимную помощь и доброжелательство; подданных же своих считать как бы членами одного семейства и управлять ими в том же духе братства, для охранения веры, правды и мира».
Но русский император не хотел ограничиваться союзом между тремя державами: он хотел призвать к нему все европейские державы и таким образом осуществить то, что в 1805-м было осторожно названо «чем-то похожим на вечный мир». Со стороны короля Прусского, безгранично преданного императору Александру, нельзя было ожидать сопротивления этому плану; но и в Пруссии уже начала высказываться неприязнь к России: в самом начале 1816 года в Петербурге знали, что знаменитый генерал Гнейзенау толковал об опасности, которая грозит Пруссии со стороны России, и о необходимости вовремя принять меры к предотвращению этой опасности. «Прусский кабинет, – писал Гёнц, – к счастию, убедился, что для него нет спасения, кроме тесного союза с Австриею, – союза, который даст этим двум государствам средства сообща располагать силами остальной Германии. Эта система восторжествовала над системою русского союза, который основывался только на временных нуждах и обстоятельствах. Русский союз не имел теперь ни одного приверженца в Пруссии; сам король, хотя лично преданный императору Александру, кажется, оттолкнулся от русского союза безвозвратно».
Гораздо громче толковали в Вене об опасности, которая грозит Австрии от России, ибо в Вене понимали, что пестрая Австрийская монархия вся состоит из слабых мест, и страх был господствующим чувством венского кабинета, особенно страх пред Россией по пламенной связи ее с многочисленными славянскими подданными Австрии. Несмотря на то что император Франц был членом Священного союза, опытные и внимательные дипломаты подмечали в 1816 году, что австрийское правительство ведет с Россией подземную войну. Австрия старалась быть со всеми правительствами в сношениях дружественных или даже очень дружественных. Говорили, что князь Меттерних имел искусство устроить себе из дипломатического корпуса в Вене настоящий мужской сераль; и горе тому дипломату, который не хотел обожать венского Далай-ламу. В этой совершенно физической стране, в этом царстве желудка, как уже тогда отзывались об Австрии, нравственные правила и побуждения считались старомодным явлением, и дипломат, хотевший поддержать свое значение, должен был прежде всего запастись хорошим поваром. Но хорошие обеды не могли заглушить опасений насчет различных народностей, смотрящих в разные стороны: Иллирии был дан титул королевства из страха пред Россией, пред сочувствием к ней славян; католицизм явился готовым и надежным орудием для ослабления этого сочувствия, и началось сильное движение против православия. Много было также хлопот и с итальянцами, которых надобно было онемечить. Недовольные говорили, что в итальянских владениях Австрии надобно было не только жить, но и умирать по-немецки, от немецкой руки, потому что Ломбардия была наводнена медиками, высланными туда из немецких владений Австрии.
Опасаясь более всего России, видя в ее императоре второго Наполеона, только под другими формами, венский кабинет подозрительно смотрел на все планы Александра: в его либеральных стремлениях он видел искание средств приобрести расположение детей революции, людей, ей сочувствующих; в его желании – ввести в Священный союз все, и второстепенные, государства – венский кабинет видел желание приобрести в этих мелких государствах послушные орудия для господства, для управления делами Европы, – желание, тем более опасное для венского кабинета, что эти мелкие державы были самые податливые на либеральные перемены, посредством которых могло усилиться революционное движение, столь страшное для рухлого здания Австрийской империи. Страх сменялся в Вене надеждою, основанною на характере Александра и других благоприятных обстоятельствах.
«Там, где неограниченная власть одного человека решает все, – писал Гёнц, – и где, к довершению затруднений, характер этого человека составляет загадку, расчеты и предположения не имеют твердого основания. Император Александр, несмотря на ревность и энтузиазм, какие он всегда показывал к Великому союзу, из всех государей может всего легче обойтись без него. Он не имеет нужды ни в чьей помощи; если существуют для него опасности, то они по крайней мере не вне его империи, тогда как вся Европа страшится его могущества, и страшится основательно. Великий союз для него только орудие, посредством которого он проводит свое влияние в общих европейских делах, что составляет предмет его честолюбия, – орудие удобное и спокойное, которым он владеет с большою ловкостью; но он сломает его в ту же минуту, когда найдет возможность заменить его чем-нибудь более непосредственным и действительным. Его интерес в сохранении этой системы не похож на интерес Австрии, Пруссии, Англии, интерес необходимости или страха; для него это свободный и рассчитанный интерес, от которого он может отказаться тотчас, как скоро другая система представит ему большие выгоды. Русский император есть единственный государь, который в состоянии осуществить самые обширные предприятия. Он в челе единственной в Европе армии, которою можно располагать. Ничто не устоит перед первым ударом этой армии. Никакие препятствия, останавливающие других государей, для него не существуют, как, например, конституционные формы, общественное мнение и проч. Задуманное нынче он может осуществить завтра. Говорят, что он непроницаем, и, однако, все позволяют себе судить о его намерениях. Он чрезвычайно дорожит добрым о себе мнением, быть может, более, чем собственно так называемою славою. Названия умиротворителя, покровителя слабых, восстановителя своей империи имеют для него более прелести, чем название завоевателя. Религиозное чувство, в котором нет никакого притворства, с некоторого времени сильно владеет его душою и подчиняет себе все другие чувства. Государь, в которомдобро и зло перемешаны таким удивительным образом, должен необходимо подавать повод к большим подозрениям, и безрассудно было бы утверждать, как он поступит в том или другом случае. Но когда я его вижу в отношениях данных и положительных, то, мне кажется, не будет безрассудным предположить, что он сделает и чего не сделает. Он смотрит на себя как на основателя европейской федерации и хотел бы, чтобы на него смотрели как на ее вождя. В продолжение двух лет он не написал ни одного мемуара, ни одной дипломатической бумаги, где бы эта система не была представлена славою века и спасением мира. Возможно ли, чтоб после того пред общественным мнением, которое он уважает и боится, пред религиею, которую он чтит, он бросился в предприятия несправедливые для разрушения дела, от которого он ждет себе бессмертия! Если многие думают, что все это с его стороны комедия, то я попрошу доказательств. Но положим, что в идеях и чувствах императора произойдет внезапная перемена: будет ли он в состоянии осуществить свои честолюбивые планы? Россия страдает общею всем европейским государствам болезнию – финансовым расстройством. Пока Австрия и Пруссия в союзе, Россия не может предаться одиночным предприятиям. Вначале она не встретит больших препятствий; но мало-помалу противодействие организуется, вся Германия подвигнется на помощь Австрии и Пруссии, и равновесие в силах установится, не считая содействия Англии. России останется союз с Францией, союз возможный и самый страшный; но оба эти государства не в состоянии причинить вред, пока не будет разорвана срединная линия, состоящая из государств, которые желают мира».
В виду конгресса, на котором должен был решиться вопрос о характере союза между европейскими державами, Меттерних построил свою систему, которая состояла в следующем: «Наполеон поставил свой трон на революции, не сокрушивши ее. Когда этот трон разрушился, революция снова появилась; с знаменитой эпохи „Ста дней“ начинается расширение революционных принципов, более или менее распространенных в каждом государстве. Явится ли новый владыка, которого призовут для удержания этого зла? Нет, прежде всего возможность этой роли не находится в характере и принципах ни одного из царствующих государей, настолько сильных, чтобы принять ее на себя. Состояние Европы требует власти: при Наполеоне эта власть была деспотическая. Если не хотят, чтобы она стала демократическою, то она должна быть сохранена и поддержана четырьмя великими державами, поставленными в челе европейской системы; с течением времени к ним можно присоединить пятую державу – Францию. Пусть зависть называет эту систему аристократическою: слова не значат ничего, лишь бы достигались благие цели и зло было сдержано; впрочем, для того чтоб эта система продолжалась и имела влияние, которое одно может сделать ее полезною, необходимосогласие в принципах и доктринах, отречение от частных видов и соперничеств и согласие относительно исполнения». Последними словами Меттерних намекал на русского императора, которого принципы рознились от принципов венского кабинета. Зато последний был согласен с охранительною политикой торийского кабинета в Англии.
Конгресс собрался в Ахене осенью 1818 года. Различие в принципах немедленно обнаружилось на конференциях: Англия и Австрия настаивали на необходимости продолжения четверного союза (Россия, Англия, Австрия и Пруссия); Россия настаивала на союзе общем, европейском, или Великом союзе, братском и христианском. Обнаружилась тесная связь между кабинетами лондонским и венским; главною причиной этой связи была ревность, страх, возбужденный колоссальным величием России, вмшательством ее кабинета во все европейские отношения. Было замечено с русской стороны, что Англия и Австрия стремились: во-первых, чтобы держать Францию в продолжительном несовершеннолетии; во-вторых, следовать той же политике и относительно Испании; в-третьих, держать Нидерланды и Португалию в зависимости от Англии; в-четвертых, государства итальянские держать в такой же зависимости от Австрии; в-пятых, вооружить германскую конфедерацию для удержания России в завоевательных замыслах; в-шестых, установить прямые отношения между Германией и Оттоманской Портой с целью действовать на Россию, не нарушая, по-видимому, четверного союза; в-седьмых, вмешиваться в отношения северных государств; в-восьмых, вмешиваться также в отношения России к Персии и Турции. Австрийский и английский уполномоченные Меттерних и Касльри со своей стороны внимательно следили на конгрессе за императором Александром. Результаты наблюдений оказались успокоительного свойства, и Касльри писал Ливерпулю: «Мне кажется, русский император думает, что между Великобританией и Австриею существует тайное соглашение; но, несмотря на все эти идеи, действующие на его несколько подозрительный ум, я убежден, что он намерен преследовать мирную политику; он стремится к власти, но у него нет желания переменить союзников или дать революционному духу в Европе более движения; напротив, он расположен наблюдать за ним». Даже подозрительность Меттерниха успокоилась насчет властолюбивых замыслов самого императора Александра; но так как Россия и завоевательная политика были понятия нераздельные в уме знаменитого придворного и государственного канцлера, то он направил свою подозрительность на действия русских агентов; он объявил Касльри, что личный характер императора представляет для Европы единственную гарантию против опасности от русского могущества.
Генц загремел восторженными похвалами императору Александру: «Все беспокойства исчезли… Император Александр изложил свои чувства и свои политические виды с удивительною искренностью, ясностью и точностью. Узнали, что он не имел никогда ни малейшего расположения сближаться с Францией насчет своих тесных сношений с союзниками; что он считает преступлением, изменою против Европы одну мысль о разрушении четверного союза; что он желает сохранения мира, договоров, поддержания системы, которой три года следуют великие державы. Эти речи, подкрепляемые выражениями самого благородного энтузиазма к общему благу, нравственности, религии, чести, ко всему, что есть самого возвышенного в делах человеческих, произвели впечатление самое быстрое и могущественное. Исчезли боязнь и недоумение. Поздравляли себя с тем, что не отказались от конгресса, который приносил величайшую пользу Европе уже тем одним, что повел к этим объяснениям. Император Александр остался верен своим заявлениям. Его поведение во время конференции отличалось мудростию, добросовестностью, умеренностью. История Ахенского конгресса сосредоточивается около его августейшей особы; он был его двигателем, направителем, героем».
Главное дело, для которого собрался Ахенский конгресс, – решение вопроса об отношении союзных держав к Франции – кончилось согласно желанию русского императора: Франция была освобождена от опеки четырех держав и ее государственная область была очищена от иностранных войск. Россия домогалась этого как средства усилить нравственно королевскую власть во Франции, усилить министерство Ришелье, сделать его популярным, ибо старанию герцога, его влиянию на русского императора должны были приписать освобождение Франции из-под опеки; с поднятием значения Ришелье, естественно, усиливалась связь Франции с Россией; не говорим уже о личном расположении императора Александра к французскому народу, о желании приобрести благодарность и привязанность любимого народа. Со стороны Англии не могло быть противодействия: вмешательство во внутренние дела Франции скрепляло неприятный для Англии союз континентальных держав, который император русский старался все более и более распространить и усилить и в котором преобладание России было ощутительно; очень было важно ослабить этот союз отстранением главной причины общего действия; укрепление же русского влияния во Франции, при тамошних отношениях и движениях, не обещавших прочности кабинету, еще не могло считаться верным. Меттерних представлял на вид рановременность очищения Франции от союзных войск при усилении революционного духа; но его одиночное сопротивление не могло помешать делу; Пруссия держалась России.