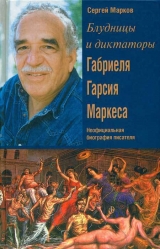
Текст книги "Блудницы и диктаторы Габриеля Гарсия Маркеса. Неофициальная биография писателя"
Автор книги: Сергей Марков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 37 страниц)
45
После московского фестиваля друзья разъехались: Мендоса – в Польшу, Маркес – в Венгрию, куда отправился в группе политических обозревателей крупнейших газет Европы. (Опять стоит отметить пробивную способность нашего героя – обманным путём получив визу в СССР и побывав на фестивале, теперь он сумел оказаться в группе ведущих журналистов, официально приглашённых в Венгрию.)
В вагоне-ресторане разговорились с солидным журналистом, представившимся Морисом Мейером из Бельгии. Мейер прошёл три войны, начиная с гражданской в Испании, где выпивал с Хемингуэем, говорил по-немецки, по-английски, по-испански, знал положение дел в Венгрии. Он признался, что Габриель из всей компании ему понравился больше всего, и предложил держаться вместе. Маркес не возражал и по журналистской привычке принялся расспрашивать бывалого коллегу. Мейер за чаем с коньяком высказал опасение, что командировка им предстоит нелёгкая, шагу не дадут ступить без присмотра, ничего толком не покажут, потому как «ничего не ясно».
Началось с того, рассказывал Маркесу попутчик, что несколько лет назад в Москве сочли жизнь в братской социалистической Венгрии, которую не так давно освободили от немецкого фашизма, мёдом. Мол, неправильный там стали строить социализм. Дали команду из Кремля пятилетку выполнить максимум за три года, чтобы ускоренными темпами превратить Венгрию из отсталой аграрной страны в передовую, индустриальную. И по примеру СССР отнимали у крестьян землю, гнали в города, пытаясь насильно обратить в рабочих, потому как никакой рабочей квалификации у потомственных крестьян не могло быть. Точно так же, как когда-то в Москве и Ленинграде, стали «уплотнять» городские квартиры, заселять по несколько семей, по несколько чужих человек в комнаты… Маркес поинтересовался, не протестовали ли венгры. Журналист из Бельгии ответил, что выступления были, но недовольных арестовывали. Бывший секретарь ЦК Компартии Имре Надь обратился за помощью к Франции, Германии, США, а люди стали выступать против оккупации Венгрии русскими, и советская армия ушла. Маркес, вспоминая рослых крепких парней у Мавзолея Ленина и Сталина, да и по всему СССР, начиная с границы, усомнился в том, что армия просто так взяла и ушла, учитывая хотя бы то, сколько крови русскими было пролито в Венгрии во время недавней войны с немцами. Мейер согласился, что не просто, это была хитрость, так поступают в политике – нечто подобное было в Испании, даже в Германии в своё время… Стратегия. И тактика. Короче, сказал он, решено было сделать так, чтобы венгры сами друг с другом разобрались, а потом уж призвали их, спасителей. Так что не советские спецслужбы, не венгерская тайная полиция, уверял бельгийский журналист, а военные и обычные полицейские раздавали студентам и рабочим оружие и верёвки, вешали на фонарях. И тогда Кадар обратился за помощью к русским… А вообще-то Венгрия – замечательная страна. Раньше они туда ездили в гастрономические туры: спаржа по-венгерски, судачок с пёрлёлтом из раков, рыбный суп халасле, гуйяш под токайское вино, тушёное в винном сусле мясо с копчёной ветчинкой, лучком, душицей, грибами, замечательной их паприкой… Но Маркеса гастрономия интересовала меньше, он хотел разобраться, что произошло в Будапеште. Порядок вернувшиеся советские войска навели за несколько дней, рассказывал Мейер, по будапештской брусчатке текли не ручьи, а реки крови…
Первым делом в Будапеште наш герой приобрёл на толкучке (распродавались по дешёвке товары из разграбленных магазинов) прекрасную австрийскую пишущую машинку и приличный плащ. Вообще Будапешт поначалу ему понравился. Начиналась тёплая солнечная осень со звёздными ночами, с лёгкой дымкой по утрам над Дунаем, сквозь которую проглядывала покрытая зеленью, уже чуть тронутая золотисто-пурпурными штрихами Буда, и в каком-то неясном, томном оцепенении пребывал Пешт. И не хотелось верить в то, о чём тут и там, боязливо озираясь, рассказывали мадьяры западным журналистам.
– На фонарях вот этой улицы Нэпкёстаршашак, на всём её протяжении, до самой площади Героев вешали, – показывали жители Будапешта. – И родным не давали снимать тела – стреляли, а то, бывало, и вздёргивали рядом с мужем, братом, сыном…
Но перенесёмся из Будапешта-57 в Москву-77. Дмитрий Бальтерманц, выдающийся советский фотохудожник, тогда заведующий отделом фотоиллюстраций журнала «Огонёк», в котором автор этих строк начинал разъездным корреспондентом, первым делом порекомендовал мне, ещё студенту факультета журналистики, засесть в библиотеке за подшивки, чтобы понимать, «куда пришёл трудиться». И обратил моё особенное внимание на специальные выпуски нескольких лет, в том числе 1941-го, 1945-го, 1953-го (номер, посвящённый похоронам Сталина), 1956-го (посвящённый событиям в Венгрии)… Листая журналы с фоторепортажами из Будапешта, я был изумлён. Яне предполагал, что можно так снимать, что в официозном нашем журнале могли такое – трое мужчин в шляпах и галстуках деловито вешают на фонаре четвёртого, обнажённый труп чекиста в луже крови с воткнутым в глаз ножом, на брусчатке десятки казнённых… – публиковать. Бальтерманц заверил, что всё – правда, нет ни единой постановочной фотографии. Потом их перепечатывали в других странах. Нельзя исключить, что и Маркес их видел и несомненно читал репортажи о венгерских событиях с «той» и «этой» стороны.
Главным борцом с коммунизмом и реформатором в 1956 году в Венгрии стал Имре Надь. В Первую мировую он воевал в составе австро-венгерской армии, в 1916-м попал в плен, в 1917-м вступил в Российскую коммунистическую партию (большевиков), в годы Гражданской войны сражался в Красной Армии, был принят на службу в ОГПУ. Был профессиональным стукачом – сообщал органам о деятельности соотечественников-венгров, нашедших убежище в Советском Союзе, занимался «чисткой» Коминтерна, когда были репрессированы Бела Кун и ряд других венгерских коммунистов. С1941 до 1944 года работал на московской радиостанции Кошут-радио, которая вела трансляцию на венгерском для жителей Венгрии, бывшей союзницей Германии. Вернувшись после войны на родину, Надь занимал пост министра внутренних дел, проводил зачистку Венгрии от «буржуазных элементов», в лагерях оказалось огромное количество высших военных и гражданских чинов страны. (Летом 1989 года председатель КГБ Крючков передал генеральному секретарю ЦК КПСС Горбачёву архивные документы со своей сопроводительной запиской: «Вокруг Надя создаётся ореол мученика и бессребреника, исключительно честного и принципиального человека. Особый акцент во всей шумихе вокруг имени Надя делается на то, что он был „последовательным борцом со сталинизмом“, „сторонником демократии и коренного обновления социализма“, хотя документы доказывают совсем обратное».) Тем временем произошло несколько важнейших событий. В СССР умер Сталин, началось развенчание культа личности. Венгры требовали такого же расчёта с прошлым, который начал Хрущёв знаменитым антисталинским докладом на XX съезде Компартии. Надь спровоцировал гражданскую войну – выйдя из Компартии и объявив её вне закона, распустив органы госбезопасности и потребовав немедленного вывода советских войск. Фактически сразу после этого началась бойня – коммунисты вступили в схватку с «националистами» и бывшими хортистами. По Будапешту прокатилась волна самосудных казней. Были введены советские части с приказом огня не открывать. Начались убийства советских военнослужащих и членов их семей (были убиты более 400 человек). Пойдя навстречу требованиям Надя, 28 октября 1956 советские войска были выведены из Будапешта. На следующий же день на площади Республики толпа расправилась с сотрудниками госбезопасности и горкома партии: 26 человек во главе с секретарем горкома Имре Мезе были повешены на фонарных столбах головой вниз. СССР вновь ввёл войска. Янош Кадар (министр в кабинете Надя), клявшийся, что «ляжет под первый русский танк», по установке Хрущёва из Москвы занял посты премьер-министра и лидера Венгерской социалистической рабочей партии.
В результате событий 1956 года в Венгрии погибло 2740 человек, 25000 было репрессировано, 200 000 эмигрировали из страны. Принято было считать, что их всех – 2740 человек – уничтожили «советские оккупанты». Хотя на самом деле это не так: там шла настоящая гражданская война. Обратим внимание на то, что за шесть лет до событий в Венгрии английские части были брошены на подавление коммунистического восстания в Малайзии, и только за первый год боёв там было уничтожено больше 40 000 человек. За два года до событий в Венгрии французская армия начала войну в Алжире, в ходе которой погиб почти миллион алжирцев. И никто не обвинил французов в жестокости! Советские же войска за четверо суток смогли взять под контроль основные города и объекты Венгрии, уничтожив 2000 мятежников, и заслужили прозвище «кровавых палачей»! Потери советской стороны составили 720 убитыми, 1540 ранеными, 51 пропал без вести.
Две недели Маркес провёл в Венгрии. Нередко ему вместе с опытным конспиратором Мейером удавалось отрываться от сопровождающих, переводчиков в штатском, коих бывало временами до полутора десятков человек на девять журналистов делегации.
Однако в написанном им после поездки очерке «Я побывал в Венгрии» (1957) нет и попытки разобраться в сути событий, есть лишь яркое (как всё, выходившее из-под его пера) описание, констатация. Впрочем, должно быть, наш герой и не ставил перед собой задачу досконально проанализировать всё, что произошло в Венгрии, тем более что и по сей день историками и политиками даны ответы далеко не на все вопросы.
«Десять месяцев спустя после событий, которые потрясли мир, – писал Маркес, – один из самых красивых городов мира – Будапешт остаётся полуразрушенным. Многие километры трамвайных путей не восстановлены. Толпы плохо одетых людей, подавленных, озлобленных, мрачных, часами и даже ночами напролёт выстаивают в нескончаемых очередях, чтобы купить предметы первой необходимости. Многие магазины были разорены, разграблены и разрушены и теперь стоят в строительных лесах. Несмотря на ужасные репортажи в западной прессе, я всё-таки не верил, что город пострадал так сильно. Уцелело по сути лишь несколько самых больших зданий. Как я узнал, в них укрывались венгры, которые четыре ночи и четыре дня вели бой против русских танков. Тогда в Венгрию вошло восемьсот тысяч русских солдат… Однако венгры оказывали героическое сопротивление, таких боёв здесь не было даже во время Второй мировой войны. Дети забирались на танки и бросали внутрь бутылки с „коктейлем Молотова“ и просто горящим бензином или керосином. Венгры, которых я видел на улицах, в трамваях, в магазинах, в кафе, на бульварах, на набережных, которые в мирное время не уступят парижским, в парках острова Маргарита, не верят правительству, а также его гостям… На улицах, в скверах, у гостиниц и днём огромное количество проституток, от зрелых, даже пожилых женщин до совсем молодых девушек, почти девочек, которые, как и положено, берут вперёд, цена – пять форинтов, то есть полдоллара, но можно сторговаться и за меньшие деньги… Полиция не в состоянии контролировать положение в городе, люди загнаны, как звери, живут без всяких надежд на будущее… Никто не желает работать на урановых рудниках в СССР… Великое множество судов Линча, самосуда – стихийной расправы над агентами тайной полиции, что привело к ликвидации сорока двух процентов её личного состава. <…> Члены университетского объединения студентов-марксистов, продолжающих оставаться марксистами, но выступающих против Яноша Кадара, свою позицию объяснили нам так: „Мы изучали Маркса и Энгельса по первоисточникам и являемся марксистами. Но мы принимали активное, в том числе и боевое, участие в прошлогоднем октябрьском восстании, потому что одно дело – истинный марксизм и совершенно иное – русская оккупация и политика террора“… Заборы, стены домов, постаменты памятников заклеены листовками, в которых, видимо, даётся верная характеристика ситуации в Венгрии. Цитирую лишь цензурные: „Кадар – русская легавая!“, „Кадар – убийца народа!“, „На виселицу кровавого палача Кадара!“»…
Вернувшись в Париж, Маркес вскоре встретился с Тачией, приехавшей из Мадрида, – в кафе на бульваре Сен-Мишель. Они поговорили, решили, что им надо разойтись по-хорошему, по-французски, пошли в ближайшую дешёвую гостиницу, переспали и расстались навсегда. («После разрыва с Габриелем, – вспоминала Тачия, – я три года не могла прийти в себя – истерзанная, озлобленная, одинокая…») Плинио звонил из Каракаса, спрашивал, что случилось, уж не поездка ли в СССР сыграла роль. Маркес отвечал, что просто не может больше быть мосо-де-эстокес, слугой, оруженосцем матадора, который подаёт мулеты и шпаги. И ещё сказал, что соскучился по их родной Латинской Америке.
Всю осень Маркес отписывался, как говорят журналисты, за летние путешествия, надеясь отдать долги Джоан, мадам Лакруа, Тачии… Очерки, которые он тогда написал в Париже, составят книгу «О путешествии по социалистическим странам». Они интересны, динамичны, в них много острых наблюдений, мыслей. Позже Маркес включал эти очерки в собрания сочинений, и через десятилетия не отрекаясь от написанного (что случается далеко не со всеми писателями, начинавшими с журналистики).
Но не сразу Маркесу удалось опубликовать материалы. Хотя сейчас трудно понять, чем и кому были неугодны те очерки с «говорящими» заголовками: «„Железный занавес“ – это полосатый, красно-белый шлагбаум». Или «Для чешки нейлоновые чулки – роскошь». Или «Экспроприируемые встречаются, чтобы потолковать о напастях». Или «Берлин – это абсурд». В том же духе называли статьи о «загнивающем» Западе и наши журналисты-международники «Правды», «Известий» (пустьс другой стороны баррикад).
В ноябре 1957 года усердиями Плинио в венесуэльском журнале «Моменто» в сокращённом виде, но всё же были опубликованы репортажи «Я был в России» и «Я посетил Венгрию». Неожиданно и гонорары за них оказались приличными, так что Маркес частично рассчитался с долгами и, надеясь и на гонорары из газеты «Индепендьенте», решив «подтянуть английский», укатил в Лондон.
Но в «Индепендьенте» очерки не были опубликованы. Эдуардо Саламея, журналист почти коммунистических убеждений, прочитав написанное другом Габо, счёл, что публикация не только не послужит делу укрепления левых сил Колумбии, но нанесёт по ним, и без того слабым, удар.
46
Поначалу Лондон восхитил. В первый, солнечный, тёплый день, растерявшись среди непривычных указателей и огромных, явно для плохо соображающих иностранцев надписей на асфальте «LOOK RIGHT», едва не угодив под огромный красный двухэтажный омнибус, он взял такси, называемое кэбом. С тем дабы солидному, прилично оплачиваемому журналисту-международнику с ветерком прокатиться по столице великой империи, над которой «никогда не заходило солнце». Разговориться с кэбменом – как с любым, практически таксистом в Риме, Париже, Женеве или Москве, – не удалось.
Вечером, невкусно поужинав на площади Сохо, Маркес понял, что долго здесь не протянет и что нигде не чувствовал себя таким одиноким и ненужным.
В тот вечер он прочитал в газете большой очерк о событиях на Кубе. О том, что вначале повстанцы не имели достаточной силы и не представляли опасности режиму Батисты, хотя и проводили отдельные операции, атакуя полицейские участки. Но данное Фиделем Кастро обещание земельной реформы и раздачи земли крестьянам обеспечило поддержку народа, движение стало наращивать силу, солдаты Батисты переходили на сторону Фиделя. Партизанские отряды были преобразованы в Повстанческую армию. По воспоминаниям соратников, точным выстрелом из снайперской винтовки Фидель подавал сигнал к бою и нередко «этот высокородный выходец из богатой семьи, интеллигент-юрист с руками пианиста принимал участие в яростных рукопашных схватках»…
В дальнейшем, а пробыл Маркес в Лондоне больше месяца, чувства одиночества и ненужности усиливались и обострялись. Поселился он в четырёхметровой, без окна, каморке самого дешёвого отеля Южного Кенсингтона, рядом с Зоологическим, Ботаническим, Геологическим и Минералогическим музеями, в которые поначалу даже захаживал. На весь так называемый отель имелся единственный туалет с умывальником. У умывальника, как принято в Британии, было два крана – один для горячей, другой для холодной воды. Заткнув пробкой сливное отверстие, надо было наполнить раковину, добавить в смешанную воду мыла и умываться, не думая о том, кто и в каких целях использовал раковину до тебя. Но чаще вода отсутствовала или из обоих кранов хлестала ледяная или кипяток. Денег не было не то что на авиабилет, но даже на ботинки, в которых возникла необходимость: от левого из той единственной пары, в которой Маркес прибыл в Лондон, ещё в первый день в Британском музее отвалилась подошва, и её приходилось приклеивать, а когда денег не стало и на клей, прикручивать проволокой.
Неоднократно на улице его останавливала полиция, но проверив паспорт, отпускала. Однажды, когда он присел на Пикадилли, чтобы замотать на башмаке проволоку, немолодая женщина подала милостыню – три шиллинга. Улыбнувшись ей в ответ, он спросил по-английски, откуда она. Оказалось, эмигрантка из России. Он поинтересовался, не знакома ли она с парикмахером Иосифом Пуришкевичем, который брил Сталина, но женщина улыбнулась, как улыбаются душевнобольным, и ответила: «таких не бывает».
С тоской он вспоминал завтраки мадам Лакруа, ланчи Джоан, поздние баскские ужины Тачии, перетекавшие в завтраки, и особенно советские фестивальные обеды с борщом, котлетами, севрюгой, красной и чёрной икрой. Подсчитав оставшиеся фунты и пенсы, он понял, что даже если станет отказывать себе во всём, то дотянет лишь до Нового года. Чтобы отвлечься от безрадостных мыслей и не всё время думать о еде, он погружался с Алисой «в страну чудес». Читал Вирджинию Вульф, проза которой здесь, на её родном Альбионе и родном английском языке, особенно отличается, как потом вспоминал, «фантастическим, невероятно острым ощущением мира и всех вещей, наполняющих его, конкретных, реальных секунд, минут, часов, дней, но вместе с тем – и сохранённый слепок целой вечности». Ему нравились её афоризмы. «Большие сообщества людей – существа невменяемые». «Женщина веками играла роль зеркала, наделённого волшебным и обманчивым свойством: отражённая в нём фигура мужчины была вдвое больше натуральной величины». «Самая сильная позиция – это позиция умершего среди живых». «У каждого человека есть своё прошлое, укрытое в нём, как страницы книги, известной только ему; а его друзья судят лишь по заглавию». Но с особым, садомазохистским каким-то наслаждением он перечитывал теперь мысль о писательстве и писателях, понимая, что сам не состоялся: «Я заработала первой рецензией один фунт десять шиллингов и шесть пенсов и на эти деньги купила персидского кота. А потом меня разобрало честолюбие: кот это, конечно, очень хорошо. Но кота мне мало. Я хочу автомобиль. Вот так я и стала романисткой».
Бродя под дождём, Маркес, быть может, замечал, как верно описывал Лондон Диккенс. В районе Уимблдона он увидел двух молоденьких, лет по девятнадцати, девушек, с виду студенток. «А ведь недавно, несколько лет назад и я был студентом», – говорил себе Маркес, увязываясь за ними, просто так, безо всякой конкретной цели. Почувствовав это, девушки стали оглядываться и хихикать. Одна из них, повыше, большеглазая тёмная шатенка в длинном чёрном приталенном пальто и длинном красном шарфе, напоминала Тачию. Девушки зашли в кафе, он сделал вид, что хочет купить газету в киоске на углу, послонялся окрест, подождал, пока они выйдут. Вновь пошёл за ними. Та, что повыше, остановилась у перехода, оглянулась и холодно осведомилась, какие у него проблемы. Изводило его отсутствие в Лондоне крепкого табака: последние деньги уплывали на французские сигареты «Голуаз».
Но, несмотря на невзгоды и мытарства (в этом весь молодой Маркес – неимоверная сила воли!), он писал и много. «Большая удача, если ты оказался в городе, где по непонятным причинам пишется особенно хорошо… где можно закрыться в номере и воспарить в табачном дыму… За месяц я написал там почти все рассказы „Великой Мамы“».
Написал он там и яркий, с английским юмором очерк об англичанах. «Приехав в Лондон, я поначалу думал, что англичане на улицах разговаривают сами с собой. Потом я понял, что это они извиняются. В субботу, когда весь город стекается на Пикадилли-Серкус, шагу невозможно ступить, чтобы не столкнуться с кем-нибудь. Посему на улицах стоит гул, все жужжат: „Sorry“. Из-за тумана об англичанах я вообще не имею представления – знаю только их голоса… Наконец в минувшую субботу – в свете солнца – я впервые их увидел. Они все что-то ели, шагая по улицам».
Слабеющий, с почти уже помутившимся от голода и отчаяния рассудком, он часами лежал в затхлой холодной каморке, смотрел в потолок и ни о чём не думал, не мечтал (до Лондона мечтал всегда, сколько себя помнил). Впервые со всей отчётливостью он понял, что ни сам он, уже немолодой, некрасивый, неталантливый, нищий, ни опусы его бредовые никому не нужны. «Soledad, Соледад… – крутилось у него в голове. – Одиночество…»
За неделю до Рождества, когда Лондон искрился, сверкал, переливался, все покупали подарки, украшали окна, двери, фасады домов, смеялись, танцевали, целовались, звучала всюду музыка, он тоже выбирал (как потом признавался): с какого моста прыгнуть? С Westminster Bridge, London Bridge, Tower Bridge или всё-таки с Waterloo Bridge? Последнему, мосту Ватерлоо, он отдавал предпочтение. Возможно, в память о временах, когда смотрел кинофильмы в Риме, учился кинематографии, мечтал быть сценаристом, блистать, покорять. Впрочем, влёк и Вестминстерский мост, с которого в позапрошлом году бросился поэт-гурман Роджестон. Практически он уже принял решение и определил для себя день и час. Но, когда накануне в полузабытьи лежал в каморке (из которой уже выселяли за неуплату) и представлял, как разлетятся по ветру и поплывут по серо-бурой воде Темзы его жалкие исписанные листочки, в дверь постучали:
– The telegram!
Взяв телеграмму в руки и прочитав, Маркес подумал, что это мираж от голода. Карлос Рамирес Макгрегор, владелец известного венесуэльского иллюстрированного журнала «Эль Моменто», уступая настойчивым просьбам своего ответственного редактора Плинио Мендосы, мнению которого «не было оснований не доверять», приглашал «сеньора Гарсия Маркеса на работу редактором-корреспондентом». Прилагался и авиабилет.








