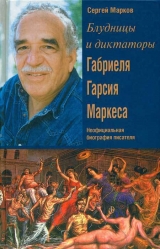
Текст книги "Блудницы и диктаторы Габриеля Гарсия Маркеса. Неофициальная биография писателя"
Автор книги: Сергей Марков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 37 страниц)
43
Почти через тридцать лет после того Московского фестиваля, но ещё в советскую эпоху, вскоре после присуждения нашему герою Нобелевской премии, в Москве побывала доминиканка-коммунистка Мину Таварес Мирабаль. Она собирала материал для диссертации на тему взаимоотношений писателей Латинской Америки с марксистско-ленинской идеологией и страной, в которой эта идеология «выступала в роли ведущей и единственной религии, подчиняя себе все прочие». То есть СССР. Автору этих строк довелось сопровождать латиноамериканку, впервые оказавшуюся в Москве, как в 1957 году и наш герой, повторившую его путь – через ФРГ и ГДР – и думается, будет уместно вспомнить ту работу над диссертацией, основанной на непосредственных впечатлениях.
– …Я много читала о том, что в СССР есть всё, – говорила Таварес Мирабаль (которую сопровождающие товарищи в Москве упорно называли «товарищ Мирабаль») после того, как я показал ей, остановившейся в «Национале», чисто советскую гостиницу «Турист», в которой жили Маркес с Мендосой, и привёл на огромную территорию ВДНХ. – Читала статьи, очерки, интервью писателей и журналистов из разных стран, от Канады и Штатов до Австралии, от Швеции до Японии. И вот теперь, увидев страну, как иностранка, уроженка Карибского бассейна, могу сказать, что взгляд Маркеса отличается точностью и, главное, непредвзятостью. Чего не скажешь о большинстве написанного, порой вызывающего рвотные эффекты. Я убедилась в том, что Маркес ехал сюда не как подавляющее большинство западных авторов, то есть с уже заранее утвердившимся мнением, намереваясь лишь найти ему подтверждение, как бы проиллюстрировать, подогнать под готовую схему. Он ехал с готовностью видеть, слышать, открывать для себя.
– Может, потому что он Маркес, – сказал я.
– Да, и взгляд на СССР у него был именно гарсия-маркесовский, я поняла, в том числе и когда ты меня кормил замечательными резиновыми сосисками и поил приторным напитком типа кофе в гостинице «Турист». И теперь меня не удивляет, что он много общего узрел в советской и колумбийской действительности. У него Советский Союз – этакое огромное Макондо, о котором он только начинал тогда писать. Это характерно для его пространств, – рассуждала Мину, с восторженным изумлением разглядывая золочёные скульптуры фонтана ВДНХ «Дружба народов». – Во-первых, место, оторванное, отдалённое от остального мира. Во-вторых, где всё преувеличенное, гипертрофированное и фантасмагорическое. Он вроде бы как постоянно соотносит реальность с образами и символами этой действительности, сопрягает с прошлым, настоящим и будущим этой жизни. Провинциальность, отсталость – и на этом фоне колоссальные памятники и плакаты с изображением вождей, гениальные физкультурники, женщины с вёслами, рабочие, колхозницы… Он мне говорил, что рассказ «Похороны Великой Мамы» написан под впечатлением от СССР. Там, в рассказе, самые пышные похороны в истории человечества, самые большие помойные свалки, знамёна, портреты, торговля оружием… Я поняла, что Фестиваль молодёжи для Маркеса стал моментом истины. Свободным вздохом и знаком конца эпохи Сталина… Заглавный герой «Осени Патриарха» постоянно перерождается, а в момент его политической смерти начинается карнавал, такой, каким я себе представляю тот ваш молодёжный фестиваль с его тысячами голубей, разноцветных воздушных шаров, салютом… И толпа таскает по мостовым труп вождя, ликуя… Вообще в творчестве Маркеса много аллюзий с советскими впечатлениями. Он просит своих латиноамериканских читателей не удивляться, если кто-нибудь расскажет, что изобрёл холодильник. Или сейчас вот – собирает компьютер, как мне похвастал молодой человек на одной из встреч. А в начале «Ста лет одиночества» один из главных героев в Макондо пытается с помощью магнита извлечь из-под земли золото и утверждает, что лёд – величайшее изобретение человечества. Можно сказать, в романе тот же сюжет, что в очерке об СССР: провинциальный гений открывает Америку и изобретает велосипед… Кстати, он мечтал провести ночь в том номере «Националя», где я живу, – там после переезда вашего правительства из Петербурга остановился Ленин. Полежать в его постели, посидеть за письменным столом, поговорить по антикварному, с рычажками, телефону, поглядеть из окна на Кремль… Но то ли номер был занят, то ли денег не было. Скорее второе. Знаешь, сколько я плачу за ночь в ленинском номере?
– Не пугай! А зачем Маркесу надо было лечь в постель к нашему Ильичу?
– Хотел же он встретиться с генералом Франко, со многими великими…
– Встретиться. А тут лечь в постель, где спал усопший вождь. Что-то в этом…
– Для Габо с его воображением нет большой разницы, я тебя уверяю! Скажи, а как в СССР восприняли «Осень Патриарха»?
– Не с таким восторгом, как «Сто лет». Но хорошо. А что?
– У нас в Латинской Америке отношение к «Осени» было неоднозначное. Многие критики сочли роман вычурно барочным и перегруженным гротеском.
– А у нас, я бы сказал, наоборот. Но ведь не только со Сталина он писал диктатора.
– Конечно, и с наших родных, которых мог рисовать практически с натуры: Трухильо, казнившего в Санто-Доминго моих родителей, венесуэльца Хуана-Висенте Гомеса, мексиканца Санта Ана, колумбийца Пинильи, кубинца Мачадо…
– И другого кубинца – своего друга Фиделя…
– Я этого не говорила! Но вообще Маркесу интересны люди, обладающие абсолютной властью. Он писал о де Голле, папе римском… А к вашему Сталину у него был интерес особый. Ещё в сороковых годах он опубликовал очерк об Иосифе Пуришкевиче…
– Ты не путаешь, Мину? Отдаёт глупейшими американскими фильмами о нашей жизни!
– Точно тебе говорю – очерк об Иосифе Пуришкевиче! В сороковых он жил в Англии, куда эмигрировал. А до 1917 года был в ссылке в Сибири, где ему доводилось брить Сталина. Этот парикмахер, как писал Маркес, держал бритву на горле истории! А ещё впечатления о той поездке в СССР вошли в роман «Генерал в своём лабиринте» о вышедшем в отставку и отправившемся умирать Боливаре. Один из самых грустных и, по-моему, реакционных романов.
– О легендарном герое Латинской Америки?
– Положившем жизнь за освобождение от колониального господства, а к концу жизни пришедшем к выводу, что тот, кто служит революции, пытается вспахать море.
– Но почему латиноамериканские критики сочли «Осень Патриарха» неправдоподобной?
– Теперь я понимаю, что многие вещи там просто взяты из вашей действительности. Имя Сталина всюду – и станции за Полярным кругом, и на площадях, и даже на обёрточной бумаге для продуктов! А это типично ваше, советское, в Латинской Америке такого нет.
– Сомневаюсь, чтобы в портрет Сталина селёдку заворачивали.
– Маркес не мог этого придумать. Ещё он пишет в очерке, что, с одной стороны, Сталин был вездесущ и чуть ли не присутствовал в супружеских постелях, а с другой – его мало кто видел при жизни. Герой в «Осени Патриарха» тоже повторяет фразу, что никто из нас Его не видел. И так же, как в очерке, в романе высказывается сомнение в том, реален ли, существует ли на самом деле диктатор. А ещё вот что важно. В том давнем очерке Маркес уже применяет метод, который впоследствии будет доводить до совершенства. Он написал, что не нашёл в Советском Союзе ничего, что не было бы предсказано Францем Кафкой. То есть сопрягает жизнь и литературу, причём жизнь у него порой следует за литературой, имитирует её, а не наоборот. Помнишь, в романе «Сто лет одиночества» род Буэндиа живёт с тем, чтобы в канун гибели Макондо узнать, что вся жизнь рода была предсказана в пергаментах Мелькиадиса, притом включая даже сам процесс чтения и расшифровки пергаментов. Фантасмагория Маркеса зиждется не на гротеске, как у Рабле, а на смещении и разрушении границ между знаками действительности и самой действительностью. И ты мне в Гаване рассказывал, что последнее время Сталин провёл в полном одиночестве на даче. И когда умер, долго лежал, пока охрана не подняла тревогу. Точно так же и у Маркеса – абсолютное одиночество диктатора. Одиночество – вообще его главная и пока не до конца понятая, как мне кажется, тема.
Показав Мину Мирабаль не только ВДНХ, но и Кремль, и Красную площадь, с посещением, естественно, Мавзолея В. И. Ленина («очень даже симпатичный нестарый мужчина»), Арбат, всю Москву с площадки обозрения перед МГУ на Ленинских горах, Новодевичий монастырь, я привёл её «для интереса» в магазин «Берёзка» напротив входа на Новодевичье кладбище.
– А почему напротив кладбища? – удивилась она.
Отметив, что ассортимент приличный, почти как в магазине на Западе, она стала расспрашивать о системе оплаты товаров в «Берёзках». Я пытался ей объяснить, но, думаю, она не сумела вникнуть в тонкости различий между чеками Внешпосылторга, которые прежде назывались сертификатами и различались по цвету полосок на купюрах, то есть по достоинству в зависимости от того, заработаны ли «советскими специалистами» (в эту категорию входили все, от преподавателей, инженеров и спортсменов до воинов-интернационалистов) в капстране или соц соответственно, и купить можно было более или менее качественный, «фирменный» товар.
– А в 1957 году эти магазины уже были? – уточнила исследовательница-коммунистка.
– Они всегда у нас были, с двадцатых годов XX столетия – одно время «Торгсинами» назывались, то есть – «Торговля с иностранцами», потом вот «Берёзки».
– А-а! – чему-то обрадовалась Мину и даже хлопнула в ладоши. – В романе «Сто лет одиночества» помнишь? Пароходы банановой компании приходили в Санта-Марту, нагружались бананами и везли их в Новый Орлеан, а на обратном пути шли порожняком. Решили возить товары для магазинов, принадлежавших компании, а рабочим платить не деньгами, а чеками, бонами, за которые они бы покупали в этих магазинах товары, ввозившиеся компанией, на её же судах. И, кстати, дедушка Габо, полковник, получал эти чеки, у них на столе дома всегда были дефицитные продукты…
– Действительно, настоящий СССР!
– Рабочие же потребовали, чтобы платили деньгами. Началась забастовка, правительство прислало войска. Рабочие собрались на станции – солдаты окружили их, началась бойня.
– У нас, думаю, бойни по поводу «Берёзок» не начнётся.
– Напрасно! Мне Маргарет, предсказательница Фиделя, предрекшая ему ещё четверть века правления Кубой, сказала, что через несколько месяцев к власти у вас придёт меченый, человек с родимым пятном на лбу, и всё будет иначе!
– Как – иначе? Как твой любимый Троцкий хотел?
– Не знаю, Серхио! Но возьми, перечитай очерк, да и роман, сам всё поймёшь!
– Легко сказать – возьми, – сказал я тогда, летом 1984-го, когда очерк Маркеса об СССР был запрещён, как настоящая диссидентская литература. – Большое видится на расстоянии, писал наш поэт. Вот ты, Минерва, приехала, огляделась и заметила то, к чему мы привыкли с рождения и на что не обращали внимания.
– Да я-то что особенного заметила? Это он, Гарсия Маркес.
Из очерка «СССР: 22 400 ООО квадратных километров без единой рекламы кока-колы»:
«Когда он умер, ему было больше семидесяти, он был совершенно седой, появились признаки физической изнурённости. Но в воображении народа Сталин имеет возраст своих портретов. Они донесли его вневременное существование даже в самые отдаленные уголки тундры. <…>
„Должно пройти много времени, прежде чем мы поймём, кем же в действительности был Сталин“, – сказал мне молодой советский писатель». Имени этого писателя Маркес не назвал, сказал лишь, что тот был его ровесником и родом из Средней Азии.
В мае 2007 года в самолёте «Аэрофлота», следовавшем по маршруту Брюссель – Москва, автору этих строк довелось беседовать с Чингизом Айтматовым, замечательным писателем, долгое время работавшим послом СССР, а затем Киргизии в странах Бенилюкса. И Айтматов, в частности, вспоминал, что ровно полвека назад, в 1957 году, учился в Москве на Высших литературных курсах и во время молодёжного фестиваля в Москве встречался с молодым колумбийским журналистом и начинающим писателем Габриелем Гарсия Маркесом, никому тогда ещё не известным. Они долго проговорили – о Фолкнере, Ремарке, Хемингуэе, о русской, советской литературе, о сталинизме, о XX съезде Компартии, об отношениях художника с властью… Естественно, откровений особых быть не могло. Но Айтматов запомнил встречу на всю жизнь (не исключено, конечно, что память «подогревала» и последовавшая всемирная популярность Маркеса, его Нобелевская премия).
– Это удивительно, – глядя через иллюминатор на терракотовые перед восходом солнца облака, степенно, философски отвечал на вопрос об общности литератур Чингиз Торекулович. – Родились мы в один год на противоположных концах земного шара. Но много общего. Может быть, век объединил? Да и в корнях, в истоках общее… Вот живу, работаю, езжу по миру и всё больше прихожу к выводу, что именно и только слово – это суть человеческого бытия. То есть в человеческой сущности, в человеческом бытии нет ничего, что могло бы быть помимо слова: любое действие, любое открытие, любое движение, любой поступок для человека идет через слово. И только так продолжается осмысление сути жизни и освоение всей Вселенной. Я много думал об этом. Размышлял о древнейших акынах наших краёв. А акыны – это поэты-импровизаторы. В детстве часто приходилось слышать великих акынов. И еще личный момент: мне Бог послал замечательную бабушку, сказки могла рассказывать с утра до вечера…
– И у Маркеса была замечательная бабушка!
– И лёд, с которого у него «Сто лет одиночества» начинается, помните, дед взял внука посмотреть на лёд. Я был корреспондентом «Правды» по Киргизии. И ко мне в гости приехал индийский журналист. Я повёз его показывать деревню, где когда-то жил с бабушкой. Мы вышли из поезда на станции, индус вдруг говорит: «Чингиз, я хочу туда». – «Куда?» – «Вон туда, где снег. Хочу его потрогать…» Он никогда не видел вблизи и не трогал снега! А в горах снег – это жизнь, это реки, это вода для пастбищ, это дороже золота… И столько мальчишеского восторга было в огромных чёрных индусских глазах!.. И ещё, помню, Маркес всё о Сталине расспрашивал, что, как да почему, сравнивал с их латиноамериканскими диктаторами, и уверял, что Сталин более масштабен и ярок, и нигде народ так не любил и не любит своих диктаторов, как у нас, в СССР. Мы, молодые советские писатели, журналисты, художники, жившие и буквально дышавшие ещё историческим докладом Хрущёва о культе личности, с этим не могли согласиться…
44
«…Сталин никогда не выезжал за пределы Советского Союза, – утверждает (ошибочно, конечно. – С. М.) в очерке Маркес. – Он умер в уверенности, что московское метро – самое красивое в мире. Да, оно хорошо действует, удобно и очень дёшево. В нём невероятно чисто, как и повсюду в Москве: в ГУМе бригада женщин целый день протирает лестничные перила, полы и стены, которые пачкает толпа. То же самое в гостиницах, кинотеатрах, ресторанах; но с ещё большим усердием это делается в метро, сокровище города. На деньги, истраченные на мрамор, фризы, зеркала, статуи и капители, можно было бы частично разрешить проблему жилья. Это апофеоз мотовства…»
Но всё-таки московское метро молодым латиноамериканцам понравилось. Маркес потом рассказывал о нём Кортасару, который поведал об этом мне:
– Он не запомнил названий станций, сказал, что метрополитен носит имя Ленина, а станции – имена Маркса, известных анархистов и большевиков. Гости молодёжного фестиваля могли ездить в метро бесплатно, Маркес спускался под землю, как только появлялась возможность. У вас там ни одна станция не похожа на другую. Он ездил от центра, от Красной площади, как я понимаю, до окраин, ездил и по кольцевой, выходил, где понравилось. Говорил, что некоторые станции – настоящие галереи или музеи, с витражами, мозаичными панно, скульптурами! И утверждал, что моё любимое парижское метро, в котором происходит действие нескольких моих рассказов, не выдержит сравнения с московским, что я обязательно должен побывать в Москве и провести в метро по крайней мере день, спуститься на эскалаторе на станцию, где всё отделано сталью и где во время войны с Гитлером находилась Ставка Сталина.
– «Маяковская», – предположил я.
– Я всегда говорил, что мог бы жить в метро, если бы там было побольше кафе и туалетов. Маркес сказал, что если и жить в метро, то он бы предпочёл в московском, хотя там, кажется, нет туалетов. Рассказывал, как, надувшись пива в центре, у Кремля, поехал на метро в гостиницу, а езды было около часа, и насилу вытерпел, чтобы не справить нужду прямо посреди огромного, сверкающего мрамором зала!
– А было бы забавно, – заметил я. – Мемориальную табличку бы повесили: мол, здесь будущий лауреат Нобелевской премии…
– Он говорил, что ни в одном городе мира метро не населено столькими тенями и голосами прошлого… В тридцатых годах я жил в Буэнос-Айресе и помню, с каким восхищением газеты, вовсе не питавшие нежных чувств к коммунизму, писали о строительстве московского метро. Не исключено, что с подачи сталинской пропаганды. Скажите, а музыканты у вас в метро играют?
– Нет, не играют.
– В метро должна быть музыка, джаз…
– Почему джаз?
– Джаз у меня всегда связан с изменением течения времени, которое никак нельзя определить по глупому циферблату со стрелками настенных или наручных часов. Кстати, Маркес сказал мне, что в московском метро время идёт по-своему, сразу – и прошлое, и настоящее, и будущее. За двадцать-тридцать минут оказываешься за много километров, совсем в другом конце огромного города! И где-то по подземным ходам, ведущим из Кремля и кое-где пересекающимся с линиями метро, идут опричники Ивана Г розного, по насмерть засекреченному тоннелю едет в свою тайную резиденцию Сталин, хотя на самом деле лежит в Мавзолее!.. – Огромные зелёные широко поставленные глаза Кортасара сияли восторженно, как у ребёнка, пересказывающего фантастическую сказку. – И три – пять минут, которые поезд идёт между станциями, могут растянуться на десятилетия!..
…Однажды во время фестиваля Маркес опоздал в метро. Была тёплая августовская ночь, в лужах после короткого дождичка поблескивали редкие огни. Он не спеша пошёл в предполагаемом направлении гостиницы, всё ещё восхищаясь тем, что в таком огромном многолюдном и многонациональном, то ли европейском, то ли азиатском городе можно вот так просто, безбоязненно разгуливать среди ночи. Но полчаса спустя понял, что идёт не туда, и на каком-то проспекте увидел девушку.
«Она несла целую охапку пластмассовых черепашек, в Москве, в два часа ночи! – и она посоветовала взять такси. Я, как мог, объяснил, что у меня только французские деньги, а фестивальная карточка в это время не действует. Девушка дала мне пять рублей, показала, где можно поймать такси, оставила на память одну пластмассовую черепашку, улыбнулась – и больше я её никогда не видел. Два часа я прождал такси: город, казалось, вымер. Наконец я наткнулся на отделение милиции. Показал свою фестивальную карточку, и милиционеры знаками предложили мне сесть на одну из стоявших рядами скамеек, где клевали носом несколько пьяных русских. Милиционер взял мою карточку. Через некоторое время нас посадили в радиофицированную патрульную машину, которая в течение двух часов развозила собранных в отделении пьяниц по всем районам Москвы. Звонили в квартиры, и только когда выходил кто-либо, внушающий доверие, ему вручали пьяного. Я забылся в глубоком сне, когда услышал голос, выговаривающий моё имя правильно и ясно, так, как произносят его мои друзья. Это был милиционер. Он вернул мою карточку, на которой было записано моё имя в русской транскрипции, и показал мне, что мы подъехали к гостинице. Я сказал „спасибо“, он поднёс руку к козырьку, вытянулся по стойке „смирно“ и коротко ответил: „Пожалуйста“».
По-разному восприняли фестиваль Габриель и Плинио. Вот итоговые впечатления энергичного, хваткого репортёра Мендосы, которые, в отличие от очерка Маркеса, были, что называется, «с колёс», сразу по возвращении на родину, опубликованы:
«Поездку в СССР я вспоминаю как вереницу утомительных, жарких, липких дней, проведённых в атмосфере ярмарки, беспрерывного народного гулянья. На улицах, площадях, в парках, в колхозах мы постоянно были окружены толпами людей, которые разглядывали нас с головы до ног. С каким-то первобытным любопытством нас засыпали со всех сторон вопросами, всем хотелось непременно потрогать нас, будто для того, чтобы убедиться, что мы не существа с другой планеты. Нам казалось, всё, что мы там видели, слышали, обоняли и осязали, было создано специально для того, чтобы опрокинуть наши самые простые, казалось бы, представления о западном индивидуализме, о праве на частную жизнь, в соответствии с которым каждому полагается иметь в отеле отдельный номер, ежедневно принимать ванну или хотя бы душ, в кафе или ресторане сидеть за столиком для одного, максимум для двоих, но не разделять трапезу с десятком других, совершенно незнакомых индивидуумов и терпеть за столом или в номере их юмор, хохот, чавканье, отрыжки, полоскание рта, храп и прочие, пусть и вполне естественные, но малоприятные физиологические отправления и звуки…»
Маркес также на всё это обращал внимание. Но его интересовали в большей степени не бытовые условия. «У меня профессиональный интерес к людям, и думаю, нигде не встретишь людей более интересных, чем в Советском Союзе», – признался он.
Два дня друзья пробыли в Сталинграде. «Гигантское изваяние Сталина возвышается у входа в Волго-Донской канал, – писал Плинио Мендоса. – Возможно, оно даже выше статуи Свободы. Каменной рукой, вытянутой над великой Волгой, Сталин как бы указывает путь своей древней, необозримой, загадочной стране».








