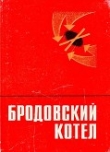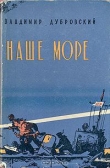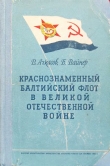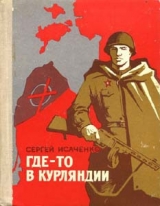
Текст книги "Где-то в Курляндии"
Автор книги: Сергей Исаченко
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 13 страниц)
Новость всех обрадовала. Газеты переходили из рук в руки. «Ну, теперь фашистам не уйти отсюда», – слышались возбужденные голоса бойцов. А Нил Кольцов прислушивался к таким разговорам и улыбался. Ему было приятно, что это он доставил такую новость.
Нил Григорьевич Кольцов был интересным человеком. Он страстно любил литературу, печать и был активным ее пропагандистом. Некоторые подшучивали над ним: подумаешь, мол, почтальон; газеты и письма разносить – не у орудия стоять. Однако Кольцов не обижался. Он считал, и справедливо, что на фронте вовремя доставить бойцам газеты и письма – тоже очень важное дело. Случалось ему и под огнем пробираться в подразделения со свежей почтой, даже отстреливаться из автомата от фашистов.
Чтобы первым получать газеты и быстрее узнавать новости, он обычно раньше всех приходил на полевую почту. Оттуда шел в дивизионную типографию и забирал для своего полка только что отпечатанную газету.
Таким же беспокойным был и экспедитор саперного батальона армянин Григорьянц. Тот тоже рано приходил в типографию и ждал, пока печаталась газета. Печатник часто использовал эту дополнительную рабочую силу. На печатной машине «Американке» работали вручную; ее обычно вертели типографские шоферы.
Зимой 1943 года, когда шли бои на Северном Кавказе и наши войска освобождали от врага один за другим кавказские города, Григорьянц приходил в типографию еще ночью и все ждал, когда будет сообщение об освобождении его родного города Пятигорска. Наконец дождался – 11 января советские войска освободили Пятигорск. В ту ночь Григорьянц появился в автобусе, где размещалась типография, в 3 часа, когда дивизионная газета еще только набиралась. Узнав об освобождении Пятигорска, он пришел в такой восторг, что даже заплясал, а потом побежал к себе в батальон поделиться радостью. Снова вернулся, оттолкнул шофера, вертевшего «Американку», и сам начал вертеть, да с такой скоростью, что печатник еле успевал накладывать листы бумаги.
– У меня сегодня такая сила, – говорил сияющий от радости Григорьянц, – что я тебе пять газет отпечатаю.
И отпечатал весь тираж,
Нередко то же приходилось делать Кольцову, и делал он это с большим удовольствием.
Кроме всего прочего, Кольцов был поэтом. Его стихи часто печатались на страницах дивизионки. А когда редакция объявила конкурс на написание «Марша дивизии», Кольцов представил лучший текст марша и получил первую премию.
Однажды Нил Кольцов написал стихотворение «Девушкам тыла» и послал его в Москву.
Туда, где за елью
Край неба алеет,
Невольно бросается взгляд,
В платке иль в берете
Свою бы заметил
Из тысячи тысяч девчат.
Кругом лес, болото,
Лишь ветер с востока
Повеял знакомым до слез.
И ветви, что косы,
Жемчужные росы
Стряхнули с кудрявых берез.
Во всем отделенье
На пне, на колене
Заветные перья скрипят.
От писем, поклонов
У почтальонов
Все время подошвы горят.
Присев полукругом,
Мы друг перед другом
Откроем всю душу свою.
Как вспомнишь о милой,
Прибавятся силы,
Становится легче в бою.
Мы начисто, чисто
Побьем всех фашистов,
И каждый вернется к своей.
Маруси, Наташи,
Пишите почаще,
Нам с письмами жить веселей.
Стихи прочитали по радио. И вскоре Кольцов стал получать десятки писем из разных концов страны. Писали преимущественно девушки, так как стихотворение было обращено к ним, но писали и пожилые женщины, и дети. Они рассказывали о своих трудовых и учебных делах, заверяли воинов, что ждут с нетерпением, когда они разобьют врага и вернутся с победой. Бывали дни, когда Кольцову вручали по триста – четыреста и даже по пятьсот писем сразу. Всего в ответ на свое стихотворение он получил более пяти тысяч писем.
Письма эти Нил читал солдатам. Они согревали им душу и придавали силы в борьбе с врагом. Стихи свои Кольцов тоже читал бойцам. Кольцова хорошо знали в полку и уважали. И когда осенью 1944 года во время боев на подступах к Риге Нил Григорьевич Кольцов погиб, это было для всех большой утратой.
* * *
Части дивизии, находясь в резерве, пополнялись людьми и техникой и готовились к новым боям. На совещаниях и собраниях подводились итоги прошедших боев и обсуждались предстоящие задачи. На одном из таких совещаний в политотделе дивизии Никандров близко познакомился с комсоргом 506-го стрелкового полка старшим лейтенантом Геннадием Рукавишниковым. Скромный, даже несколько застенчивый, Геннадий привлек Алексея умными суждениями о комсомольской работе, о подходе к людям. Алексей узнал, что Геннадий закончил литфак института и пишет очерки, стихи. Он вспомнил, что встречал фамилию Рукавишникова на страницах дивизионной газеты, и это еще больше расположило к нему. Они по-настоящему подружились.
В подразделениях проходили партийные собрания. Многие воины, готовясь к новым боям, подавали заявления в партию. Состоялось собрание и в батарее капитана Береберы.
Когда секретарь парторганизации лейтенант Галиудинов зачитал заявление наводчика Галкина, все присутствовавшие единодушно заявили: достоин быть в партии. Парторг тепло поздравил молодого артиллериста. Тот взволнованно сказал:
– Приложу все силы, чтобы оправдать звание коммуниста. Фашистских захватчиков буду бить еще крепче и беспощаднее.
Скоро враги на себе почувствовали правоту этих слов. В развернувшихся боях по прорыву оборонительной линии «Мариенбург» наводчик Галкин исключительно точно посылал в цель снаряды.
В то утро разгорелась сильная артиллерийско-минометная перестрелка. Орудие Александра Галкина стояло на прямой наводке в 300 метрах от немецких траншей. Расчет имел задачу – уничтожить засеченные накануне огневые точки противника. И вот в сторону врага послан первый снаряд, второй, третий. Расчет Галкина работал неутомимо. Снаряды рвались в районе целей.
Фашисты обнаружили орудие Галкина и открыли по нему огонь. Однако наши артиллеристы продолжали громить врага. Галкин был ранен, выведены из строя другие номера расчета. А орудие било и било по фашистам.
Но вот вражеский снаряд разорвался у самого орудия. Отважный наводчик был сражен насмерть.
Через несколько дней Алексей Никандров зашел на батарею, а там в это время коллективно составляли письмо матери Александра Галкина. Писал лейтенант Галиудинов – командир огневого взвода, парторг. Ему диктовал Беребера.
«Дорогая мамаша! – аккуратно выводил парторг. – Пишут тебе боевые друзья твоего Саши. Ты нас не знаешь, однако мы хорошо тебя знаем со слов твоего сына. Он нам часто рассказывал о тебе, читал твои письма.
…Саша был твоим любимцем, – продолжал Беребера, – и тебе больно будет узнать печальную весть о нем.
Но не надо горевать и убиваться. Мы тоже очень любили его и гордимся его мужеством. Только накануне Сашу приняли в партию…
Похоронили мы Сашу с почестями. Гордись, мать, своим сыном-героем. Он смело сражался за Родину и отдал за нее жизнь. Обещаем отомстить врагам за смерть твоего Саши и драться с фашистами так же отважно, как дрался он…»
5
Рота старшего лейтенанта Привалова уже вторые сутки отбивала яростные контратаки противника. Вражеские автоматчики при поддержке танков с остервенением лезли на высоту, которую захватила рота в ходе наступления и где успела закрепиться. Ее поддерживали артиллеристы капитана Береберы, поставившие огневой заслон перед контратакующими цепями немецкой пехоты и танками.
Августовское солнце клонилось к закату, когда была отбита пятая за день контратака противника. Наступила относительная тишина. У подножия высоты, усеянной трупами врага, догорали два фашистских танка. Рота тоже понесла большие потери, но высоту удерживала прочно. Развернувшиеся здесь бои были частью общего наступления наших войск в Прибалтике. Прорвав рубеж «Мариенбург», советские войска к середине августа овладели городами Петсери (Печоры), Выру, Антсла и продвигались в направлении на Валгу и Тарту. Однако восточнее Валги, из района Сангасте и южнее, противник нанес контрудар и потеснил некоторые части 1-й ударной армии. Для усиления 1-й ударной ей был передан из резерва фронта ряд соединений, в том числе и 198-я стрелковая дивизия.
Части дивизии сразу же вступили в бой по отражению вражеских контратак на участке недалеко от мызы Рыуге. Роте старшего лейтенанта Привалова как раз и довелось выдержать сильные контратаки на позиции в районе высоты Безымянной, занятой накануне.
* * *
Андрей Привалов присел в окопе на патронный ящик и закрыл глаза. Хотелось немного отдохнуть после невероятного напряжения боя, расслабиться. Связист в углу окопа накручивал ручку полевого телефона, ординарец отправился по ходу сообщения за чаем.
Мысли невольно возвращались к пережитому за долгие месяцы и годы войны. Сколько таких боев уже позади? Сколько высот – с отметками, с условными названиями и просто безымянных – приходилось штурмовать и удерживать?
Привалов учился в Ленинграде в художественном училище, когда началась война. Сразу же пошел в военкомат и стал проситься на фронт. Но так как ему не было еще и семнадцати лет, то получил отказ. Пошел в другой раз, прибавив пару лет. И поверили, зачислили бойцом. После короткой подготовки в качестве пулеметчика был направлен на фронт, в 55-ю армию, действовавшую южнее Ленинграда.
И вот бои – тяжелые, изнурительные, совсем не такие, какими представлялись ему. Рота, в которой Привалов был пулеметчиком, в течение нескольких суток удерживала господствующую высоту. Гитлеровцы беспрерывно атаковали, бросали на высоту танки, обстреливали ее из пушек и минометов, бомбили с самолетов. Но безрезультатно. Советские воины стояли насмерть.
К исходу третьих суток на позициях осталась лишь небольшая горстка бойцов, и те в большинстве раненые. Привалов, все еще державшийся на ногах, перевязывал раненых, подносил боеприпасы, а когда начиналась очередная атака, вел огонь из пулемета.
Наутро фашисты возобновили атаки. Сначала они обрушили на высоту ураганный огонь из всех видов оружия. Канонада длилась целый час. Потом стало тихо. Андрей вылез из окопа и осмотрелся. Высота казалась безжизненной. «Вроде один я остался, – подумал Андрей. – Ну что ж, буду драться!»
Он пробрался на правый фланг и установил там пулемет, потом то же сделал на левом фланге. Подтащил к пулеметам побольше коробок с патронными лентами. Успел даже внести в траншею раненых и напоить их водой из своей фляжки. А услышав шум, приподнял голову над бруствером.
Немцы густой цепью шли на высоту. Они не пригибались, не бежали, а шли спокойно, полагая, что здесь не осталось ничего живого. Привалов лег к пулемету и, когда цепь приблизилась на 70 – 80 метров, дал длинную очередь. Не отпускал гашетку до тех пор, пока вся лента не опустела.
Вражеская цепь смешалась. Многие гитлеровцы упали сраженные, остальные побежали назад. Через некоторое время атака повторилась. Андрей отразил ее из другого пулемета. Потом он несколько раз менял позицию и все бил и бил по наседавшим фашистам.
Так длилось целый день. С наступлением темноты на высоту прибыло свежее подразделение, а Привалову приказали явиться к командующему армией. Генерал Свиридов лично наблюдал за тяжелым боем на высоте и захотел увидеть героя, дравшегося с такой храбростью. Весь черный, в грязи и крови, вошел Андрей в генеральский блиндаж и остановился у порога, не в силах даже представиться.
– Кто ты? – спросил генерал.
– Пулеметчик Привалов.
– Сколько тебе лет?
– Когда уходил на фронт, было девятнадцать, а сейчас только семнадцать. Не брали, пришлось прибавить два года.
– Дрался ты геройски, молодец! – улыбнулся генерал. – Будешь представлен к награде.
На следующий день Привалов на той же высоте снова отражал вражеские атаки. Потом были бои на других участках Ленинградского фронта.
В ночь на 1 декабря 1941 года ему выпало ответственное задание. Надо было взорвать склад боеприпасов на захваченной противником территории. Создали для этого специальную группу, однако ей не удалось справиться с задачей. Тогда командир полка попросил добровольцев выйти из строя. Первым вышел вперед Привалов. Ему и поручили это важное дело.
Ловкий, худенький, он ужом пополз к складу, растаяв в темноте. Взрывчатку взвалил на спину, гранаты прикрепил к поясу. Время от времени в небо взвивались ракеты, освещая местность холодным светом. Андрей мгновенно застывал, даже голову втягивал в плечи. Гасла ракета, и он опять полз. Над головой свистели пули, шелестя пролетали мины, а он все полз и полз.
Наконец добрался до склада. Выждав, когда часовой скрылся за углом, быстро вскочил и подбежал к дверям. Заложил взрывчатку, поджег шнур и только хотел повернуть обратно, как совсем рядом услышал немецкую речь. Скрыться было уже нельзя. Недолго думая, метнул в фашистов одну за другой две гранаты и побежал. Вдогонку раздались автоматные очереди, а когда до своего переднего края оставалось уже совсем недалеко, землю потряс сильный взрыв. Вражеский склад был уничтожен. Но Привалов получил тяжелое ранение и контузию.
Очнулся он лишь в госпитале. Почти полгода пролежал прикованный к постели. Врачи спасли ему жизнь, вылечили. Из госпиталя был направлен в военное училище, по окончании которого снова прибыл на Ленинградский фронт, уже в должности командира пулеметного взвода. Участвовал во многих боях, затем перешел в разведку, добывал «языков», выполнял задания в тылу врага. Потом стал командовать стрелковой ротой. Его рота не раз отличалась в схватках с фашистами. Особенно прославилась она в боях за плацдарм на западном берегу реки Нарвы.
Было это в феврале 1944 года. Небольшой плацдарм, захваченный нашими войсками с ходу в процессе зимнего наступления, стойко удерживала рота лейтенанта Привалова. Ее позиции подвергались непрерывным атакам врага, но рота отбивала их.
…Утро. Лишь начало светать, как гитлеровцы возобновили натиск. На плацдарм двинулись танки и пехота.
– Приготовиться к отражению атаки! – командует лейтенант Привалов. Он переходит, пригибаясь, по траншее от одного пулеметного расчета к другому.
– Подпустим ближе, – говорит пулеметчикам. А стрелкам рекомендует: – Гранаты готовьте. Будем бить фашистов гранатами.
По вражеским танкам ударила наша артиллерия. Несколько машин остановилось, а остальные, взвихривая снег, продолжали мчаться вперед. За ними бежали фигуры в серо-зеленых шинелях. Едва они стали хорошо различимы, раздалась команда ротного и дружно заработали наши пулеметы, застрочили автоматы.
Узкая полоска берега превратилась в настоящий ад. Прорвавшиеся танки утюжили траншеи, а оттуда в них летели гранаты. Пехота противника, не считаясь с потерями, лезла прямо на пулеметы. Кое-где дело доходило до рукопашных схваток.
Беспримерную отвагу проявили пулеметчики отец и сын Никифоровы, служившие в одном расчете. Младший Никифоров вел беспощадный огонь по вражеским автоматчикам, двигавшимся вслед за танками. Отец подавал ему патроны и время от времени метким выстрелом из винтовки снимал очередного вывернувшегося из-за танка гитлеровца. Но вдруг пулемет смолк. Отец взглянул на сына – и ужаснулся: тот безжизненно поник у пулемета. А передний танк приближался к нашим окопам, и ничто, казалось, уже не сможет его остановить. Тогда старший Никифоров, взяв связку гранат, выбрался из окопа и пополз навстречу танку. Укрываясь в воронках от бомб и снарядов, он вплотную подобрался к вражеской машине и бросил гранаты под гусеницу. Раздался сильный взрыв – танк был подорван. Пал смертью храбрых и Никифоров-отец.
И на этот раз врагу не удалось сломить стойкость защитников плацдарма. Атака захлебнулась, и гитлеровцы повернули вспять.
На некоторое время наступило затишье. Привалов осмотрелся. Как поредела его рота! Вышли из строя два пулеметных расчета, во взводах осталось по горстке людей. И все же плацдарм держится. Ни пяди не уступили врагу!
Только успели восстановить систему огня и оказать помощь раненым, как началась новая вражеская атака. Потом еще и еще. Но воины продолжали сдерживать фашистов. Привалов в измазанном глиной полушубке, с осунувшимся лицом и перевязанной рукой подползал к огневым точкам и призывал солдат:
– Надо продержаться до ночи, друзья. А там придет подкрепление.
Когда выдавались спокойные минуты, он рассказывал бойцам о том, как в этих местах в гражданскую войну били врагов молодые части Красной Армии. Он старался воодушевить солдат, подготовить к новым испытаниям, которым, казалось, не будет конца.
К вечеру в роте остались боеспособными всего несколько человек. Привалов решил послать связного на тот берег, чтобы поторопить с подкреплением.
– Проберитесь во что бы то ни стало через реку и доложите командиру полка обстановку.
– Есть! – ответил солдат. Он пополз к берегу. В этот момент у того места, где стоял лейтенант, разорвалась мина. Связной видел, как офицер рухнул наземь. «Убило командира! – горестно воскликнул он. – Что же теперь будет?»
Однако Андрей Привалов не был убит. Утром его, тяжело раненного, подобрали санитары и отправили в госпиталь. И опять потянулись долгие недели лечения. Здесь, в госпитале, Андрей получил письмо от старшего брата Николая. «Поправляйся, братуха, скорее, – писал он. – Впереди у нас много дел. Повоевать еще придется».
Прочитав письмо от Николая, Андрей решил немедленно вернуться на фронт. Он торопит врачей, добивается скорейшей выписки. Наконец он снова в боевом строю. Теперь шагает по землям Прибалтики, опять командуя ротой. Шесть ранений и девять правительственных наград – таков итог его боевого пути за три года войны.
* * *
Ординарец, позвякивая котелком, принес ужин и чай. Поужинав, Андрей обошел боевые порядки роты, выслушал доклады взводных о состоянии обороны и о потерях и принял меры к отражению возможных новых вражеских контратак.
Однако утром части дивизии решительным ударом отбросили противника и начали развивать наступление. Бойцы роты Привалова стремительно продвигались вперед. Жаркий бой завязался за один из хуторов, расположенный на опушке небольшого леска.
На левом фланге атакующих бежал с автоматом Семен Проскуряков. Бежал он быстро. Дыхание становилось прерывистым, сердце билось учащенно, пот заливал глаза. Рядом бежали другие бойцы, и над цепью гремело «Ура!». Вокруг рвались мины, свистели пули. Но цепь неудержимо катилась вперед.
Семен стрелял на ходу из автомата, крепко сжимая его в руках. До хутора было уже недалеко. Цепь на мгновение остановилась, но возглас командира: «Вперед, за Родину!» – опять бросил ее вперед.
Вскинув автомат, Семен выпустил очередь. И в этот момент рядом с ним раздался взрыв. Ярким магнием вспыхнуло огромное пламя, земля покачнулась, завертелась и как-то странно начала падать набок. Откуда-то снизу показался клочок синего неба, и затем все поглотила мгла.
Сколько лежал без сознания, Проскуряков не помнил. Очнулся от того же победного клича: «Вперед, за Родину!». Бойцы дрались уже в хуторе. Семен почувствовал нестерпимую боль во всем теле и приподнял голову. Правая нога была вся в крови. Он попробовал ползти вперед. Сжав зубы, стал медленно передвигаться, волоча за ремень автомат.
Кто– то наклонился над ним. Повернув голову, Семен увидел над собой озабоченное лицо командира роты.
– Вы куда ползете, товарищ Проскуряков? – спросил старший лейтенант Привалов. Он узнал этого упрямого, настойчивого парня, только недавно прибывшего с пополнением после излечения в госпитале. – Вы же ранены, и вам надо немедленно в тыл.
– Товарищ командир, разрешите вперед. Я должен участвовать в бою.
– Нет, нет, ползите обратно. Я сейчас найду и пришлю санитаров.
Больше сотни метров полз Проскуряков назад. Сил оставалось все меньше, раненая нога совершенно одеревенела. Тогда Семен прилег под небольшим деревцем и вытащил из кармана листок бумаги. Чувствуя, что силы уходят, он решил написать то, о чем мечтал все дни перед боем, что должно было выразить все его чувства. Но писать было нечем – карандаша не оказалось. Тогда Проскуряков наклонился к ране, обмакнул отломанную с куста тонкую веточку в загустевшую кровь и вывел на бумаге: «Если умру, считайте меня коммунистом».
Здесь и подобрали Проскурякова посланные командиром санитары. А бой уже переместился за хутор.
В тот день беспримерный подвиг совершил и воин роты Мавсур Ахмедов, родом из Татарии.
При атаке опорного пункта противника, прикрывавшего развилку дороги, Ахмедов одним из первых ворвался в немецкую траншею, забросав ее гранатами. Но фашисты оказали упорное сопротивление. Они цеплялись за каждый метр земли, потом перешли в контратаку.
Мавсур один удерживал захваченный участок траншеи, поливая губительным огнем из автомата наседавших гитлеровцев. Потом к нему пробрался командир взвода младший лейтенант Ковалев.
– Держимся, товарищ Ахмедов? – спросил он.
– Держимся, товарищ командир.
Внезапно к смельчакам устремилась группа немецких автоматчиков. Два советских воина дрались мужественно и храбро. Но силы были неравными. Гитлеровцы подбирались все ближе. Одни падали сраженные, другие ползли к траншее.
Трое фашистов подбежали совсем близко и подняли автоматы. Ахмедов быстро метнулся вперед, заслонил собой младшего лейтенанта и выстрелил по гитлеровцам. Он погиб в неравном бою, но спас жизнь командира.
После овладения опорным пунктом противника в роте выпустили листовку-молнию. «Боец, – говорилось в ней, – запомни имя татарина Мавсура Ахмедова, павшего смертью храбрых в бою за Родину. Кто бы ты ни был – русский, украинец, белорус, – Мавсур твой брат, сын единой советской семьи. Отомсти врагу за смерть своего брата, за жизнь тысяч советских людей. Смелее вперед, на полный разгром фашистских захватчиков!»
Среди наступавших в Прибалтике соединений был и 130-й латышский стрелковый корпус. Многие его воины прославили себя смелыми подвигами. На весь фронт стало известно имя старшины Я. Розе из 123-го гвардейского стрелкового полка 43-й гвардейской латышской стрелковой дивизии. Это он во время августовских боев недалеко от Эргли в течение пяти суток корректировал артиллерийский огонь, забравшись на колокольню церкви. Церковь эта находилась на «ничейной» территории, с нее хорошо просматривались вражеские позиции, и поэтому точность огня, направляемого Розе, была исключительно высокой. Фашисты беспрерывно обстреливали церковь, но уничтожить наблюдательный пункт им не удалось.
* * *
К началу сентября наши войска достигли линии: озеро Выртсъярв (западнее Тарту), река Гауя – и подошли к укрепленному оборонительному рубежу противника «Вал-га».
В итоге операций, проведенных в июле – августе 3-м Прибалтийским фронтом во взаимодействии со 2-м Прибалтийским и Ленинградским фронтами, наши войска продвинулись на запад до 240 – 250 километров – от реки Великой до городов Тарту и Валга, завершили освобождение Псковщины и изгнали врага из южной части Эстонской ССР и северо-восточных районов Советской Латвии. Вражеская группировка в Прибалтике, несмотря на хорошо подготовленные ею оборонительные рубежи и прибывающие резервы, была обречена на неминуемый разгром. Советская Армия готовилась к окончательному освобождению прибалтийских земель.
6
Сентябрьские дни выдались теплыми, солнечными – настоящее бабье лето. В воздухе медленно плыла паутина, деревья убирались в золотистый наряд осени. В природе царили покой и безмятежность.
Относительное спокойствие установилось и на фронте у рубежа «Валга». 198-я стрелковая дивизия, опять вошедшая в состав 54-й армии, в которой воевала в течение двух лет на Волховском фронте и во время зимнего наступления 1944 года, занимала оборону по восточному берегу реки Гауи в районе мызы Харгла, причем один ее стрелковый полк находился на латвийской территории, а два других – на; эстонской. Шла усиленная подготовка к прорыву мощного оборонительного рубежа противника «Валга».
Командующий 54-й армией генерал-лейтенант Рогинский поставил перед 198-й стрелковой дивизией задачу тщательно изучить систему укреплений противника западнее реки Гауи и готовиться к форсированию этой водной преграды, к прорыву вражеской обороны южнее города Валги. Выполнению задачи была подчинена деятельность всех звеньев дивизионного аппарата, в том числе партийно-политического.
Вскоре на командном пункте дивизии состоялось совещание политсостава, которое проводил начальник политотдела 7-го стрелкового корпуса полковник Бордовский. Начпокор ознакомил участников совещания с боевой обстановкой и поставленной перед дивизией задачей, подробно остановился на целях партполитработы в этот период. В полках и батальонах развернулась работа по доведению задачи до каждого бойца, по морально-политической подготовке личного состава к предстоящим боям.
Новый командир дивизии полковник Фомичев, сменивший отозванного Шолева, знакомился с обстановкой, бывал в частях и подразделениях, встречался с людьми.
Через несколько дней в штаб дивизии были вызваны начальник разведки капитан Голоднов и старший лейтенант Лепилов, назначенный командиром дивизионной разведроты. В небольшой комнате штаба, расположившегося на станции Тахева, сидели комдив полковник Фомичев, начальник штаба подполковник Софронов и начальник политотдела подполковник Фролов.
– Ну, разведка, – сказал Фомичев, как только Голоднов и Лепилов вошли в комнату, – нужны «языки» и самые последние данные о противнике.
Для захвата «языков» старший лейтенант Лепилов выделил группу во главе с сержантом Потаповым. Опытный разведчик, награжденный орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу» и знаком «Отличный разведчик», Потапов умело организовал поиск. Путем тщательного наблюдения он определил заболоченный участок, где немцы меньше всего ожидали нападения или прохода наших разведчиков, и ночью со своей группой незаметно пробрался в тыл противника. На рассвете они подползли к немецкому блиндажу и забросали его гранатами. Сразу же после этого Потапов, а за ним другие бойцы ворвались в блиндаж.
– Хенде хох! – крикнул Потапов.
Двое гитлеровцев медленно встали и подняли руки. Остальные обитатели блиндажа оказались убитыми. Захватив «языков», группа Потапова беспрепятственно возвратилась в свое расположение.
Несколько позже вернулся Василий Бобков, который с разрешения старшего группы выполнял самостоятельный поиск. Бобков, несмотря на свои девятнадцать лет, выглядел мальчиком, и его называли в роте «Вася-кнопка». Но разведчиком он был искусным.
Бобков возвратился вечером, при этом не обошлось без курьеза. В сумерках разведчики сначала не могли определить, кто к ним идет. Смотрят, по тропинке шагает здоровенный немец, а за ним прихрамывает мальчишка. Схватились было за автоматы, однако сразу же опустили их. В шедшем за немцем малыше все узнали Васю. А он улыбается, рукой машет.
– Как же ты совладал с таким верзилой? – спросили обступившие его разведчики.
– А вот так… – Вася гордо поднял голову. – Пробрался к немецким блиндажам, залег. Долго лежал. Потом увидел этого немца. Он подошел близко ко мне, автомат повесил на куст, а сам стал дрова рубить; повар, должно быть. Ну, я подкрался, автомат его взял и прямо в лицо ему прошипел: «Хенде хох!» Он глаза вытаращил, топор уронил и – руки вверх; трясется, даже слезу пустил… Я повел его, хотя, признаться, идти мне было трудно: ногу поцарапал проволокой…
После этого перестали называть Василия «кнопкой».
Захваченные на переднем крае пленные не смогли дать нужных показаний о положении в глубине немецкой обороны. Чтобы получить исчерпывающие сведения о противнике, в его тыл отправились две группы разведчиков. Одну из них возглавил старшина Удовенко.
Двое суток от них не было вестей. Наконец они появились целые и невредимые, правда, утомленные от далекого и трудного пути. Доставили «языка» – дюжего немецкого унтер-офицера и важные данные о расположении резервов и вторых эшелонов противника за Гауей.
В роте их сразу же засыпали вопросами о том, как прошел поиск. Старшина Удовенко, доложив командиру роты об итогах разведки, рассказал товарищам следующее.
– Проникли мы далеко в тыл противника и стали наблюдать. Видим, возле одного хутора четверо немцев косят клевер. Кругом больше никого. Соблазнились мы возможностью захватить живого «косаря». Подкрались незаметно. Гитлеровцы, сложив оружие в сторонке, укладывали клевер на телегу. Увидев нас, трое из них бросились бежать. Двоих мы уложили первыми выстрелами, а третьему удалось скрыться. Четвертого захватили, связали – ив мешок. Решили уходить. Но не тут-то было. Добежавший до хутора немец поднял там тревогу. Куда спрятаться? Нигде никакого укрытия, лишь вдалеке виднелись кусты. Поползли на ближнюю горку, там несколько камней лежало. Спрятали за эти камни мешок с «языком». При этом такая мысль нас обнадеживала: немцы будут искать нас где-нибудь в ямках, кустах, а на голой горке на станут смотреть. Если же сунутся сюда, то обороняться будет сподручнее.
– Наш расчет оказался правильным, – продолжал после глубокой затяжки самокруткой старшина. – Фашисты обшарили, перерыли весь клевер, обыскали ямки и канавки, а на горку так и не заглянули. Долго лежали мы с автоматами наготове. Наконец немцы ушли ни с чем на хутор. А мы, дождавшись темноты, начали пробираться к своим…
Вторая группа разведчиков, в которой находился ефрейтор Павел Анцеборенко, возвратилась еще позже. И вернулась, к большой печали боевых товарищей, не в полном составе.
Разведчики успешно выполнили задание и продвигались обратно к линии фронта. Шли цепочкой. Замыкал группу Анцеборенко с ручным пулеметом. Осторожно, где лощинами и оврагами, а где кустарником, ощупывая взглядом каждый куст и камень, пробирались они по местности, занятой противником.
Достигнув дороги, залегли в канаве, прислушались. Ничего подозрительного. Короткая команда – и группа мгновенно пересекла дорогу.
Впереди показалась полоска густого кустарника. Притаились, понаблюдали за ним, но не заметили тщательно замаскированную немецкую засаду. А гитлеровцы, подпустив разведгруппу на близкое расстояние, открыли огонь.
Как только из кустарника раздались очереди вражеских автоматов, командир группы скомандовал: «К лесу, по канаве!» Разведчики скатились в канаву и двинулись к видневшемуся впереди лесу. Анцеборенко остался прикрывать. Еще перед выходом командир говорил разведчикам, что группа их небольшая и если противник перехватит ее или «сядет на хвост», то прикрывать придется кому-то одному. «Это будет нелегко, – предупреждал он. – Задача того, кто останется, задержать врага как можно дольше и дать группе уйти как можно дальше». «Значит, бой до последнего патрона», – сказал тогда Анцеборенко. «Возможно, и так», – подтвердил командир. И теперь Анцеборенко понял, что настал его час. Он залег за камнем и открыл огонь по гитлеровцам. Из канавы ему крикнули: «Павел, прикрой – и к лесу!» Но он лишь оглянулся и бросил коротко: «Отходите!» А сам продолжал поливать фашистов огнем.