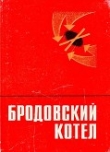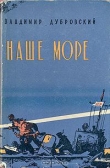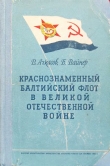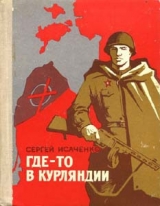
Текст книги "Где-то в Курляндии"
Автор книги: Сергей Исаченко
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 13 страниц)
О многом мечталось в те дни молодым командирам. Подготовку приобрели хорошую, сил и энергии хоть отбавляй. Каждый жаждал скорее приложить эти знания и энергию к делу. Думали о том, как будут передавать свой опыт курсантам и сами продолжать учиться, поговаривали и об устройстве личной жизни. И хотя обстановка в мире была очень сложной, хотя в воздухе все более чувствовалось приближение военной грозы, никто из них не предполагал, что буквально через несколько дней их судьба, как и судьбы миллионов советских людей, изменится в корне.
Окончание училища почти совпало у Петра с днем рождения, который приходился на 22 июня. В субботу 21-го он решил отметить это событие. Вечером в небольшой холостяцкой квартире собрались друзья. За столом, поздравляя именинника, возвращались к тем же мечтам.
– Дослужиться бы тебе, Петр, до генерала, – говорил один.
– Ну, не генералом, а каким-нибудь танковым начальником ты свободно можешь стать, – подхватил другой.
– А хорошо бы поступить в академию, – мечтательно произнес третий.
Вдруг раздался стук в дверь, и на пороге появился посыльный.
– Товарищ воентехник второго ранга, – обратился он к Шурлакову, – вам приказано срочно прибыть к дежурному по гарнизону капитану Бубнову. Помощник дежурного заболел, и вы должны заступить на его место.
Разговоры в комнате разом стихли. Гости недоуменно переглядывались: как же торжество?
– Ничего, друзья, – успокоил их Петр, – догуляем после дежурства. А пока придется прервать. Сами понимаете: служба.
Но этому «после» так и не суждено было сбыться.
…Коротка июньская ночь. Кажется, совсем недавно зашло солнце, а вон уже на востоке начинает серебриться небо. Земля, нагретая за долгий – самый долгий в году день, – не успевает остыть, и от нее струится испарина.
Петр смотрит в окно на алеющую полоску зари над горизонтом, на летное поле аэродрома. Капитан Бубнов находится в городе, а его, помощника дежурного по караулам гарнизона, место здесь, на аэродроме Жуляны, что под Киевом. Посты тут важные, потому и послан он сюда вместе с помкомвзвода Родионовым.
Трудным выдалось дежурство в эту последнюю мирную ночь. Много было телефонных звонков. Несколько раз за ночь объявляли тревоги – сначала учебную, затем химическую и воздушную. Чувствовалось, что происходит что – то необычайное, но что именно – было непонятно.
Рассвело. Петр вышел из помещения на воздух. Аэродром выглядел пустынным. Все боевые самолеты накануне перебазировались на полевой аэродром. Лишь один истребитель И-16 стоял возле ангара. В субботу на нем прилетел оттуда пилот и сдал машину под охрану караула, «Посторожите, ребята, до понедельника моего «ишака», подрегулировать его малость надо», – шутил рослый, загорелый летчик со шпалой в петлицах и с Золотой Звездой Героя на груди.
Самолет был окрашен в красный цвет. Петр слышал от авиаторов, что красными выпускают первые машины, когда начинают серийное производство новой марки самолетов. В действительности это был отличительный цвет машины инспектора ВВС округа.
Оставив за себя помкомвзвода, Шурлаков решил проехать на окраину аэродрома, где размещался самый отдаленный пост у складов с боеприпасами. Но только шофер завел дежурную автомашину, как выбежавший из караульного помещения Родионов передал указание об объявлении новой тревоги. Собравшиеся по ней бойцы аэродромной команды, отдельные летчики и техники сошлись у здания управления аэропорта. Ждали дальнейших распоряжений или отбоя тревоги, как и предыдущих.
Солнце уже поднялось над горизонтом. Его лучи засверкали на золоченых куполах Киево-Печерской лавры. Шурлаков взглянул на часы – они показывали начало пятого. В этот момент далеко в небе послышался шум моторов. Он доносился не оттуда, где поднималось солнце, озаряя город, его окрестности и спокойную гладь Днепра, а с противоположной, западной стороны. Шум все нарастал, и вскоре можно было различить большую группу самолетов. Они шли правильным строем, заполняя пространство каким-то звенящим, незнакомым гулом.
– Грузно идут, – заметил кто-то из авиаторов. – Видать, где-то маневры…
«Какие маневры? – мелькнула мысль у Шурлакова. – Не было предупреждений ни о каких полетах».
А самолеты уже приближались к Жулянам. Петр чувствовал все большее беспокойство. Что за самолеты? Откуда столько? Вдруг он разглядел черные кресты на фюзеляжах. «Да это же немецкие! Куда они идут? И почему нет никаких сигналов и указаний?»
Шурлаков вбежал в дежурную комнату и принялся звонить по телефону. Но связаться с дежурным, с начальником гарнизона не удалось. И тут он понял, что на него ложится огромная ответственность, что он самостоятельно, на свой риск должен решиться на важный шаг. Медлить нельзя ни минуты. Надо поднять гарнизон, объявить не обычную учебно-тренировочную, а настоящую боевую тревогу. Ведь это не иначе как война. И Петр решился. Властью, данной уставом лицу гарнизонного наряда, он подал по всем каналам команду: «Боевая тревога!» Позднее исполнявший обязанности начальника гарнизона генерал Горрикер одобрил его действия.
Аэродром сразу же стал оживать. Один за другим спешили к месту сбора летчики и техники.
Между тем немецкие самолеты, пролетев над Киевом, начали разворачиваться. И тут все, наблюдавшие за ними, увидели, как от самолетов стали отрываться черные точки и на город, только что просыпавшийся и ничего еще не подозревавший, на аэродром полетели бомбы. На летном поле загрохотали взрывы.
– Это же фашисты! Бить их! – крикнул один из авиаторов, в котором Шурлаков узнал прилетевшего вчера капитана, Героя Советского Союза.
Капитан бросился к своему истребителю и, не успев надеть шлем, вскочил в машину. Буквально в разрывах бомб он взмыл в небо. С земли было видно, как его красный «ястребок» стал приближаться к немецким самолетам, сбросившим бомбовый груз и удалявшимся на запад. Внезапно раздались возгласы:
– Сбил! Сбил!…
Замыкавший строй вражеский бомбардировщик, которого атаковал наш истребитель, резко накренился, задымил и начал падать вниз. Упал он где-то далеко в поле.
Некоторое время спустя был доставлен пленный летчик со сбитого вражеского бомбардировщика. Затянутый в кожу фашист вел себя надменно, ни на кого не смотрел и лишь цедил сквозь зубы:
– Вы обречены… Россия капут…
– Смотрите, какой наглец! – заметил один из присутствовавших при допросе авиационных командиров, – Сам сбит, а нам угрожает.
– Пусть грозит, – сказал начальник гарнизона, окинув взглядом тощую фигуру фашиста. – Мы с них еще сгоним спесь. Еще пожалеют о сегодняшнем дне.
Шурлаков попытался тогда же узнать фамилию отличившегося в первом бою советского летчика, но тот вскоре улетел на другой аэродром. Так и осталось не известным ему имя отважного пилота, пока не встретились на вечере в честь Дня Победы.
* * *
После выступления полковника Шурлакова участники встречи попросили генерала поделиться своими воспоминаниями, подробнее рассказать о своем боевом пути. И вот генерал-майор авиации запаса Иван Иванович Красноюрченко – тот самый летчик, который сбил первый фашистский самолет над украинской столицей, – на трибуне.
– Добавить к тому, что здесь уже было сказано, мне особенно и нечего, – говорит он. – Полковник Шурлаков ярко нарисовал картину тех событий. Могу лишь уточнить некоторые детали. В то утро я, поднятый по тревоге, прибыл на аэродром Жуляны. Когда налетели фашистские бомбардировщики, я сразу же поднялся в воздух. Осмотрелся. Вражеские самолеты, отбомбившись, сомкнулись в плотный боевой порядок и на полном газу стали уходить на запад. Горечь, обида и ненависть охватили меня, и я решительно погнался за ними. Свой истребитель И-16 я любил за хорошую маневренность и мощное скорострельное оружие. На такой машине мне удалось уничтожить не один японский самолет в боях на Халхин-Голе. Но сейчас мой истребитель мучительно медленно догонял противника. Наконец дистанция сократилась до двух километров. Позади строя вражеских самолетов я заметил одиночный бомбардировщик, который летел выше меня. Это был Ю-88, который, по-видимому, задержался, чтобы сфотографировать результаты бомбометания. Принял решение: атаковать его и уничтожить. Набрав высоту, предпринял две атаки – справа и слева. «Юнкерс» стал резко маневрировать, из-под плоскости у него повалил дым. Я еще зашел в атаку, дал очередь. Самолет, объятый пламенем, стал падать. Мне пора было возвращаться – горючее на исходе. И я взял курс на Киев.
– Что было потом? – спросили из зала.
– Потом я улетел в Броды, принял командование истребительным авиационным полком, и начались непрерывные бои. Тот вражеский самолет, сбитый над Киевом 22 июня сорок первого года, открыл мой боевой счет в Великой Отечественной войне. А последний фашистский самолет я сбил в боях над Берлином в сорок пятом.
– Скажите, пожалуйста, звание Героя Советского Союза у вас было еще до войны? – снова раздался вопрос.
– Да, это звание я получил еще за бои на Халхин-Голе, – произнес Красноюрченко. – Я уже говорил, что сбил там несколько японских самолетов, а точнее – девять лично и шестнадцать – в групповых боях. Был также награжден монгольским орденом Красного Знамени, который вручил мне маршал Чойбалсан.
– Постойте, постойте, – заговорил высокий пожилой мужчина, поднимаясь со своего места в первом ряду. – Я помню, что газеты в 1939 году много писали о воздушной части Кравченко, сражавшейся в Монголии, и о храбром летчике этой части Красноюрченко. Значит, вы и есть тот летчик? Очень приятно познакомиться. Мне припоминаются даже некоторые ваши боевые эпизоды, о которых тогда писали: как вы сбили самолет японского офицера и, когда тот спустился с парашютом, приземлились возле него и продолжали бой на пистолетах; как атаковали вражеский бомбардировщик и тоже сбили его, сели рядом с упавшим самолетом, забрали документы и привезли их Кравченко. Были такие дела, товарищ генерал?
– Были, – ответил Красноюрченко, смущенный тем, что люди знают такие подробности из его военной биографии.
* * *
Долго еще продолжалась в тот вечер беседа. Присутствовавшие на встрече воскрешали картины боевого прошлого. Участники войны делились своими воспоминаниями, рассказывали молодежи о суровых боевых годах, о героизме советского народа и его воинов. Генерала Красноюрченко буквально засыпали вопросами, и он старался удовлетворить любопытство всех, рассказать подробно о событиях далеких лет.
Такие встречи у Ивана Ивановича Красноюрченко случались не раз. На протяжении многих лет после войны он вел большую военно – патриотическую работу среди киевлян, выступал перед допризывниками в учебных организациях ДОСААФ, на предприятиях, стройках, в школах. Ему всегда было что рассказать своим слушателям.
Получив боевую закалку еще в довоенное время, он в период Великой Отечественной войны прошел славный и трудный путь. Истребительно-авиационный полк, которым он командовал, сбил за первые пять недель войны двадцать четыре самолета противника. Впоследствии Красноюрченко командовал авиадивизией, защищавшей Сталинград. За время боев на Волге летчики дивизии уничтожили 336 фашистских самолетов, в том числе 216 бомбардировщиков. Семь авиаторов получили звание Героя Советского Союза, а свыше 200 были награждены орденами и медалями. Красноюрченко за те бои удостоился ордена Отечественной войны I степени. Он лично сбил тогда несколько вражеских самолетов. Особенно запомнился ему один воздушный бой. Было это над аэродромом в Морозовске. Только комдив посадил там свой Як-1, как на аэродром налетели гитлеровцы. Красноюрченко сразу же поднялся в воздух и один вступил в бой против «юнкерсов» и «Ме-110», которых оказалось около двадцати. В неравном поединке он сбил вражеский истребитель и сам благополучно приземлился.
После Сталинграда было еще множество воздушных боев. Грудь отважного сокола украсили три ордена Красного Знамени, орден Красной Звезды, медали. Закончил генерал войну в должности заместителя командира корпуса. И не случайно Леонид Ильич Брежнев в речи при вручении городу-герою Киеву медали «Золотая Звезда» в октябре 1965 года назвал Ивана Ивановича Красноюрченко одним из первых в числе киевлян – защитников родного города.
Петр Афанасьевич Шурлаков в войну командовал танковой ротой, воевал на Северном Кавказе, имел ранения. Затем стал журналистом, работал в военной печати. Уволившись недавно из рядов Вооруженных Сил, полковник запаса Шурлаков продолжает большую общественную работу, выступает перед молодежью с воспоминаниями о героизме советских воинов в боях против немецко-фашистских захватчиков.
– Более трех десятилетий прошло с тех пор, как отгремели залпы Великой Отечественной войны, – говорит он, – а все события тех грозных лет и ныне стоят перед глазами. Такое никогда не изгладится из памяти. И хорошо, что не изглаживается. Пусть люди всегда помнят об этом, чтобы не допустить больше ничего подобного.
Танк-мститель
З нойный июльский день 1941 года. Дымящийся пожарищами Минск, в котором хозяйничают гитлеровцы. Они везде: на улицах, во дворах, в скверах. А берег Свислочи буквально усеян ими: одни купаются и загорают, другие тут же развели костры и жарят награбленных у местных жителей кур и поросят. В парке Горького под деревьями сгрудились автомашины, броневики, кухни. Слышатся хохот, крики, пиликанье губных гармошек. «Завоеватели» чувствуют себя в полной безопасности.
И вдруг в самом центре города раздается сильный грохот. Нарастающий шум мотора и орудийно-пулеметная стрельба заполняют все вокруг. Немцы задирают го-лозы кверху: самолеты? Но в безоблачном небе ничего не видно.
– О, майн гот! – несутся возгласы от реки. – Что это?
А грозный рокот мотора и стрельба все ближе. И вот на главную улицу – Советскую – врывается танк. На большой скорости он мчится вперед, грозно лязгая гусеницами по камням мостовой. Его орудие и пулеметы изрыгают огонь.
– Рус панцер!…
Фашисты в панике заметались. Их разгульной безмятежности как не бывало. Купальщики выскакивают из воды и, забывая одеться, бегут кто куда: в кусты, в кювет у дороги. Но никому из них не удается скрыться, смерть настигает их всюду. Какой-то обезумевший от страха гитлеровец пытается влезть в канализационный колодец, да так и повисает в нем, скошенный пулеметной очередью из танка. Другой втиснулся в сломанную водозаборную решетку и тоже получил пулю. Берег реки покрылся трупами захватчиков.
В парке одна за другой запылали автомашины, цистерны. Начали рваться боеприпасы, что еще более усилило панику. Пытавшиеся спрятаться за деревьями фашисты падали, сраженные выстрелами советских танкистов.
За мостом через Свислочь танк столкнулся с колонной вражеских автомашин и разметал их, покорежил, поджег. Потом раздавил несколько мотоциклов вместе с мотоциклистами, спешившими к месту боя. И помчался дальше.
Отважные воины, укрытые броней, не могли видеть, что за ними со слезами радости на глазах наблюдают местные жители. Однако сердцем чувствовали, как много значит их смелый рейд для попавших в неволю советских людей. Те же буквально воспрянули духом, когда поняли, что творится на улицах. То тут, то там из-за заборов и развалин домов выглядывали ликующие лица. Из окон махали танкистам руками: молодцы, мол, ребята, бейте фашистов, крушите их!
Опомнившись, гитлеровцы открыли по дерзкому советскому танку огонь из противотанковых орудий. Но экипаж смельчаков продолжал свое дело. Вдруг над машиной взвился столб дыма и пламени. Она загорелась, но все еще шла вперед.
* * *
Кто же были эти отважные герои? Как сумел одинокий танк среди бела дня ворваться в город, который кишел фашистами, промчаться почти по всему Минску и нанести врагу огромный урон? Что двигало поступками храбрецов, повергших в смятение фашистов и изумивших своей смелостью все население города?
Долгое время эти вопросы оставались без ответа. Никто не знал, откуда появились в Минске на пятый день после его взятия немцами советские танкисты и какова их дальнейшая судьба. Но горожане помнили их подвиг. С годами вокруг него стали складываться легенды, очевидцы рассказывали о нем молодежи, учителя – детям.
* * *
Прошло более двадцати лет. Как-то по белорусскому радио прозвучал рассказ о бесстрашных танкистах и призыв ко всем, кто знает что-нибудь о них, откликнуться. Это занялись поисками героев сотрудники Музея истории Великой Отечественной войны и юные следопыты 40-й минской школы. Они начали активно выступать по радио, телевидению, в местных газетах. И вот удача: на призыв откликнулся один из членов экипажа легендарного танка.
Им оказался рабочий Минского моторного завода, один из активистов заводской организации ДОСААФ Дмитрий Иванович Малько. Это он был механиком-водителем того танка и вел грозную боевую машину по оккупированному фашистами городу. От него стала известной история этого подвига мужественных советских танкистов. Подвига, рядом с которым меркнут самые фантастические легенды.
Автору этих строк довелось встретиться и беседовать с Дмитрием Малько. Я увидел худощавого мужчину. Все лицо у него изборождено морщинами – следы перенесенных за военные годы испытаний. В разговоре он немногословен, во всем чувствуется исключительная скромность. На вопрос, почему так долго не рассказывал о себе, ответил: «А что я особенного сделал, чтобы хвалиться? Просто представилась возможность поколотить фашистов, вот и воспользовался ею. Думаю, что и любой другой на нашем месте поступил бы так же». Между тем у Малько богатая военная биография. Он участник боев в Финляндии и Западной Белоруссии, а также Великой Отечественной войны с первого до последнего ее дня. За отважный рейд по занятому врагом Минску в июле сорок первого года танкист впоследствии был награжден орденом Отечественной войны I степени.
Беседуем о том дерзком и смелом рейде. И постепенно вырисовывается картина величественного подвига горстки советских воинов.
* * *
Когда началась война, старший сержант сверхсрочной службы Малько заведовал хранилищем автобронетанковых запчастей на складе, находившемся недалеко от Минска. Склад решено было эвакуировать. 28 июня, то есть в день прорыва фашистских войск к белорусской столице, личный состав собрал имущество склада и двинулся на восток по Могилевскому шоссе. В составе колонны был и танк Т-28.
Танк этот недавно прибыл из ремонта и стоял на складе. Экипажа для него не было, и вначале хотели оставить его здесь. Но Малько, служивший раньше механиком-водителем, вызвался вести боевую машину.
В пути случилась вынужденная остановка – отказал мотор танка. Чтобы не задерживать всю колонну, Малько решил сам устранить неисправность. Провозился долго, пока ликвидировал поломку. Колонна за это время ушла далеко, и догнать ее уже не было возможности. К тому же, по рассказам двигавшихся по шоссе бойцов, дорогу на Могилев перерезали фашисты.
Так Малько остался один со своим танком. Но бездействовать он не мог. Присоединился к какой-то части и выполнял задания ее командира: ходил в разведку, уничтожал вражеский десант. Потом, когда часть направилась лесом дальше, устроил засаду в кустах возле дороги.
Тут и произошла у него встреча, определившая все дальнейшие действия. Сидя в кустах возле машины, он вдруг услышал:
– Здравствуйте, товарищ танкист!
Вскочил и видит: стоят перед ним пятеро – майор и четыре курсанта. Майор спросил у Малько, кто он и что здесь делает, посмотрел документы и распорядился:
– Отныне, товарищ старший сержант, вы вместе с танком поступаете в мое подчинение.
Задачу объяснил кратко:
– Возле Минска, в болоте, застряли три наших учебных танка. Надо их вытащить.
Сели в машину и двинулись в обратном направлении – к Минску. Но когда подъехали к тому месту, где должны были находиться застрявшие танки, не обнаружили их. Лишь развороченные гусеницами колеи указывали, где стояли машины. Их уже, оказывается, вытащили раньше.
Отвели Т– 28 в лес, переночевали. Наутро майор говорит своему экипажу:
– Ну так вот, товарищи, положение наше трудное. Кругом враги. Надо пробиваться к своим. Можно попытаться пойти тем же путем – по Могилевскому шоссе. А можно и прямо на восток…
– Через Минск? – спросил Малько.
– Да, товарищ старший сержант, вы угадали. Через Минск. Но в нем сейчас полно фашистов.
– Так что же? – опять заговорил Малько. – Фашисты везде. В Минске наше появление будет для них неожиданным. Значит, и бить их там будет легче.
– Правильно говорит танкист, – поддержали курсанты.
– Хорошо, – произнес удовлетворенно майор. – Я тоже так думаю. Ворвемся в Минск и ударим по гитлеровцам, чтобы им жарко стало. Пусть не воображают, что разбили нас. И для населения города это будет огромная моральная поддержка. Проскочим через Минск к Московскому шоссе, а там присоединимся к нашим войскам. Как у вас машина, старший сержант?
– Сейчас вполне исправна, – ответил Малько. – Машина мощная: пушка, пулеметы. Воевать можно. Вот только боеприпасов маловато. Однако я знаю недалеко склад, там остались снаряды и патроны.
– Тогда давайте готовиться, – приказал майор.
Танк внимательно осмотрели, проверили. Затем заехали на покинутый склад, пополнили боезапас и взяли курс на Минск.
Стоял полдень 3 июля 1941 года.
Вот и окраина Минска. На большой скорости танк ворвался в город. У ворот ликеро – водочного завода встретили первую группу гитлеровцев – человек двадцать пять – и расстреляли их из пулеметов. Дальше направились по улице Гарбарной, мимо стадиона, сбивая вражеские заслоны и уничтожая отдельные машины. У Дома Красной Армии танк выскочил на Советскую улицу. Здесь все вокруг было забито живой силой и техникой противника. Не сбавляя скорости танка, экипаж смельчаков вступил в неравный бой с врагом. Малько крепко держал рычаги, ведя машину к мосту через Свислочь. Майор бил в упор из пушки по фашистским автомашинам и танкам, а курсанты из пулеметов косили скопления вражеской пехоты. Пользуясь замешательством противника, наши храбрецы мчались все дальше, давя и расстреливая фашистов. Вырвались на Долгобродскую улицу, и здесь по Т-28 ударила вражеская противотанковая батарея, установленная на кладбище. До Московского шоссе было уже совсем недалеко, когда снаряд угодил в машину. Пройдя еще метров двести, она, объятая пламенем, замерла у Комаровского рынка.
– Покинуть танк! – скомандовал майор.
Курсанты попробовали вылезти через верхний люк, но были сражены бежавшими к танку гитлеровцами.
Малько, раненный осколком в голову, выбрался через передний люк, перемахнул через забор и бросился в сад. Майор выскочил за ним и, отстреливаясь, тоже перебрался в сад. Однако больше его Малько не видел.
В каком– то доме старушка перевязала Дмитрия Ивановича и с наступлением темноты проводила дальше. За городом Малько встретил группу бойцов. Вместе с ними несколько недель пробирался на восток. Вышел к своим войскам в районе Рославля.
Потом Малько участвовал в боях под Москвой, Харьковом, освобождал Минск, воевал на польской земле и встретил победу в поверженном Кенигсберге. Закончил войну гвардии старшим лейтенантом, заместителем командира роты по техчасти. На фронте стал коммунистом.
Фамилий товарищей по экипажу Малько не знал. Помнил, что курсанты были якобы из минского пехотного училища – упоминали они училище в разговорах, но как их фамилии – не спросил тогда. Не узнал он имени и фамилии майора, взявшего на себя командование одинокой машиной и принявшего дерзкое решение – прорываться через занятый врагом город. Не ясна и его судьба – погиб ли он тогда или остался в живых.
В разговоре Дмитрий Иванович высказал предположение, что глава их экипажа был не строевым командиром, а скорее всего политработником, хотя курсанты и называли его «товарищ майор». Малько слышал, как тот несколько раз упоминал политотдел 3-й армии, которая отходила от границы. К тому же и знаки различия у него – два прямоугольника на петлицах – могли означать «батальонный комиссар».
У Малько осталась обгоревшая топографическая карта, врученная ему майором перед рейдом в Минск. На полях карты можно прочитать надписи: «Оперативный отдел, 3 этаж», фамилии: «Михайлов, с-на Сошников, л-нт Волков, Переслов». Что означали эти пометки – фамилии членов экипажа или людей, знавших майора?
Дмитрий Иванович стал часто выступать по радио, в печати. И вдруг после одного из таких выступлений пришло письмо с Украины. Электрик совхоза «Красный забойщик» Криворожского района Николай Евсеевич Педан сообщил, что среди членов экипажа – курсантов – был и он. Вскоре боевые друзья встретились в Минске и узнали друг друга. Состоялось их выступление перед телезрителями. Педан рассказал, что когда танк загорелся, он открыл люк и успел сделать несколько выстрелов из пистолета по бежавшим к машине гитлеровцам. В это время раздался сильный взрыв. Николая Евсеевича контузило. Очнулся он в сарае, какая-то женщина вытирала ему лицо. Только она ушла, в сарай ворвались фашисты, схватили его и увели. Начались допросы, страшные пытки, потом концлагеря. Освобожден он был в 1945 году, служил в артполку, через год демобилизовался.
Так был найден еще один участник героического экипажа. Судьба других осталась неизвестной.
* * *
Знаменательно, что этот подвиг был повторен спустя ровно три года. Только уже не в горькие дни нашего отступления, а во время победоносных боев по освобождению советской земли от фашистских захватчиков.
В ночь на 3 июля 1944 года командир одного из танковых соединений, готовившегося к наступлению на Минск, отдал приказ экипажу танка Т-34 произвести в городе разведку боем. Рано утром 3 июля танк на большой скорости ворвался в Минск. Снова, как и три года назад, грозная советская боевая машина промчалась по улицам занятого врагом города, сея смерть и панику в стане гитлеровцев. А когда взошло солнце, по огневым точкам противника, выявленным нашими танкистами, ударили артиллерия и авиация. Днем советские войска освободили столицу Белоруссии.
Поначалу народная молва связывала воедино оба этих подвига. В легендах рассказывалось о советском танке – мстителе, который снова вернулся в родной город, чтобы покарать фашистов. Утверждалось, что и в первом, и во втором рейде действовали одни и те же люди.
В результате поисков участников обоих рейдов установлено, что во втором случае действовал другой экипаж во главе с гвардии младшим лейтенантом Дмитрием Георгиевичем Фроликовым, которому было присвоено звание Героя Советского Союза. Танк этот и поныне стоит на высоком постаменте возле окружного Дома офицеров как памятник мужества отважных сынов Отчизны. Дмитрий Иванович Малько, хотя и участвовал в освобождении Минска, действовал на другом направлении и вошел в город вместе со всеми нашими частями.
Много времени прошло после тех памятных событий. Малько, работая контролером на моторном заводе, приумножил свою ратную славу успехами в труде. За отличные показатели в работе был награжден медалью «За трудовую доблесть». А сколько раз он выступал с рассказами о ратных делах, о наших славных боевых традициях – и не счесть. Его узнали не только в Минске, но и далеко за пределами республики. Дмитрий Иванович – желанный гость в школах, на сборах юных следопытов, в рабочих коллективах, воинских частях. Часто его можно встретить в первичных организациях ДОСААФ, где он помогает вести оборонно-массовую и военно-патриотическую работу. За ним прочно закрепилось звание – «герой из легенды».
Защитники безымянных высот
Мы не забудем, не забудем
Атаки яростные те
У незнакомого поселка.
На безымянной высоте.
Песня из кинофильма «Тишина» известна всем советским людям. Рассказывает она о действительных событиях. Авторы песни поэт М. Матусовский и композитор В. Баснер посвятили ее бессмертному подвигу горстки героев. Незнакомый поселок – это небольшая деревушка Рубежинка на западе Калужской области. А Безымянная высота – голая, открытая со всех сторон высотка с отметкой 224,1 – находится недалеко от деревни. Сражались здесь воины-сибиряки 718-го стрелкового полка 139-й стрелковой дивизии. Дата подвига – ночь с 13 на 14 сентября 1943 года.
Их было всего восемнадцать. Восемнадцать коммунистов: младший лейтенант Е. И. Порошин, старшие сержанты Д. А. Денисов и Р. Е. Закомолдин, сержанты Н. Ф. Даниленко, Б. Д. Кигель и К. Н. Власов, рядовые Н. И. Куликов, Г. А. Воробьев, Э. А. Липовицер, Д. А. Шляхов, Т. Н. Касабиев, П. А. Романов, Д. И. Ярута, П. Н. Панин, Н. И. Галенкин, А. А. Артамонов, Г. И. Лапин и парторг Е. И. Белоконов.
Они добровольно вызвались выполнить трудную задачу: проникнуть в тыл врага, занять выгодную позицию, а утром, уточнив обстановку, передать по радио данные и помочь наступлению частей дивизии. Задачу воины выполнили, но дорогой ценой.
Незаметно пробрались они в тыл к гитлеровцам, однако здесь были обнаружены врагом. Последняя их радиограмма гласила: «Принимаем бой». Всю ночь дрались смельчаки на высоте 224,1, названной Безымянной. В живых остались только двое, и те уцелели чудом – Г. И. Лапин и К. Н. Власов. Все остальные погибли.
* * *
Один из уцелевших – Герасим Ильич Лапин – подробно рассказывал потом об этом бое.
Родившийся на Орловщине, он в начале войны оказался в Новосибирске. Работал на эвакуированном заводе. Через некоторое время с пополнением сибиряков попал на передовую.
Прибыло их на Западный фронт свыше пятисот человек, все коммунисты и комсомольцы. Часть пополнения была направлена в 139-ю стрелковую дивизию, которой командовал полковник И. К. Кириллов. Лапина зачислили в полк подполковника Е. Салова.
С первого же боевого крещения сибиряки показали себя достойными воинами. Они храбро дрались с врагом, очищая от захватчиков земли Калужской области. Заняли несколько населенных пунктов. Днем и ночью пробивались они на запад, форсируя водные преграды, ломая упорное сопротивление противника.
Недалеко уже была река Десна, а за ней Рославль – крупный узел вражеской обороны. Гитлеровцы переправили через реку тяжелую артиллерию, заняли заранее подготовленные рубежи на этом берегу и готовились к упорному бою. Немецкие радиостанции с тревогой передавали: «В дивизию полковника Кириллова, штурмующую Рославль, прибыло крупное пополнение «русских медведей». Так они называли сибиряков, испытав не однажды силу их ударов.
На пути подразделений 718-го стрелкового полка встала высота 224,1, трижды опоясанная траншеями, насыщенная огневыми средствами. Она господствовала над местностью и являлась ключевой позицией перед Десной. На подступах к высоте разгорелся бой. Противник любой ценой пытался удержать эту важную позицию. Его пушки били прямой наводкой, десятки минометов и пулеметов вели непрерывный огонь. Четыре раза с бешеным воем бросались гитлеровцы в контратаку. Советские воины отбрасывали их обратно в траншеи. Как только захлебнулась последняя вражеская контратака, поднял своих бойцов коммунист старший сержант Даниил Денисов.