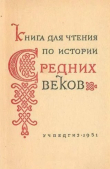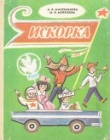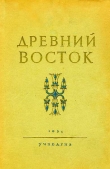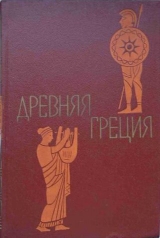
Текст книги "Древняя Греция. Книга для чтения. Под редакцией С. Л. Утченко. Издание 4-е"
Автор книги: Сергей Утченко
Соавторы: Елена Штаерман,О. Юлкина,Ирина Шишова,Борис Селецкий,Соломон Лурье,Александра Нейхардт,Марк Ботвинник,Дмитрий Каллистов
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 24 страниц)
Когда Дорион кончил свой рассказ, Хрисипп сказал: «Твой брат больше никогда не сможет получить ссуду ни у одного ростовщика Греции. Об этом я позабочусь. Но в Афинах у него имущества не больше чем на обол. Он все распродал перед отъездом, чтобы получить три тысячи драхм. Ты поручитель. Свой долг я взыщу с тебя».
Стратон понимал, что, если дело дойдет до суда, по судебному приговору все его имущество будет продано с торгов полетами – должностными лицами, ведавшими продажей имущества осужденных.
По афинским законам, прежде чем подать жалобу, сам обвинитель должен вызвать обвиняемого на суд. Но вызвать нужно обязательно вне дома, так как дом афинского гражданина – его неприкосновенное убежище.
Долгие дни Стратон отсиживался, не выходя на улицу и выслушивая бесконечные упреки Клеи. Но суды по торговым делам заседают с осени и до весны – до начала новой навигации. Столько времени дома высидеть невозможно. А Хрисипп устроил настоящую осаду. Он поджидал Стратона со свидетелями всюду и наконец поймал его. Попытки кончить дело миром – Стратон предлагал ему тысячу драхм – ни к чему не привели.
Ростовщик подал жалобу особым чиновникам – фесмофетам. Эти шесть архонтов-фесмофетов должны рассмотреть дело, собрать все документы и свидетельства. Через 30 дней дело, как обычно, слушается в народном суде – гелиэе. Стратона будут судить несколько сот присяжных из 6000, избранных народом. Представителем фесмофетов будет один из разбиравших дело на предварительном следствии. Какой именно? Не все ли равно. Ведь у Хрисиппа много свидетелей, которые докажут, что Эратосфен нарушил сделку, заключенную при его, Стратоне, поручительстве. Правда, один из свидетелей самой сделки, Конон, в прошлом месяце внезапно умер. Но жив Гиблесий. А главное – существует договор, на котором стоит подпись Стратона. Правда, Стратон слышал о том, что Хрисипп не представил судьям договор для снятия копии. В этом было что-то странное. Но все равно договор существует. А стало быть, надежды для Стратона нет.
В суд ему не хотелось идти, но жена выпроводила его из дома. Когда Стратон пришел, на деревянных скамьях за перегородкой уже сидели присяжные – гелиасты. Каждый из них при входе получил свинцовый жетон. После заседания, при выходе, в обмен на этот жетон он получит 3 обола. В Афинах судьи получали плату за участие в заседаниях суда. На возвышенном месте сидел архонт-фесмофет, а около него – секретарь. Тут же стоял большой глиняный сосуд, в котором до суда хранились запечатанными свидетельские показания и документы, относящиеся к делу. На суд собралось много народу, чтобы узнать, чем кончится это дело.
Стратон занял место, предназначенное для обвиняемого. Хрисипп тоже сел на отведенную ему скамью. По знаку председателя присутствующие стали молиться о том, чтобы с помощью богов все было решено хорошо и справедливо. После молитвы встал секретарь и громко вызвал истца – метека Хрисиппа и ответчика – Стратона, сына Стратона.
Стратон слушал невнимательно. Проиграет он наверняка. Скорее бы все кончилось.
Слово было предоставлено истцу. Хрисипп, красный и потный, взошел на особое возвышение и начал речь, составленную для него знаменитым оратором.
Хрисипп рассказал о том, что прежде сам был купцом, плавал по морю и подвергал свою жизнь опасности, но вот уже семь лет, как он зарабатывал себе на жизнь морскими ссудами – давал деньги купцам для морской торговли.
Затем Хрисипп перешел к обвинению: «Я расскажу, судьи, о случившемся по порядку. Мой должник, Эратосфен, пришел ко мне вот с этим Стратоном». При каждом упоминании его имени Стратон слегка вздрагивал. Он тоскливо думал о том, что Хрисипп может добиться, чтобы до оплаты долга его посадили в тюрьму.
По просьбе Хрисиппа секретарь вынул из сосуда и громко прочел свидетельство Гиблесия. В толпе слушателей начался неясный гул. Но Хрисипп продолжал свою речь еще увереннее. Он рассказал о нарушении договора, и секретарь прочел свидетельские показания одиннадцати пассажиров о злодеянии Эратосфена. В толпе раздались крики: «Погубить корабль – это не шутка! Проклятый мальчишка!»
Хрисипп ободрился, он чувствовал, что завоевал симпатию присутствующих. А для него – метека – это нелегко. Голос его звучал громко и уверенно: «Не забывайте, судьи, что теперь, решая эту тяжбу, вы решаете дела своего рынка. Ведь без ссуд ни один торговый корабль не выйдет из гавани. Если вы накажете тех, кто нарушает договоры о морских ссудах, то ростовщики охотно будут ссужать свои деньги и рынок ваш будет процветать».
Что и говорить, речь была составлена мастерски. Толпа шумно одобряла ее. Но тут, к общему удивлению, поднялся председатель. «Хрисипп, – сказал он, – ты говоришь нам о договоре, в котором Стратон записан как поручитель. Но на предварительном следствии ты не дал нам для снятия копии ни договора, ни свою книгу, в которую ты записываешь все о ссудах. Ты опираешься только на свидетельство Гиблесия. Что же с твоим договором?» Как сразу изменился Хрисипп! Он побледнел, и голос его задрожал так, что ответ был едва слышен: «Договор и книга, в которой я записал ссуду, украдены».
Украдены! Стратон почувствовал, что плечи его распрямились. Договора нет! Он спасен! Едва дождавшись слов: «Выслушаем ответчика», Стратон почти побежал к возвышению, откуда, еле волоча ноги, сходил Хрисипп.
– О судьи, – голос Стратона креп с каждым словом, – вы слышали здесь, как этот метек поносил афинского гражданина? Он говорит, что я был вписан поручителем в его договор с Эратосфеном. Но где же сам договор? Потребуйте его. Для чего люди заключают договоры и скрепляют их печатью? Для того, чтобы, если возникает какое-нибудь недоразумение, обратиться к записанному и представить доказательства своей правоты. Он говорит, что я был поручителем? Из чего это следует? Из договора? Так неси его сюда, Хрисипп, не мешкай! Ты молчишь? Ты сказал, что договор украден? Но послушайте дальше, о судьи. О моем поручительстве свидетельствовал Гиблесий. Но вы же слышали, судьи, как говорили свидетели, что этот Гиблесий злоумышлял вместе с моим братом потопить корабль. Здесь же, в Афинах, он отказывался быть свидетелем на суде. И лишь когда ему пригрозили штрафом за уклонение от показаний, он пришел к фесмофетам. Свидетельствовал Гиблесий, который сам занял деньги под корабль и лишился его, потому что не выполнил договора!
После этого Стратон набросился на самого Хрисиппа: «Он говорил о своих заслугах перед городом? А сказал ли он, сколько нажил, живя здесь, в Афинах, и пользуясь нашим рынком?» Стратон упомянул и о своих заслугах во время Священной войны: «С каких пор заслуги воина ценятся ниже заслуг ростовщика?»
С поднятой головой Стратон прошел на свое место. Он ликовал. Афинские судьи, конечно, оправдают его, афинского гражданина. Он покажет жене на что способен.
Председатель объявил о начале голосования, и судьи, обсуждая процесс, направились к урнам. Каждый из них должен был бросить один камешек: белый – в металлическую урну или черный – в деревянную. Если окажется, что белых камешков больше – Стратон оправдан, если черных – виновен.
Когда все судьи проголосовали, урны опрокинули на мраморный стол. Председатель подсчитал камешки и поднялся, чтобы объявить о результатах голосования. В напряженной тишине прозвучали слова председателя: «Стратон, сын Стратона, невиновен».
У Стратона мелькнула мысль, что оправдания он добился нечестным путем. Но тут же он утешил себя тем, что под суд он попал тоже несправедливо. В его беде был виноват Эратосфен.
Не поверь он брату, ему не пришлось бы лгать и обманывать.
Домой Стратон летел как на крыльях. Он вбежал в небольшой внутренний дворик. Клея сидела у жертвенника Зевсу. Она молилась об исходе дела.
«Я выиграл, Клея, выиграл! С этим процессом покончено. Но ты послушай!» – Стратону хотелось рассказать, как ловко он вывернулся. Но что это? Лицо жены было сурово. Она открыла двери одной из комнат. Оттуда вышли двое. Что это за люди? На них такие лохмотья, которые стыдно надеть и рабу. Один из них крив. Вытекший глаз как будто подмигивает и придает физиономии отвратительное выражение. У второго нос свернут на сторону, словно вынюхивает что-то, голову он держит набок. У обоих испитые лица. Стратон остолбенело глядел на них.
«Уплати им, – сказала Клея небрежно, – это воры, пробивающие стены домов. Они для тебя украли договор у Хрисиппа. Вот он!» Помолчав, она добавила: «На этот раз я вытащила тебя из силков. В следующий раз, когда ты захочешь снова иметь дело с ростовщиками, проси, чтобы боги наделили тебя умом и хитростью. Честному человеку на афинском рынке не сдобровать».
Битва при Херонее
(С. Л. Утченко)
Был вечер, когда уставший гонец прискакал в Афины и сообщил, что войска македонского царя Филиппа вторглись в Среднюю Грецию и угрожают Афинам. Страшная опасность нависла над Грецией, и прежде всего над Афинами. Члены афинского Совета совещались недолго. Они направились на рыночную площадь города, вызвали всех людей из лавок, и затем по их приказу лавки были подожжены. Зарево пожара должно было послужить сигналом для жителей окрестных селений, по которому они обязаны поспешить в город. Одновременно было отдано распоряжение глашатаям и трубачам всю ночь обходить город и объявлять о созыве народного собрания.
Рано утром сошлись афиняне на народное собрание. Когда они узнали, какое известие принес гонец, воцарилось тягостное молчание. Уже несколько раз глашатай обращался с вопросом: «Кто желает говорить?», но народ, подавленный страшной вестью, молчал. Никто еще не собрался с мыслями и не мог внести предложение о том, как следует поступить, чтобы предотвратить нависшую над родным городом угрозу. Взоры всех присутствующих были обращены к знаменитому афинскому оратору Демосфену. Все знали его как горячего патриота и заклятого противника македонского царя Филиппа. Демосфен, видя, что собравшиеся с нетерпением ждут его совета, попросил слова. В своей речи он призвал граждан быть мужественными и доказывал, что положение вовсе не безнадежно. Он советовал направить посольство в крупный город Фивы и предложить фиванцам союз. Одновременно следует, говорил Демосфен, послать войско к границам Аттики, чтобы все, в том числе и Филипп, поняли, что афиняне собираются защищать свою свободу и независимость.
Страстная и убежденная речь Демосфена вернула мужество афинянам. Все его предложения были приняты; в Фивы направили посольство, в состав которого вошел и Демосфен.
Демосфен был крупным политическим деятелем и одним из самых выдающихся греческих ораторов. Он с детства стремился к изучению красноречия – искусства, которому древние греки придавали очень большое значение. Рассказывают, что еще мальчиком он как-то раз в суде слышал речь известного оратора и пришел в такой восторг, что решил сам во что бы то ни стало сделаться оратором. Однако это было не так просто. В Афинах, где искусство красноречия было высоко развито и где ежедневно выступали опытные ораторы, публика была очень требовательна и избалована. Каждое неудачное слово, каждое неловкое движение вызывало у слушателей смех, который нередко заставлял оратора покидать трибуну. Оратор должен был иметь громкий, звучный голос, правильный выговор и чистое произношение.
Казалось, у Демосфена нет никаких данных, чтобы стать оратором. Болезненный от природы, он имел чрезвычайно слабый голос, слегка заикался и картавил, кроме того, у него была привычка подергивать плечом. Поэтому, когда Демосфен выступил в первый раз в народном собрании с большой речью, начался такой сильный шум, что ему пришлось замолчать и сойти с трибуны. Вторая его попытка выступить с публичной речью также окончилась неудачей. Упавший духом, закрыв лицо, чтобы не попадаться на глаза знакомым, спешил он домой и сначала даже не заметил, что следом за ним шел один из его друзей, известный афинский актер. Вскоре он нагнал Демосфена, и они пошли вместе. Демосфен начал жаловаться другу на свои неудачи, говорил, что народ, очевидно, не ценит и не понимает глубокого содержания его речей. «Все это так, – ответил Демосфену актер, – но я попробую помочь твоему горю. Прочти мне какой-нибудь отрывок из трагедии Софокла или Еврипида». Демосфен прочел. Когда он окончил, актер продекламировал то же самое, но с такой выразительностью голоса и жестов, что Демосфену показалось, будто он слышит совсем другие стихи. Он понял теперь, чего ему не хватает, и с усердием взялся за работу.
Прежде всего Демосфен принялся изучать греческую литературу и историю. Особенно тщательно он изучал произведения историка Фукидида. Он слушал лекции философа Платона, считавшегося замечательным мастером слова. Затем Демосфен всерьез взялся за укрепление своего голоса и улучшение произношения. Он приучил себя громко декламировать, когда всходил на гору или прогуливался по берегу моря, причем старался перекрыть своим голосом шум волн. Чтобы добиться полной чистоты произношения, Демосфен набирал в рот камешки и старался говорить ясно и громко.
После долгих и упорных усилий Демосфен достиг своей цели и стал выдающимся оратором. Когда ему исполнилось тридцать лет, он начал принимать участие в политической борьбе и всю силу своего ораторского таланта обратил против того, кого считал самым опасным врагом Афин и всей Греции, – македонского царя Филиппа.
Македония находилась на севере Балканского полуострова. Еще недавно она была слабой и отсталой. Однако постепенно Македония становилась крупным государством. При царе Филиппе II, который вступил на македонский престол в 359 г. до н. э., Македонское государство было уже грозной силой.
Филипп ввел новое устройство македонской армии. Воины строились в колонну в 16, а иногда и больше рядов. Они были вооружены громадными щитами, закрывающими все тело, мечами и длинными копьям, которые назывались сариссами. Сариссы достигали в длину пяти и более метров, поэтому воины задних рядов клали свои копья на плечи передних. Таким образом, передние ряды оказывались защищенными несколькими рядами выставленных вперед копий.
Сомкнутая масса воинов, закрытых щитами, ощетинившаяся копьями и двигавшаяся как единое целое, представляла собой в те времена почти несокрушимую силу. Этот строй назывался македонской фалангой. Гордостью македонского войска была и тяжелая конница, носившая панцири. Здесь служила македонская знать – «товарищи царя». Впервые при Филиппе в македонском войске начали применять боевые машины для осады крепостей. Был создан флот.
Филипп II вел войны и значительно расширил границы Македонского государства, подчинив ряд племен, живших на севере Балканского полуострова. Часто он достигал успеха путем переговоров, не брезгал подкупом родовой знати, продававшей независимость своего племени за богатые дары македонского царя.
Когда Македония стала могущественным и богатым государством, Филипп II задумал захватить Грецию. При этом Филипп удачно использовал внутренние раздоры среди греческих государств. Сначала ему удалось подчинить Фессалию и утвердиться в Северной Греции. Но это было только начало.
В самой Греции не было единодушия, и поэтому греки не могли дать Македонии дружного отпора. Некоторые греческие государства, враждуя друг с другом, сами обращались к Филиппу за помощью и были готовы признать его власть. И в Афинах, и в других греческих государствах шла жестокая борьба между богатыми и бедными. Бедняки требовали отобрать и разделить имущество богачей, и в некоторых городах дело дошло до открытых столкновений. Не удивительно, что находились люди, которые иногда прямо говорили, что лучше подчиниться власти македонского царя, чем продолжать бесконечные распри. Это были главным образом богатые рабовладельцы и торговцы, считавшие, что, признав власть Македонии, они смогут спокойно владеть своим имуществом. Если македонское войско займет Грецию, оно не допустит никаких восстаний, не допустит и войн между греческими государствами. Прекращение этих войн будет способствовать развитию торговли, а это выгодно купцам и вообще богатым людям.
Во главе антимакедонской партии встал Демосфен. Он не раз выступал в народном собрании с речами, стараясь разжечь в афинянах патриотические чувства. Он говорил, что необходимо объединить все силы для борьбы с македонским царем, который готовит грекам порабощение. Речи Демосфена, направленные против Филиппа Македонского, стали называться Филиппиками. Филиппикой и у нас называют горячую, страстную речь.
Сначала Демосфену было трудно вести борьбу с богатыми и влиятельными сторонниками македонского царя, но когда македонские войска захватили Фессалию, настроение афинян резко изменилось. Большинство граждан поняло, что владычество македонян уничтожит демократические порядки, которые еще сохранились в Афинах, и решило отстаивать независимость своей родины. Сторонников Македонии предали суду. Афиняне стали готовиться к решительному отпору. Это было время наибольших успехов и славы Демосфена. Он становится руководителем Афинского государства. Ему удается снова укрепить морской флот – главное оружие афинян – и добиться решения народного собрания о том, чтобы государственные доходы шли на военные нужды. Демосфен пытался создать общегреческий союз против Македонии и сам посетил ряд греческих государств, призывая их объединиться с Афинами.
В это время в Афины неожиданно пришло взволновавшее всех известие: взят и разрушен город Амфисса! Войска Филиппа – в Средней Греции! Наступал решающий момент борьбы.
Когда Демосфен во главе афинского посольства прибыл в Фивы, чтобы предложить фиванцам союз против македонского царя, оказалось, что Филипп опередил его. Здесь уже находились македонские послы, которые не скупились на самые щедрые обещания. Однако Демосфен добился блестящего успеха. Его речи о чести и славе Греции, о необходимости дать отпор общему врагу решили дело: фиванцы стали на сторону афинян.
В первых числах августа 338 г. до н. э. около города Херонеи произошло решающее сражение. Объединенные силы греков встретились с македонским войском. Греки превосходили своего противника численностью.
Оба войска на рассвете выстроились в боевом порядке. Правым крылом македонского войска командовал Филипп, левым – его восемнадцатилетний сын, будущий великий полководец Александр. Началось яростное сражение. Долгое время нельзя было понять, на чьей стороне окажется победа. Первым решающего успеха добился Александр: воины, находившиеся под его командованием, нанесли сокрушительный удар «священному отряду» фиванцев. На том фланге, которым командовал Филипп, афинянам удалось прорвать ряды македонян и потеснить их. «За мной! – вскричал афинский военачальник Лисикл, – победа наша! Прогоним этих несчастных обратно в Македонию!» Упоенные успехом, наступающие афиняне расстроили свои ряды. «Неприятель не умеет побеждать», – сказал Филипп, который наблюдал с высоты за ходом боя. Он быстро перестроил свою фалангу и снова ударил по афинянам. Вскоре все греческое войско обратилось в беспорядочное бегство…
Позднее на месте битвы был воздвигнут памятник павшим в сражении фиванцам – Херонейский лев.
Битва при Херонее решила судьбу Греции. Греки надолго потеряли свою свободу и независимость. Всюду власть переходила в руки немногих богачей, сочувствовавших Македонии. Хотя Афины и не были разрушены, афинской демократии пришел конец. Богатые граждане могли теперь не опасаться за свое имущество. Филипп запретил во всех греческих государствах отбирать имущество богатых, производить передел земли, отменять долги и освобождать рабов. Богатые рабовладельцы предали свою родину, и Филипп мог полновластно распоряжаться в Греции. На следующий год он созвал в городе Коринфе общегреческий съезд, на котором было принято решение о «вечном мире и союзе» между всеми греческими государствами и Македонией. Македонский царь назначался верховным командующим объединенными военными силами. На этом же съезде было принято решение о войне с Персией.
Юность Александра Македонского
(С. Л. Утченко)
Македонскому царю Филиппу предложили купить прекрасного, но необъезженного коня Буцефала. Испытание коня было назначено за городом, на широкой равнине. Сам царь, окруженный пышной Свитой, присутствовал на нем. Однако испытание оказалось неудачным. Лучшие ездоки пытались справиться с Буцефалом, но безуспешно. Конь сбрасывал каждого, кто пытался на него сесть.
Раздраженный Филипп приказал увести коня. Тогда сын царя Александр с горечью воскликнул: «Какого великолепного коня теряют из-за трусости и неумения его объездить!» Филипп сердито сказал сыну: «Почему ты высмеиваешь старших за то, чего сам не в состоянии сделать?» – «Если ты только позволишь, – уверенно отвечал мальчик, – я его объезжу!» Все присутствующие рассмеялись, они отнеслись к ответу мальчика, как к веселой шутке. Филипп, улыбаясь, дал сыну разрешение.
Александр между тем смело подошел к Буцефалу, схватил его под уздцы и повернул головой против солнца: он заметил, что лошадь пугается своей собственной тени. Потом мальчик стал ласкать и гладить коня и вдруг в одно мгновение очутился на нем. Конь стал на дыбы, начал вертеться и бить ногами, пытаясь сбросить седока. Но Александр сидел на коне крепко. Тогда Буцефал стрелой помчался по равнине и скоро скрылся из глаз вместе с всадником.
Филипп и все присутствовавшие были в отчаянии, считая, что мальчик погиб. Каковы же были их изумления и радость, когда через некоторое время они снова увидели Александра на взмыленном Буцефале, который во всем слушался своего седока.
Когда Александру исполнилось тринадцать лет, Филипп пригласил для воспитания сына знаменитого греческого ученого и философа Аристотеля. Аристотель принял приглашение и три года прожил с Александром в маленьком македонском городке, вдали от царского двора. Нелегко было Аристотелю сладить со своим воспитанником. Александр рос упрямым и своенравным мальчиком. Уже в это время в его характере появились те черты, которые особенно ярко обнаружились впоследствии: смелость, доходящая до безрассудства, вспыльчивость, упрямство и непомерное честолюбие. Когда до Александра доходили известия о новых победах отца, юноша с завистью восклицал: «Мой отец ничего не оставит на мою долю!»
Аристотель старался привить своему ученику любовь и уважение к греческой культуре. Любимым произведением Александра стала «Илиада», поэма великого Гомера. Свиток «Илиады» он всегда держал под подушкой, а излюбленным его героем был Ахилл.
Александру исполнилось шестнадцать лет, когда Филипп отправился в длительный поход против города Византия и оставил сына вместо себя управлять государством. За это время Александру пришлось выступить походом против одного из племен, поднявшего восстание против Македонии.
Поход был удачен: македоняне захватили и разрушили главный город этого племени. В восемнадцать лет Александр командовал левым флангом македонских войск в знаменитой битве при Херонее.
В 336 г. до н. э. погиб Филипп. Александру только что исполнилось двадцать лет. Молодой царь попал в трудное положение. Как только в Греции узнали о смерти Филиппа, там снова появились надежды освободиться от македонского ига. Демосфен в праздничной одежде, с венком на голове явился на заседание афинского Совета и поздравил всех с радостным известием. Александра он презрительно называл мальчишкой.
Узнав об этом, Александр воскликнул: «Под стенами Афин я докажу им, что я уже не мальчишка!» Не успели греки опомниться, как войско Александра оказалось в Средней Греции, недалеко от Фив. Идти походом на Афины уже оказалось ненужным, так как афинские правители направили к Александру посольство, умоляя о прощении.
Тогда Александр по примеру своего отца собрал общегреческий съезд, на котором его провозгласили верховным командующим объединенными греко-македонскими войсками.
Во время пребывания Александра в Коринфе там находился известный философ Диоген, который проповедовал, что человек, если он хочет быть счастлив, должен довольствоваться малым. Поэтому Диоген даже не имел жилища в доме, а жил в большой бочке, его тело было прикрыто изодранным плащом. Слава о Диогене, о его учении и образе жизни широко распространилась среди греков. Александру захотелось увидеть философа и побеседовать с ним. Окруженный пышной свитой, он отправился к Диогену и застал его лежащим перед своей бочкой и греющимся на солнце. Диоген немного привстал. Александр долго беседовал с ним, а в заключение спросил: «Могу ли я сделать что-нибудь для тебя?» – «Конечно, – ответил Диоген, – вот посторонись немного и не заслоняй мне солнца!» Все присутствующие расхохотались, но Александр обернулся к ним и сказал: «Если бы я не был Александром, то желал бы быть Диогеном!»
Когда Александр вернулся в Македонию, ему пришлось вести войну на севере Балканского полуострова. Жившие там племена, покоренные в свое время Филиппом, теперь готовились к восстанию и даже к вторжению в Македонию. Александр выступил со своим войском и почти год провел на севере полуострова. Он покорил иллирийские племена, а фракийцев оттеснил до Дуная. В одном из сражений Александр был ранен. Распространился слух о его смерти. Когда этот слух дошел до Греции, греки решились на отчаянную попытку освободиться от македонского господства. В городе Фивах, где находился небольшой македонский гарнизон, началось восстание. Фиванцы обратились ко всем грекам с предложением присоединиться к ним и совместными усилиями сбросить ненавистное македонское иго. Хотя афиняне колебались и не решались еще открыто выступить на стороне Фив, тем не менее положение было очень серьезным. Александр узнал о событиях в Греции и быстро двинулся со своим войском на юг. Менее чем через две недели он очутился под стенами Фив. Пораженные фиванцы не верили своим глазам, когда увидели македонское войско и самого Александра: они ведь считали его убитым. Александр предложил осажденным сдаться и обещал им прощение, если они выдадут руководителей восстания. Фиванцы ответили отказом. Они не хотели предать своих руководителей и надеялись, что воспитанный греком Аристотелем Александр не решится разрушить один из стариннейших и славнейших городов Греции.
Но Александр в своих честолюбивых замыслах не остановился перед неслыханной жестокостью. Фивы были взяты штурмом и превращены в груду развалин, а все жители проданы в рабство. Александр не щадил ни исторических памятников, ни знаменитых ученых. Впервые полностью раскрылся его характер неумолимого завоевателя, не останавливающегося ни перед какими разрушениями для достижения поставленных перед собой целей. А целью Александра было, удержав в своей власти греческие государства, начать завоевание некогда великой персидской монархии, которая к этому времени значительно ослабела. В Греции замыслы Александра встретили сочувствие у богатых рабовладельцев. Они надеялись, что с Александром в поход из их родных городов уйдут и те бедняки, которые, требуя себе пропитания, грозили отобрать у богачей имущество.
Вот почему, опираясь на поддержку богатых людей, Александр смог быстро сломить сопротивление в остальных городах Греции, даже не прибегая к таким жестоким мерам, как в Фивах.