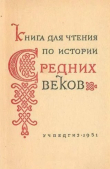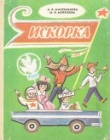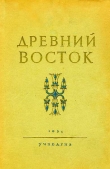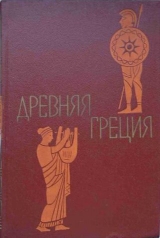
Текст книги "Древняя Греция. Книга для чтения. Под редакцией С. Л. Утченко. Издание 4-е"
Автор книги: Сергей Утченко
Соавторы: Елена Штаерман,О. Юлкина,Ирина Шишова,Борис Селецкий,Соломон Лурье,Александра Нейхардт,Марк Ботвинник,Дмитрий Каллистов
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 24 страниц)
Афины при Перикле
(Д. П. Каллистов)
– Напрасно полагаешь, Перикл, что, подлаживаясь к народу, ты можешь подорвать влияние Кимона! Нужно быть последним глупцом, чтобы надеяться на это!
Так кричал аристократ Кинофил, неотступно следуя за Периклом, шедшим своей обычной дорогой из Совета пятисот домой.
– Стыдись, безумец! Ты человек знатного рода, твой отец разбил персов, а ты, забыв своих друзей, кривляешься на потеху подлой черни!
Перикл не отвечал. Он молчал всю дорогу, слушая визгливые крики Кинофила, а когда они дошли до дома, спокойно позвал раба и приказал ему, взяв факел, проводить грубияна домой.
Не было в те времена человека более известного, чем Перикл. Его противники говорили, что в Афинах демократия существует только по имени, на самом же деле там правит «первый из граждан» – Перикл. Многих удивляло, что он примкнул к народной партии. Ведь он происходил из знатного аристократического рода. Отец его Ксантипп прославился как победитель персов в морском сражении при мысе Микале, совпавшем со знаменитой победой при Платеях.
Всем было известно, что Перикл знал в Афинах только одну дорогу – ту, которая вела на площадь, к зданию, где заседал Совет пятисот. Он редко ходил на пиры и на обеды и только один раз за тридцать лет принял приглашение и пришел на свадьбу своего родственника, но пробыл там недолго и ушел перед тем, как гости начали пить вино. Перикл не часто выступал перед народом, чтобы каждое его выступление было важным событием, которое надолго бы оставалось в памяти слушателей. Перикл гордился тем, что никогда не терял самообладания, не поддавался чувству гнева. Вот почему он не ответил ни одним словом на оскорбления Кинофила.
Аристократы терпеть не могли Перикла. Смеялись над его головой, похожей на луковицу; говорили, что лицом он вылитый тиран Писистрат, возмущались, что народ наделил его прозвищем «Олимпиец» за те громы и молнии, которые он обрушивал в речах на своих врагов. Ненавидели они и его жену, уроженку Милета, Аспасию, женщину умную и образованную, собиравшую около себя самых выдающихся ученых и философов того времени.
По афинским законам брак с гражданкой другого города не признавался законным. Перикл предложил не считать полноправными гражданами детей, родившихся от такого брака. Впоследствии он сам стал жертвой этого закона, так как его сыновья от первого брака с афинянкой умерли, а оставшийся в живых сын Аспасии не считался гражданином Афин. Только ввиду особых заслуг отца народ принял сына Аспасии и Перикла в число граждан.
Когда Перикл начинал свою деятельность в Афинах, во главе государства стоял аристократ Кимон, сын Мильтиада, известный полководец, одержавший много побед над персами. Но преклонение Кимона перед аристократической Спартой сделало его имя ненавистным народу, хотя он тратил огромные средства на угощение бедняков, стараясь привлечь их на свою сторону.
Однажды в Спарте произошло сильное землетрясение. Город был почти полностью разрушен, многие спартанцы погибли. Воспользовавшись этим, восстали илоты и стали убивать уцелевших спартанцев.
Царь Архидам с трудом собрал войско, чтобы отразить нападение илотов. Тогда илоты тоже организовали свое войско и начали упорную войну. К илотам примкнули периэки – жившие вокруг Спарты ремесленники и торговцы.
Спартанцы оказались в отчаянном положении и обратились за помощью в Афины. Спартанский посол сидел бледный, в позе молящегося у алтарей афинских богов и просил оказать Спарте военную поддержку.
Бурным было народное собрание, на котором обсуждался этот вопрос. Ближайший соратник Перикла Эфиальт резко выступал против посылки войск в Спарту. «С какой стати, – говорил он, – должны Афины помогать своему извечному врагу; пусть лежит раздавленный во прахе, тем лучше для афинского народа». Но Кимон горячо поддержал просьбу спартанцев. «Надо помочь, – сказал он, – второму крупнейшему государству Эллады: ведь если оно погибнет, Греция охромеет, потому что единственной ее опорой будут Афины».
Мнение Кимона взяло верх. Как ни гордились афиняне своей демократией, но народом они ведь считали только свободнорожденных граждан. Рабы должны трудиться и повиноваться, и если илоты в Спарте победят, как бы афинские рабы тоже не взялись за оружие. Афиняне решили послать на помощь спартанским рабовладельцам отряд своих воинов. Когда афинский отряд прибыл в Спарту, спартанцы были заняты осадой горы Итомы, где укрепились илоты. Сперва спартанцы радостно встретили афинян, но так как осада не имела успеха, стали вскоре относиться к ним недоверчиво. Они знали, что афиняне гораздо лучше их умеют брать укрепленные города, и теперь думали, что те просто не хотят показать все свое умение и помочь им по-настоящему. «Да и чего ждать от этих демократов, – говорили спартанцы, – конечно, афиняне не хотят ничего для нас сделать. Того и гляди они перейдут на сторону мятежников: ведь для них простой человек лучше знатного». Дело кончилось тем, что спартанцы предложили афинянам удалиться к себе домой.
В Афинах были страшно оскорблены таким недоверием. Это привело к окончательному разрыву между Афинами и Спартой. Кимон, сторонник Спарты, был изгнан остракизмом.
В то же время Перикл и Эфиальт делали все возможное, чтобы окончательно сломить влияние аристократов в Афинах. Главным оплотом знати оставался ареопаг. И вот, чтобы подорвать его влияние, они начали возбуждать обвинения против членов ареопага. Они доказывали, что ареопагиты злоупотребляют своей властью и злоумышляют против народа. В конце концов Перикл и Эфиальт добились того, что основные права ареопага были переданы народному собранию, Совету пятисот и суду присяжных. Собрание афинских граждан стало верховным органом государства.
Вскоре, после того как были проведены эти постановления, Эфиальта нашли убитым в его доме. Смерть Эфиальта вызвала страшное возбуждение в народе. Враги Перикла пытались бросить на него тень подозрения. «Это он, – говорили они, – тщеславный, не терпящий соперников, расправился со своим другом, завидуя его популярности». Но эта клевета никого не убедила. Вскоре стало известно, что Эфиальт пал жертвой мстительных аристократов, и народная ненависть к ним еще больше усилилась.
Новый глава аристократов – Фукидид нападал на Перикла за то, что тот расходует деньги союзников на великолепные постройки. Но Перикл доказывал, что Афины достаточно сильны и богаты и могут себе позволить украшать свой город и давать работу ремесленникам. Народ поддержал Перикла, и Фукидид был вскоре подвергнут остракизму.
С тех пор Перикл стал самым влиятельным политическим деятелем в Афинах. Ежегодно он избирался в стратеги и руководил важнейшими делами государства. Деятельность Перикла отражала интересы большинства афинских граждан. Этим и объясняется доверие к нему граждан и успех его политики.
При Перикле Афины достигли наибольшей мощи и расцвета. Лучшие скульпторы и художники украшали их, самые знаменитые ученые и философы вели здесь беседы и открывали свои школы. Афинский театр стал лучшим в Элладе, и на театральные представления стекались зрители из самых отдаленных городов.
Перикл задумал возвести новые здания на акрополе, и этот план был выполнен в короткий срок. Сотни кораблей доставляли в Пирей грузы – ослепительно белый, золотистый, серый, голубой и лиловый мрамор, драгоценную древесину кипариса, черного дерева, тиса, слоновую кость, медь, бронзу, золото. Тысячи каменотесов, столяров, резчиков по камню и дереву, ювелиров, грузчиков, литейщиков от зари до зари трудились на акрополе. Работами руководили великие мастера-зодчие Иктин и Калликрат, а общий надзор осуществлял гениальный Фидий. Работы длились 16 лет.
Широкая мраморная лестница вела на акрополь, расположенный в центре Афин. Здесь находились главные святыни города и хранилась государственная казна. Поднявшись по лестнице, путник подходил к Пропилеям – парадному входу в акрополь. Через Пропилеи «дорога священных процессий» вела на обширную площадь. Здесь высилась гигантская бронзовая статуя Афины-Промахос (предводительницы в битве), отлитая Фидием. Блеск золотого шлема и копья богини видели моряки, находившиеся далеко в море.
Над всеми зданиями акрополя высился Парфенон – храм Афины-девы, великолепнейший из храмов Эллады. Парфенон виден отовсюду: и из любого места Афин, и из афинской гавани Пирей.
Весь Парфенон, вплоть до черепиц крыши, возведен из белого пентелийского мрамора. Длина храма – 69,5 м, ширина – 31 м, т. е. его площадь – 2154,5 кв. м. 40 колонн, в 10,43 м высотой каждая, окружают четырехугольное здание храма.
Треугольные пространства, образованные двускатной крышей (фронтоны), были заполнены скульптурами высокохудожественной работы. На одном из фронтонов было изображено рождение из головы Зевса великой богини Афины, во славу которой и сооружен этот прекрасный храм.
На другом фронтоне путник видел сцену спора между Афиной и колебателем земли, богом морей Посейдоном о власти над Аттикой. Победила в этом споре Афина и стала владычицей Аттики. Тут же великий Фидий изобразил Афину, которая дарует афинянам оливковое дерево – источник благосостояния многих афинских граждан.
Снаружи все четыре стены храма опоясывал широкой лентой барельефный [36]36
Барельеф– скульптурное изображение, выступающее из плоскости менее чем на половину своей толщины. Изображение, выступающее более чем на половину, называется горельеф.
[Закрыть]фриз (пояс). Здесь изображено торжественное, праздничное шествие афинян. Раз в четыре года происходило это шествие, им завершались Панафине́йские празднества. Во время этих торжеств происходили состязания певцов-рапсодов, поэтов, музыкальные и гимнастические соревнования. Победителя награждали лавровым венком, умащивали священным маслом; он получал в дар драгоценную вазу высокохудожественной работы с изображениями сцены состязания и самой богини (панафине́йская амфора). В последний день празднеств процессия поднималась по священной дороге и вступала в храм, чтобы принести там в дар богине сотканное руками знатных афинянок из тончайшей дорогой шерсти одеяние с золотым шитьем – пеплос. Гигантский фриз передавал шествие очень точно – изображенные в мраморе люди казались живыми. Идут девушки с венками из цветов, ведут жертвенных животных, выступают старцы с ветвями оливы в руках, юноши с оружием, победители в состязаниях; вот посольства городов-государств Эллады, прибывшие, чтобы почтить богиню-покровительницу самого богатого и славного города Греции.
Еще изумительнее был отделан Парфенон внутри. В центре его высилась статуя Афины, выполненная Фидием из слоновой кости и золота. Топкие, подогнанные одна к другой пластинки драгоценной слоновой кости покрывали лицо и руки богини. Плащ, шлем и щит Афины были сделаны из золота. Высота статуи – 12 м, она превышала высоту колонн Парфенона, а мраморная плита – подножие статуи – имела 8 м в ширину.
У северной стены акрополя был заложен меньший по размерам изящный храм – Эрехтейон, носивший имя сказочного царя Афин – Эрехтейя и посвященный Афине и Посейдону. С южной стороны вместо колонн портик храма поддерживали статуи юных и прекрасных девушек.
Беспощадное время уничтожило многие памятники древности. В XVII в. турки, владевшие Грецией, устроили в Парфеноне склад пороха, который взорвался, разрушив половину древнего храма. Замечательные рельефы Парфенона выломал и увез в Лондон английский посол в Турции лорд Эльджин (см. об этом в очерке «Открытие Трои»). Но и поныне Парфенон вызывает изумление всех, кто видит это великолепное творение древних художников и зодчих.
При Перикле Афины украсились и другими замечательными зданиями. Специально для поэтических и музыкальных состязаний было построено величественное здание Одеон.
Расцвет архитектуры, искусства и литературы при Перикле говорил о могуществе, богатстве и величии Афин. Но процветание Афин было недолгим. Мощь Афинского государства, вся жизнь афинских граждан, культура и искусство Афин были созданы на эксплуатации труда рабов.
Жизнь рабов была невыносимо тяжелой. Раб так же, как и домашнее животное, должен был обязательно иметь хозяина.
Если афинянин хотел освободить раба за какие-либо заслуги, он должен был заявить, что «дарит раба богу», о чем составлялся особый документ. В таком исключительном случае бывший раб получал свободу и становился вольноотпущенником.
Но не только рабов угнетали Афины. Откуда брались средства на жалованье многочисленным должностным лицам, избираемым народным собранием присяжным-судьям, на раздачу гражданам особых денег на посещение театра и на многое другое? Деньги эти поставляли афинянам их «союзники».
После блестящих побед над персами Афины стали во главе обширного морского союза, провозгласив себя защитниками свободных эллинов от персидских варваров. Но прошло немного лет, и члены союза почувствовали, что эта защита обходится им недешево. За свою помощь афиняне требовали денег, и немалых. Казна союзников, прежде хранившаяся на острове Делосе, была перевезена в Афины, которые распоряжались ею как хотели. Но дело не ограничилось деньгами. Афиняне поставили союзные города под постоянное наблюдение, требовали, чтобы граждане этих городов приезжали судиться в афинский суд, стремились целиком подчинить их власти Афин.
Попытки отдельных городов избавиться от афинской опеки и выйти из союза немедленно пресекались Афинами. В таких случаях афиняне действовали, не останавливаясь перед самыми решительными мерами. Их флот направлялся к берегам непокорного союзника, афиняне высаживались, ставили в союзные города свои гарнизоны, часто отбирали у союзников их земли и селили на них своих вооруженных колонистов.
Нередко дело доходило до военных столкновений. Так, например, когда из состава союза попытался выйти остров Наксос, афиняне начали против него военные действия, вынудили наксосцев сдаться, заставили их выдать свой флот и уплатить большую сумму денег. То же произошло и с островом Фасосом, у которого афиняне отобрали золотые прииски и ряд торговых пунктов на фракийском побережье. Когда фасосцы восстали, афиняне направили против них крупные военные силы и заставили восставших сложить оружие. После этого в главном городе острова были срыты стены и башни, и афиняне заставили Фасос выдать им все оставшиеся военные корабли.
Так же сурово расправились афиняне и с некоторыми другими городами, пытавшимися от них отделиться. Свои собственные военные силы в союзе в дальнейшем продолжали сохранять только острова Лесбос, Хиос и Самос, все остальные союзные города лишились их. Из союзников они фактически превратились в афинских подданных.
С отдельными городами решено было заключить особые договоры. Что это были за «договоры», лучше всего видно из дошедшего до нас соглашения Афин с эвбейским городом Халкидой. Халкидяне поклялись не изменять афинянам ни словом, ни делом, доносить на тех, кто задумает изменить, быть верными союзниками, во всем повиноваться и вносить установленную подать. Такую клятву должны были дать все совершеннолетние халкидяне специально посланному из Афин посольству. Отказавшиеся присягать лишались гражданского звания и имущества. По всем важнейшим делам халкидяне должны были судиться в афинском суде. Чтобы Халкида не вздумала нарушить договор, заложники халкидян должны были остаться в Афинах.
Что же обещали афиняне в свою очередь? Они «обязались» не изгонять, не разорять, не арестовывать и не казнить халкидян… без разрешения своего же афинского народного собрания. Союзники горько шутили, что этот договор похож на договор хозяина с лошадью: «Сперва ты меня повози, а потом я на тебе поезжу».
Поэтому, когда наступило для Афин время тяжелого испытания – война со Спартой и городами возглавляемого ею Пелопоннесского союза, Афинский морской союз в ходе этой войны распался.
Чума в Афинах
(М. Н. Ботвинник)
В театре Диониса шло представление трагедии Софокла «Эдип-царь». В Греции хорошо знали миф об ужасной судьбе Эдипа.
У коринфского царя Полиба не было детей. Однажды пастух, пасший стада этого царя в горах Киферона, отделяющих Коринфский перешеек от Беотии, принес царю Полибу новорожденного мальчика, будто бы найденного им на пастбище. Ножки младенца были окровавлены и опухли: какой-то жестокий человек проколол острым шилом и туго стянул ноги ребенка. Царь Полиб пожалел ребенка, залечил раны на его ногах и усыновил мальчика, назвав Эдипом, что по-гречески означает «пухлоногий».
Эдип вырос в семье Полиба, ничего не зная о своем происхождении и считая себя законным наследником коринфского царя.
Когда Эдип уже был молодым человеком, один из гостей на пиру в доме его отца неосторожно обмолвился, что юноша не по праву считает себя наследником и сыном Полиба. Нежно любивший приемного сына царь Полиб сумел успокоить взволнованного Эдипа. Но все же юноша решил обратиться к дельфийскому оракулу, чтобы божество подтвердило или отвергло слова оскорбителя, назвавшего его «поддельным сыном».
Пифия, предсказательница дельфийского оракула, ничего не ответила Эдипу по поводу его происхождения, но предрекла ему страшное будущее. Эдипу предстоит, сказала она, убить своего отца и стать мужем собственной матери. В ужасе выслушал Эдип слова пифии и тотчас решил сделать все от него зависящее, чтобы пророчество дельфийского оракула не исполнилось. Он не сомневался, что его отцом является коринфский царь Полиб. Ведь оракул не подтвердил оскорбительные слова наглого гостя.
Чтобы сделать невозможным исполнение предсказания, Эдип решил уйти из отчего дома и никогда не возвращаться в область, где правил коринфский царь. Бездомным странником отправился царевич куда глаза глядят, чтобы избежать предсказанной ему страшной судьбы. Много приключений произошло с ним по дороге. В те древние времена путник только силой и смелостью мог отстаивать свою жизнь и имущество. Никакие законы не защищали иноземцев. Если у человека не было родичей, которые стали бы мстить за его смерть, он мог рассчитывать только на собственные силы. Эдипу тоже пришлось бороться за свою жизнь, когда на перекрестке трех дорог на него чуть не наехала колесница, сопровождаемая тремя всадниками. Лишь чудом удалось смелому юноше спасти свою жизнь в возникшей драке. Четверо из его пятерых противников нашли свою смерть в этой битве.
Вскоре странник подошел к цветущему городу Беотии – Фивам. Здесь новая опасность поджидала его. Сфинкс, чудовище с львиным туловищем, птичьими крыльями и головой женщины, останавливал всех проходящих и загадывал им загадку:
– Есть существо на земле: двуногим и четвероногим
Также трехногим бывает, самим оставаясь собою.
Нет ему равного в этом среди всех животных на свете;
Все же заметь: чем больше опор его тело имеет,
Тем все слабее он сам и сила движений слабее.
Никто не мог разгадать загадку чудовища, и оно пожирало путников.
В Фивах в это время не было царя. Старый царь Лаий погиб незадолго до появления сфинкса, и было решено, что царем станет тот, кто избавит Фивы от чудовища.
Мудрый юноша Эдип сумел разгадать загадку сфинкса. «Человек, сказал он, – такое существо, о котором говорится в загадке. Первый год жизни, совсем еще слабый, он четвероногий так как не ходит, а ползает. В зрелом возрасте твердо и быстро шагает он по земле на двух ногах. Состарившись, человек становится слабее и нуждается в третьей опоре – посохе. Тогда он превращается в трехногого».
Когда чудовище убедилось, что его загадка разгадана, оно бросилось в пропасть, и жители Фив получили возможность выходить за стены города и ездить в чужие страны.
Радостно встретили фиванцы Эдипа и сделали его своим царем дав ему в жены вдову Лаия, красавицу Иокасту.
Прошло около 15 лет. Фивы под властью Эдипа процветали и жители славили мудрого правителя. Внезапно гнев богов обрушился на страну. В Фивах началась чума…
С описания страшных бедствий, вызванных болезнью, началась трагедия Софокла, которую только что смотрели афиняне. Трудно было придумать начало, которое так сильно подействовало бы на зрителей, как описание несчастий, причиняемых чумой. Ведь эта страшная болезнь свирепствовала и в Афинах. Слушая стихи Софокла о «яростных волнах болезни, захлестнувших город», каждый афинянин думал о собственном горе и, следя за судьбой мудрого и справедливого Эдипа, сравнивал ее с участью Перикла недавно еще бывшего первым гражданином Афин.
Мудрый Перикл так же, как Эдип, много лет счастливо правил в родном городе. Он был кумиром сограждан; афиняне называли его «Олимпийцем», приравнивая к бессмертным богам Как опытный кормчий, твердой рукой вел он Афинское государство среди всех трудностей и опасностей. Не раз Афины, казалось были на краю гибели и избегали ее только благодаря уму и предусмотрительности Перикла. Но вот началась война со Спартой. Перикл давно понял что это столкновение неизбежно, и заблаговременно подготовил Афины к предстоящей борьбе. Длинные стены соединяли город с гаванью, и, господствуя на море, афиняне могли выдержать долгую осаду. Напасть на Спарту Перикл решил с моря, высаживая войско в Пелопоннесе и поднимая восстания илотов.
Вначале военные действия развертывались так, как предполагал Перикл.
Однако на второй год войны, летом, случилось то, чего ни Перикл да и никто другой не мог предвидеть. В городе вспыхнула эпидемия чумы. Эта непредвиденная беда подорвала авторитет Перикла. Его привлекли к суду, отстранили от занимаемой должности и подвергли большому штрафу.
Несчастья одно тяжелее другого преследовали Перикла. Его ближайшие друзья, родная сестра, наконец, оба сына умерли от чумы. Раньше Периклу никогда не приходилось переживать сколько-нибудь значительных неудач или несчастий, и теперь, когда беды посыпались на него одна за другой, он пал духом. Правда, сограждане через несколько месяцев снова избрали его первым стратегом и доверили управление государством, но Перикл уже не сумел оправиться от обрушившихся на него ударов. Через два с половиной года после начала войны Перикл умер.
Чума, поразившая Афины, продолжала свирепствовать уже второй год. Все приметы чумы, все несчастья, которые постоянно происходят в городе, охваченном эпидемией, были известны каждому афинянину. Переживший это бедствие афинский историк Фукидид записал все виденное им так точно, что и сейчас, читая его лишенное прикрас описание, можно ясно представить картину города, в котором свирепствует страшная болезнь.
«Болезнь, – пишет Фукидид, – начиналась у всех одинаково: краснели глаза, распухала гортань и дыхание человека становилось зловонным. Кожа синела, и на ней появлялись пузыри и нарывы. Жар был настолько силен, что больному казалось невыносимым прикосновение самой легкой одежды. Обезумевшие от жара люди в поисках холодной воды нагими выскакивали на улицу, бросались в колодцы и там тонули. Чума распространилась даже на птиц и собак, живших среди людей и переносивших болезнь из дома в дом. Врачи были бессильны против этого бедствия: они сами заражались и умирали».
Распространению эпидемии способствовала скученность населения. Крестьяне, изгнанные из деревень войной со Спартой, бежали под защиту надежных афинских стен и жили в палатках и выстроенных наспех шалашах посреди улиц, на площадях и даже на храмовых участках, хотя храм и прилегавший к нему священный участок считались местом, которое посещает бог, и поселение здесь людей было оскорблением божества. Самым страшным, по представлению древнего грека, было осквернение святилища смертью. Оскорбленное присутствием покойника божество могло покинуть храм и лишить город своего покровительства. Крайне редко случалось прежде, чтобы человек умер, а тем более был убит в святилище.
Сотни лет вспоминали жители такое событие и виновников «святотатства» обычно изгоняли из города и даже потомкам их запрещали возвращаться на родину. А в этот страшный год люди в Афинах ежедневно умирали повсюду: на площадях, улицах и даже на ступенях храмов.
Умирающие лежали вперемежку с трупами или ползали no улицам, мучимые непрерывной жаждой. У людей иногда не было сил похоронить своих близких как полагается. Каждый совершал похороны как мог. Многие ждали, когда будут сжигать какого-нибудь богача, чтобы бросить тело своего родича в чужой костер. Находились и такие, которые, захватив чужие, приготовленные для погребального костра дрова, совершали погребальный обряд раньше, чем успевали прийти те, которыми костер был сложен. Вера в богов пошатнулась у афинян. Разуверившись в могуществе богов, люди отваживались на такие дела, о которых раньше не смели и помыслить. Их не удерживал страх перед богами или законами. Никто не надеялся дожить до того момента, когда он сможет понести наказание за свои преступления. Некоторые стремились взять от жизни хоть что-нибудь, прежде чем их настигнет смерть.
Спартанцы, осаждавшие Афины, боялись, как бы эпидемия не перекинулась в их войско, и увели своих воинов назад в Пелопоннес. Афинские крестьяне получили возможность расселиться по деревням, но чума в Аттике, хотя и пошла на убыль, все-таки не прекращалась.
Наступил март, когда в Афинах было принято справлять праздник весны – Большие Дионисии. Граждане, как обычно, собирались в театре Диониса, расположенном у подножия акрополя, и, забыв о своих горестях, с напряжением следили за событиями жизни Эдипа. Казалось, что трагедия Софокла рассказывает не о далеком и легендарном прошлом, а о сегодняшнем дне. Зрители с напряжением ждали, что произойдет дальше. Перед ними развертывалось окончание страшной сказки, вторая часть мифа об Эдипе.
…Только что вернулось посольство, направленное в Дельфы, чтобы узнать причину чумы, бросившей жителей Фив в пучину бедствий. Дельфийское божество приказало найти до сих пор ненаказанных убийц предшественника Эдипа, царя Лаия, и отомстить за совершенное злодеяние изгнанием их из родной земли. Эдип энергично принимается за розыски. Он удивлен, что убийцы не были разысканы сразу же после совершения преступления. Брат его жены, царицы Иокасты, Крео́нт, правивший Фивами до прихода Эдипа, напоминает царю, что после гибели Лаия Фивы подверглись нападению чудовищного сфинкса и нависшая над городом опасность заставила забыть о розыске убийц.
Слуга, сопровождавший покойного царя, рассказал, что царь был убит многочисленной шайкой разбойников, разыскивать которую в тот момент не было никакой возможности. Теперь найти преступников стало еще труднее. По совету Креонта Эдип прибегает к обычному в те времена способу – призывает местного прорицателя, древнего Тире́сия, про которого говорят, что он хотя и слеп, но видит больше, чем иные зрячие. Однако на этот раз Тиресий упорно отказывается помочь в розысках убийц. Эдип не может понять упорства прорицателя. Он подозревает, что Тиресий связан с убийцами, и осыпает слепого старика градом упреков. Разгневанный прорицатель не желает больше молчать. В ответ на упреки царя он называет Эдипа убийцей Лаия. Эдипу ни на минуту не приходит в голову, что обвинение выдвинуто Тиресием серьезно. Он подозревает, что брат Иокасты Креонт, посоветовавший вызвать Тире́сия, подговорил предсказателя обвинить Эдипа, чтобы захватить власть в Фивах. Может быть, Креонт, стремясь к власти, сам нанял убийц, покончивших с Лаием, и умышленно не довел расследование до конца. Страшными словами проклинает Эдип убийцу покойного царя, навлекшего своим преступлением чуму на город, и клянется разыскать его, чего бы ему это ни стоило. Зрителям трагедии становится жутко от этих проклятий. Почти каждый из них знает или хотя бы подозревает, кто окажется убийцей.
Целью Эдипа, помимо розысков убийц, становится борьба с Креонтом, в котором он видит вдохновителя преступления. Пришедшего к нему Креонта он встречает угрозою предать его немедленной казни. Креонт защищается, но Эдип не желает слушать его оправданий.
В этот момент появляется жена Эдипа, сестра Креонта – Иокаста. «Не время сейчас, в годину народного бедствия, сводить личные счеты», – обращается она к брату и мужу. Креонт клянется, что Эдип несправедливо обвинил его в злом умысле. Иокаста советует Эдипу не обращать внимания на пророчества Тиресия. Желая успокоить и утешить царя, она рассказывает ему, какое нелепое пророчество было дано покойному царю Лаию. Жрецы в Дельфах предсказали ему, что он умрет от руки собственного сына. Жестокий отец, чтобы сделать невозможным исполнение пророчества, приказал убить сына, пока тот был еще младенцем. Но это страшное дело, признается Иокаста, Лаий совершил напрасно. Пророчество оказалось лживым. Лаий не был убит сыном, а погиб на перекрестке трех дорог от рук разбойников.
Рассказ жены не успокоил Эдипа. Впервые у него появилось подозрение, что, разыскивая убийцу Лаия, он ищет самого себя.
– О, как мне слово каждое твое
Тревожит душу и смущает сердце, —
говорит царь жене. В его памяти встает забытая картина схватки, которую ему пришлось выдержать. Эдип расспрашивает жену, как выглядел ее первый муж и с кем отправился он в свое последнее путешествие.
С ужасом узнает Эдип в описании Иокасты того высокого человека, которого он убил на перекрестке дорог вместе с тремя спутниками. Эдип рассказывает жене обо всем, что с ним произошло тогда. «Боюсь, – говорит он, – слепой провидец был прав, назвав меня убийцей Лаия».
Одно только успокаивает Эдипа, дает ему право не признавать обвинение прорицателя: ведь единственный спасшийся слуга Лаия утверждал, что царь и его спутники убиты «несметной силой рук» целой шайки разбойников, а Эдип хорошо знает, что он был один, когда сражался со старцем в повозке и с его спутниками, мужественно сражался один против пяти. Необходимо разыскать этого единственного свидетеля смерти Лаия. Только он один может, подтвердив свои прежние слова, снять с Эдипа тяжкое подозрение. Тщетно Иокаста уговаривает Эдипа прекратить поиски убийцы. Она страшится, что розыски принесут Эдипу лишь новое горе.
Но царь неумолим. Пусть виновником несчастья окажется он сам, но он должен довести дело до конца, избавить Фивы от страшной чумы. В этом его долг правителя. Он посылает за видевшим смерть Лаия слугой, который, как сообщила Иокаста, покинул после воцарения Эдипа дворец и пасет стадо далеко в горах. Со страхом ожидают Эдип и Иокаста решения своей судьбы. Этот момент наивысшего напряжения, когда зрители с нетерпением ждут решения вопроса о виновности героя трагедии, Софокл сумел продлить умышленным замедлением, новой перипетией, как говорили греки. Неожиданно к дворцу Эдипа подходит прибывший из Коринфа вестник. Он сообщает, что умер коринфский царь Полиб и жители просят Эдипа вернуться и стать их правителем. В душе Эдипа, хотя и опечаленного смертью нежно любимого отца, вновь проснулись надежды. Предсказание дельфийского бога не исполнилось. Не он, Эдип, убил Полиба; может быть, и Лаий пал не от его руки, и тогда ему еще удастся найти истинного убийцу и спасти жителей Фив от страшной болезни.