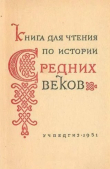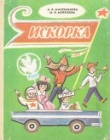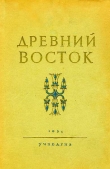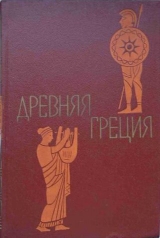
Текст книги "Древняя Греция. Книга для чтения. Под редакцией С. Л. Утченко. Издание 4-е"
Автор книги: Сергей Утченко
Соавторы: Елена Штаерман,О. Юлкина,Ирина Шишова,Борис Селецкий,Соломон Лурье,Александра Нейхардт,Марк Ботвинник,Дмитрий Каллистов
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 24 страниц)
Хотя смерть Полиба доказала Эдипу, что предусмотрительный человек может избегнуть своей судьбы, Эдип решил отклонить предложение коринфян стать их царем. Оставалась ведь вторая часть дельфийского предсказания: брак Эдипа с родной матерью. Вдруг боги нашлют на него безумие или потерю памяти, и он с помраченным разумом исполнит страшное предсказание и женится на вдове Полиба. Нет, лучше жить вдали от матери. Этими опасениями Эдип поделился со стариком, принесшим ему известив о смерти Полиба. Вестник издавна был своим человеком в доме коринфского царя.
Услышав слова Эдипа, старик засмеялся; сейчас он освободит Эдипа от страха, преследующего его всю жизнь, даст ему великое счастье – право вернуться на родину. И старец сообщает ошеломленному Эдипу, что Полиб вовсе не был его отцом, а жена Полиба не его мать. Младенцем был Эдип найден в горах с проколотыми и связанными ногами. Старец знает это очень хорошо. Ведь это он, служивший тогда пастухом у коринфского царя, развязал ребенку туго стянутые ноги и отдал его бездетному царю Полибу.
Старик удивлен, что его слова, возвращающие Эдипу право вернуться на родину, не вызвали никакой радости. Отчего так испугалась Иокаста, жена Эдипа? Для нее теперь все ясно; она хорошо помнит, что жестокий Лаий, когда ему предсказали, что он умрет от руки рожденного ею сына, передал его пастуху, проколов и связав ножки младенцу, и приказал бросить ребенка в горах Киферона. Каждое слово коринфянина, рассказывавшего о ранах на ногах младенца, о фиванце, передавшем ему ребенка, причиняет Иокасте мучительную боль. Она умоляет мужа прекратить расспросы. «Довольно и того, что я страдаю», – убеждает она мужа, но Эдипа уже невозможно остановить. Он даже не замечает горя жены, ему необходимо выяснить, кто же его настоящие родители.
Наступает трагическая развязка. Приходит вызванный Эдипом свидетель смерти Лаия. Он испуган предстоящим допросом: ведь чтобы оправдать свое позорное бегство, он обманул всех, придумав рассказ о нападении целой шайки разбойников. Теперь, возможно, его ждет расплата за трусость и обман. Но, подойдя к Эдипу и увидев прибывшего из Коринфа вестника, слуга испугался еще больше. Он сразу понял, что ему грозит еще одно наказание за старый проступок – нарушение приказа, которое, как он думал, никогда не будет открыто.
Когда-то Лаий призвал его к себе и приказал ему бросить в горах израненного младенца, а он, пожалев ребенка, передал его пастуху из соседней страны. Пастух обещал забрать мальчика на свою родину. Слуга был уверен, что никогда не увидит больше ни этого пастуха, ни ребенка и никто не узнает, что он ослушался своего господина. И вот теперь он узнает в прибывшем из Коринфа вестнике человека, взявшего из его рук сына Лаия. Отпираться бесполезно. Вестник тоже сразу узнал пастуха, передавшего ему Эдипа. Но Эдип не собирается наказывать неверного слугу. Впервые он до конца осознал весь ужас своей судьбы. Теперь ясно, что это он сын Лаия и Иокасты. Может ли он, убивший своего отца и женатый на родной матери, осуждать кого-нибудь? Есть ли на свете более тяжелые преступления? Предсказания дельфийского оракула исполнились. Иокаста не в силах перенести позор, на который ее обрекла судьба, покончила с собой. Эдип, сорвав застежку с одежды Иокасты, выколол себе глаза, чтобы исполнить приговор, вынесенный им самому себе. Он не смеет уйти из жизни и должен нести расплату за невольно совершенные им преступления. Последние стихи трагедии обращены к зрителям:
… Вот пример для вас – Эдип:
Он загадок разрешитель и могущественный царь;
Тот, на чью судьбу, бывало, каждый с завистью глядел,
Он низвергнут в море бедствий, в бездну страшную упал!
Значит, смертным надо помнить о последнем нашем дне!
И назвать счастливым можно, очевидно, лишь того,
Кто достиг предела жизни, злого горя не познав.
Трагедия окончена. Зрители, покидающие театр Диониса, выходят на площадь. Много мыслей пробудил в них страшный конец трагедии. Виновен ли Эдип и справедливо ли постигшее его бедствие? Споры об Эдипе тотчас же переходят в споры о Перикле, судьба которого казалась афинянам сходной с судьбой фиванского царя.
Теперь, когда Перикл умер, многие не скрывают той ненависти, которую вызывал у них вождь афинской демократии.
В толпе афинян, выходивших из театра, особое внимание привлекали три громко споривших человека: один из них, судя по одежде, был моряком, другой, пожилой, крестьянином, третий, державшийся несколько в стороне, резко отличался от них щеголеватой одеждой и был, по-видимому, аристократом.
– Мышь рылась, рылась, да и дорылась до кошки, – громко говорил он, обращаясь к спутникам, – хотел Эдип узнать правду, вот и пришлось выколоть себе глаза и пуститься по белу свету нищенствовать. Да и поделом ему. Навлек на город чуму. Сколько людей погибло из-за него одного… Так и у нас. Затеял Перикл войну со спартанцами, и вот поля наши в запустении: все крестьяне спрятались за стенами города, а спартанцы хозяйничают на нашей земле. Софокл хорошо показал всем в своей трагедии, что прорицаниям надо верить. Ведь и у нас болезнь возникла потому, что мы прогневили богов. Дельфийский оракул давно предсказал афинянам: «Наступит со Спартой война и чума вместе с нею». Перикл не побоялся предсказания, и божество покарало его. Да и мы хороши, сколько времени терпели в Афинах отродье Алкмеонидов. Все потомки отвечают за преступления своих родичей. Ведь один из потомков Алкмеона – предка Перикла – совершил страшное преступление: перебил людей, искавших защиты у священного алтаря богинь. С тех пор весь этот род проклят богами, а мы еще поставили Перикла главой города. За это и чума!
– Оракулы и предсказания здесь ни при чем, – резко возразил моряк. – Чуму завезли к нам из Египта. Там эта болезнь вспыхнула раньше, чем у нас, хотя египтяне не нарушали религиозных законов и никакие оракулы не предрекали им беду. Не случайна у нас, в Аттике, болезнь началась в гавани – в Пирее, куда прежде всего попадают приезжающие из Египта. Из Пирея эпидемия распространилась и в Афины. Перикл и Алкмеониды не могли вызвать появление этой болезни, так как чума началась не в городе, где они живут. Что же касается Софокла, то, пока Перикл был жив и могуществен, поэт никогда не выступал против него. Софокл считался его ближайшим другом, всегда голосовал за все его предложения и даже вместе с ним участвовал в военном походе. Из трагедии Софокла вовсе не следует, что автор осуждает Эдипа. Эдип не жалел себя, отыскивая причины постигшей город болезни. Он не виноват в том, что навлек на город несчастье. Эдип не преступник, а жертва судьбы, с которой он мужественно боролся.
– Неважно, где началась эпидемия, – сухо возразил аристократ. – Сейчас поэт вовремя напомнил афинянам о том, что воля богов сильнее всякой государственной мудрости. Демократия, которую насаждал Перикл, привела к тому, что люди забыли установленные богами старинные порядки и древнее благочестие, и государство наше идет к гибели.
– Ну, не скажи, приятель, – неожиданно заговорил внимательно слушавший его речь крестьянин. – Каждый честный человек должен защищать демократический строй. Демократия дала мне землю, орудия, чтобы ее обрабатывать. Теперь у нас правый суд, и такие, как ты, не могут больше безнаказанно притеснять крестьян. Ни один здравомыслящий человек в Афинах не станет сейчас верить предсказаниям дельфийского оракула. Все знают, что жрецы в Дельфах открыто встали на сторону спартанских аристократов. Поэтому-то они и сулят нам чуму, голод и другие несчастья, если мы не смиримся перед спартанцами. Нет, раз уж война началась и дома наши разорены, мы не дадим себя запугать и отомстим за все наши страдания.
Старый крестьянин был прав. Трагедия «Эдип-царь» понравилась народу не за то, что автор убеждал почитать дельфийского оракула, все самые невероятные предсказания которого исполнялись в его драме чудесным образом. Таких трагедий, доказывающих мудрость предсказателей и всесилие богов, афиняне и раньше видели немало.
Софокл первый показал человека, который пытается бороться с предсказанной ему судьбой, не смиряется под ее ударами и не сдается, даже когда самые тяжелые беды постигают его. Эдип сам обрек себя на слепоту, чтобы не смотреть на невольно причиненное им людям горе, но он не пытается трусливо уйти из жизни. Он гордо идет навстречу своему горькому будущему, не прося пощады, уверенный, что, даже лишенный зрения, он еще будет полезен людям и искупит совершенное им зло.
Зрители покидали театр Диониса, веря в силу и могущество человеческой воли.
Пускай сегодня на Афины, как некогда на Эдипа, обрушиваются всевозможные несчастья, афиняне сумеют перенести их, не отступая перед врагами. Может быть, через тысячи лет описание их бед так же, как и трагедия об Эдипе, покажет грядущим поколениям, что мужество помогает преодолевать самые жестокие и нежданные удары судьбы.
Мечта о мире
(М. Н. Ботвинник)
Невесело справляли афиняне праздник Ленеев [37]37
Празднество в честь бога вина и виноделия Диониса, приуроченное к получению свежего вина («ленос» по-гречески – пресс для выжимания винограда).
[Закрыть]в январе 425 года до н. э. Зима в Греции не суровая: редки морозы, почти никогда не бывает снега, но афинянам, привыкшим к долгому лету и безоблачному небу, даже обычные в зимнее время холодные ветры с моря, дожди и туманы кажутся чересчур сильными. В афинских домах нет печей, жители греют руки над маленькими жаровнями с горящим углем, жаровни с углем стоят кое-где и на улицах.
В Афинах не по-праздничному пусто. Шестой год тянется опустошительная пелопоннесская война. Многие из соседних государств, жители которых обычно посещали веселые Афины по праздникам, – Беотия, Мегары – теперь воюют на стороне врага; из союзных Афинам государств также мало кто приехал на праздники; большая часть земель союзников расположена далеко от Афин, а пускаться в далекие путешествия не позволяют военные действия.
Огромный театр Диониса в Афинах, вмещающий 17 тысяч зрителей, не полон, но народу в нем все-таки много. Здесь почти все взрослое и свободное мужское население Афин (женщин, детей и рабов в театр не пускают). Вход платный, но и бедняки из числа свободного населения Афин имеют возможность пойти в театр: по закону все они получают денежное пособие на покупку театральных билетов.
Театр расположен на склоне большой горы, возвышающейся над Афинами, у афинской крепости – акрополя. Представление происходит днем – театр расположен под открытым небом и не имеет крыши. Он напоминает современный цирк: места для зрителей, амфитеатр, уступами спускаются к открытой круглой площадке посреди театра – орхестре. На орхестре выступают артисты и хор, участвующий во всех спектаклях: и в трагедиях, и в комедиях. За орхестрой маленькое помещение для переодевания актеров – скене; скене закрыта от взоров зрителей колоннами – проскением. К проскению прислонено несколько досок, на которых нарисованы стены домов. Это своего рода декорация.
Театр гудит – представление началось с утра, и зрители уже просмотрели две пьесы – грубоватую, но смешную комедию Кратина и остроумную комедию Эвполида. После окончания третьего, последнего представления группа из десяти человек, выбранных по жребию (по одному от каждой филы), присудит награду за лучшую пьесу. Кто выйдет победителем? Вероятно, один из прославленных авторов – Кратин или Эвполид. Третий автор, Аристофан, пьеса которого пойдет последней, еще молод, он даже не решается выступать под собственным именем. Пьесы его ставятся от имени почтенного актера Каллистрата, но многие знают, что в действительности автор их – Аристофан. Несмотря на свою молодость (ему всего 25 лет), он уже получил известность: в прошлом году Аристофан написал дерзкую комедию «Вавилоняне», в которой критиковал политику афинян, грабивших своих «союзников». «Союзников» он изображал в виде несчастных вавилонских рабов, а вождя демократической партии Клеона – в виде надсмотрщика над рабами. Всесильный Клеон легко узнал, кто настоящий автор пьесы, и Аристофан был вызван в суд. С большим трудом ему удалось избежать наказания.
Представление начинается. Выступив на середину орхестры, глашатай громким голосом восклицает: «Каллистрат! Введи свой хор!» На орхестру выходит Каллистрат, за ним хор из 24 человек. По амфитеатру пробегает легкий шум: на хористах зрители узнают знакомые одежды крестьян, жителей одного из селений в Аттике – Ахарны. Когда-то ахарняне пользовались большим почетом в Афинах – они доставляли в город уголь, необходимый в зимнее время. Теперь Ахарны выжжены и опустошены врагом – обездоленные жители переселились в Афины. Их хорошо знают в городе, когда-то важных и зажиточных, теперь голодных и оборванных, вечно жалующихся на разорительную войну, но живущих ненавистью к пелопоннесцам и мечтами о победе. Их и сейчас много в театре. Хор новой пьесы будет изображать ахарнян, и сама пьеса называется по названию хора – «Ахарняне».
Хор ахарнян проходит через орхестру, и снова она пуста. На пустой площадке в задумчивой позе сидит только один человек, в такой же крестьянской одежде, как и хористы. Это главный герой комедии, старый крестьянин Дикеополь, а площадка, на которой он сидит, изображает Пникс, площадь, где собирается афинское народное собрание.
Дикеопель скучает. По своей крестьянской аккуратности он пришел на Пникс очень рано, а горожане еще и не думают собираться: большинство из них еще только встает. Старик ворчит, он недоволен городской жизнью, бранит проклятую войну, пригнавшую его в город. Но вот орхестра наполняется людьми, толкающими друг друга и дерущимися из-за лучших мест. Глашатаи созывают народ на площадь, огороженную веревкой; собрание начинается. Дикеополь многого ждет от этого собрания – может быть, он узнает там, когда, наконец, кончится война. Но нет! – собрание занимается не вопросами мира, а новыми военными союзами. На Пникс торжественно является посол персидского царя Лже-Артаб – «Царев Глаз»; он принес ответ царя на просьбу афинян помочь им и прислать деньги для войны со Спартой.
Появление на орхестре персидского посла вызывает громкий смех зрителей. «Царев Глаз» пышно разодет в персидский костюм; на голове у него маска с огромным глазом. Вдобавок говорит он на каком-то непонятном языке, из которого с трудом можно разобрать только, что у персидского царя денег для Афин нет. Один из зрителей, старик, в такой же, как у Дикеополя, деревенской одежде, вздыхает. Ему не нравится, что афиняне обращаются за помощью к персам – к тем самым персам, с которыми он, старик, когда-то воевал, но что же делать, как одолеть Спарту, где найти средства окончить войну?
Но Дикеополь, оказывается, нашел такое средство. Недовольный затянувшейся войной, он решается на неслыханное дело: Дикеополь один, лично от себя, отправляет посла к врагам Афин и предлагает им заключить мир. Спартанцы, оказывается, тоже хотят мира: посол приносит Дикеополю в трех бутылках, будто вино, «три сорта» мира. В одной бутылке мир на пять лет, в другой – на десять, в третьей – долгий, тридцатилетний мир.
Первая бутылка не нравится Дикеополю – пятилетний мир, по его словам, пахнет смолой: надо уже заранее готовиться к новой войне и смолить корабли. Вторая бутылка тоже недостаточно хороша; зато третья, в которой долгий, прочный мир, лучше всех. Он решает: пусть остальные афиняне воюют, он, Дикеополь, заключает мир.
На орхестре появляется хор. Это ахарняне, возмущенные предательством Дикеополя. Как смеет он заключать мир с врагом, разрушившим их дома и разорившим виноградники? Они хотят побить Дикеополя камнями. Но Дикеополь оправдывается. Пусть только его выслушают, и он докажет, что не за что так ненавидеть спартанцев, не они одни повинны в войне, афиняне сами во многом виноваты перед Спартой, всем им следует кончить войну и заключить мир.
Тут уже начинают возмущаться не только артисты в хоре, но и зрители в амфитеатре.
– Ишь ты! – кричит тот старик, который вздыхал, глядя на персидского посла. – Мириться с ними хочет! А мои виноградники вытоптаны!
Восклицания раздаются с разных мест: возмущаются Дикеополем, возмущаются и автором пьесы Аристофаном.
– Тише! – говорит зритель поспокойнее. – Дайте ему говорить. Пусть он объяснит, пусть защитит своих милых спартанцев.
Но Дикеополь не торопится. Чтобы говорить такую речь, чтобы убедить упорных ахарнян, грозящих ему смертью, а заодно и зрителей, ему надо как следует приготовиться и приодеться. Он решает пойти к Еврипиду, автору трагедий, занять у него подходящий наряд для выступления в защиту своих взглядов…
Автор трагедий Еврипид был в то время знаменит. Любимыми героями его трагедий («Медея», «Ипполит», «Ион» и другие) были несчастные, одинокие люди, гибнущие под ударами судьбы; таким же одиночкой, мрачно смотрящим на жизнь, был и сам Еврипид.
Аристофан не любил Еврипида; крепко связанный со старым крестьянским бытом Аттики, он возмущался тем, что Еврипид не считается с этим бытом, не уважает его. Уже в первых своих комедиях Аристофан стал осмеивать вечные страдания героев Еврипида, их замысловатые ученые речи, всевозможные театральные машины, которые охотно использовал Еврипид, чтобы произвести большее впечатление на зрителей.
Дикеополь идет к дому Еврипида. Уже раб Еврипида, встречающий его на пороге, не похож на обыкновенных рабов: на вопрос, где Еврипид, он отвечает: «И дома, и не дома», – понимай, как знаешь! Оказывается, Еврипид дома, но слишком занят, чтобы выйти! Но Дикеополь умоляет принять его, и Еврипид, наконец, соглашается «выкатиться» с помощью специальной машины. Проскений раскрывается, и на орхестру выкатывается целая платформа на колесах. На ней, задрав ноги кверху, сочиняет свои трагедии Еврипид. Дикеополь умоляет дать ему лохмотья какого-нибудь из несчастных героев Еврипида: ему надо разжалобить хористов и зрителей, чтобы они его выслушали. «Какого же?» – спрашивает Еврипид. У него все герои несчастные и все в лохмотьях. Дикеополь берет рваный плащ одного героя, нищенскую шапку другого, клюку третьего, дырявую корзину четвертого и до тех пор клянчит и пристает к Еврипиду, пока тот не прогоняет его.
Теперь все приготовления окончены. Одетый в лохмотья, готовый к смерти, если ему не удастся убедить слушателей, Дикеополь начинает защитительную речь. Он больше не шутит, он серьезен. Он тоже пострадал от спартанцев не меньше, чем остальные, ему не за что их любить. Но ведь здесь все свои, на праздник Ленеев не приехал никто из чужих. Зачем же скрывать? Ведь в войне повинны не только одни пелопоннесцы. Не афиняне ли первые начали вражду, запретив торговлю с Мегарами и захватив мегарские товары? Что же было делать мегарцам, как не обратиться за помощью к спартанцам? Если бы кто-нибудь захватил афинские товары, разве афиняне не начали бы воевать? Да разве в Афинах нет людишек, которые рады раздувать войну, так как она приносит им выгоды? Посмотрите на них – раньше у них гроша за душой не было, а теперь они наживаются на войне, получают награды, должности…
– Но их выбрало народное собрание! – кричит с места какой-то хорошо одетый зритель, видимо, один из тех, в кого метит Дикеополь.
– Три кукушки выбрали! – отвечает Дикеополь. – Почему всегда выбирают тех, кто похитрее и половчее, а честных людей не выбирают? – Дикеополь поднимает голову и обращается прямо к амфитеатру, к зрителям:
– Вот ты, например, Марилад, – кричит он старику, который протестовал против мира со Спартой, – ты честный человек, ты защищал родину под Марафоном, а тебя выбирали когда-нибудь в послы или на другую выгодную должность?
– Нет! – отвечает старик с места.
– А тебя, Дракил?
– Нет! – слышится с другой скамьи амфитеатра.
– А тебя, Евфорид? Тебя, Принид?
– Нет! Нет! – разносится по театру. Зрители волнуются, в разных концах театра начинаются споры и даже потасовки. Комедия задела афинян за живое, заставила вспомнить о многих бедствиях и несправедливостях, которые им пришлось вытерпеть не от врага, а от своих же сограждан.
Представление продолжается. Покончив с войной, Дикеополь теперь начинает пользоваться всеми выгодами мира. К нему, единственному афинянину, который не воюет, приходят с товарами жители пелопоннесских городов. Вот они, эти «враги», «чужеземцы», такие же измученные войной, такие же изголодавшиеся, как и сами афиняне! Вот мегарец – ему нужна афинская соль, чеснок и смоквы, но продать ему нечего; он решает продать Дикеополю под видом поросят своих дочерей. Они и сами мечтают о сытной еде, о теплом крове, при виде смокв, маслин и других вкусных вещей они принимаются изо всех сил хрюкать. Вот беотиец, он принес множество товаров и в том числе любимое лакомство афинян – маринованного угря, но взамен он требует того, чего «нет в Беотии, а есть в Афинах».
Что могут предложить беотийцу обедневшие Афины? Дикеополь догадывается: он продает беотийцу доносчика, всюду вынюхивающего измену и на всех ябедничающего, – этого добра в Афинах довольно, и от него не жалко избавиться!
– Да на что он ему? – спрашивает один из участников хора.
– Ладно, – говорит беотиец. – Посажу в клетку вместо обезьяны.
Амфитеатр гремит, хохочет. Афиняне забыли, что они только что возмущались Дикеополем и автором пьесы, забыли усталость после целого дня в театре, забыли даже свои повседневные заботы и огорчения. Сейчас они поглощены той чудесной сказкой о мире, которую показал им Аристофан, мечтой о прекрасном времени, когда кончится, наконец, война.
А Дикеополь торжествует. Сытый и беззаботный, он идет к друзьям на веселую пирушку и смеется над горе-воякой, полководцем Ламахом, отправившимся на войну и свалившимся по дороге в канаву. Веселой песней Дикеополя и печальным оханьем Ламаха кончается комедия…
Возбужденные и веселые возвращаются зрители домой по темнеющим афинским улицам. Первую награду за лучшую комедию получил молодой Аристофан, дерзко выступивший за мир во время войны и сумевший внушить зрителям такую же мечту о мире. Сейчас они вместе с Аристофаном верят в близость мира, в возможность его заключения.
Но уже завтра они будут думать иначе, уже завтра они поймут, что дело не так-то просто, как говорит Аристофан. Конечно, большинство пелопоннесцев, так же как афиняне, хочет мира, конечно, и в Афинах, и всюду есть люди, нарочно разжигающие войну. Но может ли существовать Афинское государство без привозного черноморского хлеба, без заморских колоний и подневольных «союзников»? Господство Афин над морем приносит большие выгоды богачам, но кое-что получают и небогатые граждане, почти все, кроме рабов, которых не пускают в театр и у которых не спрашивают их мнения о войне и мире. А другие государства не могут допустить господства Афин над морем. Войны становятся неизбежными.
Мечта Аристофана о мире не осуществилась. Правда, через четыре года после постановки «Ахарнян» Афины заключили долгожданный мир с пелопоннесцами. Аристофан написал по этому поводу комедию «Мир», где рассказывал, как крестьянин Тригей верхом на жуке взлетел на небо и там освободил богиню Мира из пещеры, куда ее заточил Раздор. Но мир 421 года оказался как раз таким миром, о котором Дикеополь говорил, что он пахнет смолой и подготовкой новой войны. Война возобновилась очень скоро после заключения этого мира.